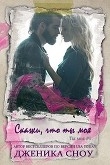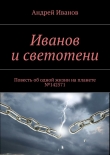Текст книги "Воспоминания. Книга об отце"
Автор книги: Лидия Иванова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
12 января 1927 г. Вячеслав каллиграфически переписывает на бумаге с гербом князей Борромео написанное как «приложение» к письму № 16, стихотворение «Собаки». (Письма на почте иногда терялись, поэтому Вячеслав их нумеровал.)
Visaeque canes ululare per umbram.
Vergil. Aen.vi. 257.
Ни вор во двор не лезет, ни гостя у ворот:
Все спит, один играет огнями небосвод.
А пес рычит и воет, и будит зимний сон;
Тоскливые загадки загадывает он.
Быть может, в недрах Ночи он видит прежде нас,
Что́, став недвижно, очи в последний узрят час?
Иль слыша вой зазывный родных подземных свор,
С их станом заунывный заводит разговор?
Резва в полях пустынных, где путь лежит теней,
Их бешеная стая: «летать бы, лая, с ней»…
Иль есть меж полчищ Ада и ратей Дня вражда,
И псу, как волчье стадо, его родня чужда?
И за кого б на травле вступился страж людской?
За странницу ли Душу, зовущую покой?
Иль гнал бы, ловчий сильный, ее чрез топь и гать?
И пастию могильной рвался бы растерзать?..
Блажен, кто с провожатым сойдет в кромешный мрак:
Махнув жезлом крылатым, вождь укротит собак.
И скоро степью бледной на дальний огонек
Придет он в скит к обедне и станет в уголок.
И взора не подымет на лица вкруг себя:
Узнает сердце милых, и тая, и любя.
А вот и Сам выходит, пресветлый, на амвон
И Хлеб им предлагает, и Чашу держит Он.
И те за Хлебом Жизни идут чредой одной;
И те, кто Чаши жаждут, другою стороной…
Молчанье света! Сладость! Не Гость ли у ворот?..
Немеет ночь. Играет огнями небосвод [171]171
III, 553–554. Рукопись стихотворения хранится в фонде автографов Ватиканской библиотеки
[Закрыть] .
На оборотной стороне Вячеслав добавляет следующее объяснение:
Причащение в последней строфе описано так, как изображается Тайная Вечеря на ранних мозаиках… Христос посредине, половина присутствующих апостолов подходит к Нему с одной стороны за Хлебом, половина с другой за Чашей.
Два дня спустя почта приносит нам «Палинодию» (14 января 1927 г.), потом «Язык» (10 февраля 1927 г.).
ПАЛИНОДИЯ
И твой гиметский мед ужель меня пресытил?
Из рощи миртовой кто твой кумир похитил?
Иль в вещем ужасе я сам его разбил?
Ужели я тебя, Эллада, разлюбил?
Но, духом обнищав, твоей не знал я ласки,
И жутки стали мне души недвижной маски,
И тел надменных свет, и дум Эвклидов строй.
Когда ж, подземных флейт разымчивой игрой
В урочный час ожив, личины полой очи
Мятежною тоской неукротимой Ночи,
Как встарь, исполнились – я слышал с неба зов:
«Покинь, служитель, храм украшенный бесов».
И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды
Молчанья дикий мед и жесткие акриды.
«Палинодия» какими‑то путями дошла до одной из самых блестящих и близких бакинских учениц Вячеслава, Ксении Колобовой, и глубоко волновала и возмущала ее. 16 ноября 1927 г. она пишет Вячеславу из Ленинграда: «Вы сами понимаете, что Ваши стихи восприняла я не в поэтическом плане. Я увидела здесь какую‑то катастрофу, какой‑то срыв в неизвестное мне. Неужели для Вас Эллада стала ”храмом украшенным бесов“ и Вы покинули этот храм, как и Павел прозревший или ослепленный Эдип? И куда приведет Вас отшельничество и пустыня? И неужели пришел для Вас час ”моления о чаше“? (Жизни или смерти? Смерти – п[отому] ч[то] за ”Хлебом жизни“ идут по – другому?)
И пришло ли время, когда мне суждено расстаться с Вами навсегда?
Вячеслав Иванович, за мою большую, безмерную любовь к Вам и веру в Вас, Вы должны мне ответить, п. ч. вопрос стоит остро, п. ч. вопрос идет о моей жизни, о моей будущности /…/».
После первой вспышки гнева и обиды за то, что (напрасно) показалось ей изменой Элладе, пришли письма более умиротворенные. 23 марта 1928 г. она писала из Ленинграда: «Уважаемый и дорогой Вячеслав Иванович, я резко перешла (в предыдущем письме) в стан Ваших врагов и врагов к тому же близоруких и написала Вам нехорошо о Вас, так же как и о себе. ”От ненависти до любви один шаг“, как и обратно. И моя любовь к Вам перелилась в ненависть, чтобы в свою очередь перейти в любовь…»
* * *
В конце 1927 и начале 1928 года приезжают в Колледжио два гостя из Швейцарии – Мартин Бодмер и Герберт Штейнер. Встреча их с Вячеславом знаменательна и с нее начинаются долгие годы дружбы и сотрудничества. Мартин Бодмер – выходец из старой знатной цюрихской семьи, меценат, библиофил – собрание его инкунабул и драгоценных рукописей знаменито во всем мире. Его дом под Цюрихом был украшен прекрасными картинами, среди которых прелестная Мадонна Ботичелли. Сам он человек большой, изысканной культуры, пишет иногда короткие эссе и страстно любит литературу. Бодмер дружит с Гербертом Штейнером, который австрийского происхождения. Мальчиком он был поэтом – вундеркиндом, потом стал литературным критиком и редактором. Рано перебрался из Вены в Цюрих, где ему, вольнолюбивому либералу, было более по душе.
Бодмер, тонкий, худой, жил в своем замке Фрейденберг с милыми детьми и изящной, красивой женой. Штейнер, заядлый холостяк, снимал меблированные комнаты, набитые книгами и рукописями, у почтенной швейцарской вдовы в центре Цюриха. Он был, несмотря на свой уютный embonpoint [172]172
тучность (франц.).
[Закрыть] , крайне активен и подвижен. Он постоянно путешествовал по всей Европе, посещая тех – немногих – поэтов, писателей, мыслителей, которых он считал достойными его редакторского внимания. Оба друга в эпоху их первого визита в Павию, готовили к изданию толстый двухмесячный журнал Корона.Он должен был выходить на немецком языке, но объединять на своих страницах – как в идеальном литературном салоне – лучших духовных деятелей века. Выбор приглашаемых в «салон» сотрудников был крайне строг и иногда своенравен. Среди авторов в первый год появления журнала числились, например, Томас Манн, Макс Мелл, Герман Гессе, Бенедетто Кроче, Торнтон Уайльдер, Поль Валери.
С первого года появления КороныВячеслав стал одним из постоянных сотрудников журнала. Первая статья, появившаяся в Короне,«Vergile Historiosophie», была написана по – немецки [173]173
Wjatscheslaw Iwanow, «Vergils Historiosophie», Corona, Jahr I, Heft 6 (май 1931 г.), с. 761–774. Журнал закрылся в 1943 г.
[Закрыть] . Многие из следующих статей, появляющихся в Коронедо закрытия этого журнала во время войны были переведены им самим и глубоко переделаны из уже раньше существующей его статьи: «Ты еси», напечатанная под новым заглавием «Anima», «Terror antiquus», «Письмо о ”Docta Pietas“», обращенное к Александру Пеллегрини, и др. [174]174
«Ты Еси» была впервые напечатана в «Золотом Руне», № 7–8—9, 1907, a «Anima» в Короне, Jahr V, Heft 4 (май 1935 г.), с. 373–389. Статья «Античный ужас. По поводу картины Л. Бакста ”Terror Antiquus“ (публичная лекция)» впервые напечатана в «Золотом Руне», № 4, 1909, с. 51–65, а как «Terror Antiquus», в переводе Nicolai von Bubnoff, в Короне, Jahr V, Heft 2 (январь 1935 г.), с. 133–164. Venceslao Ivanov, «Lettera ad Alessandro Pellegrini sopra la ”Docta pietas“», // Convegno, № 8–12, 25 декабря 1933 – 25 января 1934, с. 316–327, с датой: Pavia, февраль 1934 г., а в Короне, Jahr VII, Heft 1 (1937), с. 94–108, как «Wjatscheslaw Iwanow an Alessandro Pellegrini». Другие публикации В. Иванова в Короне: «Gogol und Aristophanes», Jahr III, Heft 5 (июнь 1933), с. 611–622; «Zwei russische Gedichte auf Goethes Tod», Jahr IV, Heft 6 (август 1934), c. 697–703; «Brief an Charles Du Bos», Jahr V, Heft 6 (сентябрь 1935 г.), с. 706–716; «Vom Igorlied», Jahr VII, Heft 6 (1937), c. 661–669. «Anima», «Terror antiquus», «Gogol und Aristophanes», «Vergils Historiosophie», «Rückblick» [an Charles Du Bos] и «Über die ”Docta Pietas“» перепечатаны в кн. W. Iwanow, Das alte Wahre, Essays, под ред. Victor Wittkowski (Suhrkamp, Berlin und Frankfurt а. М., 1946).
[Закрыть] Сотрудничество с Коронойбыло крайне ценно и плодотворно для Вячеслава. Оно дало ему повод снова глубоко передумать и часто по – другому сформулировать некоторые из самых существенных для него мыслей.
Он бывал у Бодмеров в Цюрихе, а Бодмер и Штейнер навещали его в Павии. Штейнер часто появлялся в Колледжио Борромео и в Риме и оставался надолго, чтобы вместе с Вячеславом работать над его текстами для журнала. Между Вячеславом и Штейнером, которые были прекрасными знатоками немецкого языка и тонкими стилистами, начинались нескончаемые дружеские споры. Штейнер любил посещать, а если нужно и торопить «своих» авторов, постоянно гостил для совместной работы у Валери или Томаса Манна, у Кроче, Клоделя, или Торнтона Уайлдера. После краткого новициата, он был принят как близкий друг в ивановскую семью и даже посвящен во все секреты и шуточные риты. Скоро на бесчисленных письмах и спешно набросанных почтовых открытках, которые он посылал со всех концов света, официальное обращение «Sehr geehrter Herr Professor» было заменено более «интимным»: «Dear Chief Cat» [175]175
«Многоуважаемый господин профессор» (нем.) и «Дорогой главный кот» (англ.).
[Закрыть] . Так он сам англизировал эзотерический титул – в честь тотема семьи – данный Вячеславу. Письма эти касались необходимости – часто страстно оспариваемой автором – исправить одно слово в корректуре, заменить запятую точкой с запятой или убрать восклицательный знак.
* * *
В Павии и во время римских каникул Вячеслав много работал для немецкого издателя Моор (Зибек) по инициативе своего молодого друга и почитателя Евсея Давидовича Шора, двоюродного брата Фламинги, т. е. Ольги Александровны Шор. «Вчера я отослал ”Die Russische Idee“ во Фрайбург, которая стоила мне большого труда, ибо написана заново. Но вышла, кажется, хорошо» [176]176
Ст. «О русской идее» впервые появилась в «Золотом Руне», № 1, 1909, с. 85–93 и № 2–3, с. 87–94; перепечатана в сб. По звездам (1909), с. 309–337. В немецком переводе J. Schor: Die russische Idee (J. C. B. Mohr‑P. Siebeck, Tübingen, 1930), 39 стр.
[Закрыть] , – пишет он нам 29 августа 1929 года (во Фрайбурге жил тогда Евсей Шор). По инициативе того же Шора Вячеслав работает в Павии и Риме над немецкой книгой о Достоевском (которая позже выйдет и на английском языке). В основу ее входят – сильно расширенные – его статьи, появившиеся в дореволюционных сборниках Борозды и межии Родное и вселенскоеи новые тексты. Книга готовилась в 1929 и 1930 году и вышла в свет в 1932 в Тюбингене [177]177
Wjatscheslaw Iwanow, Dostojewskij. Tragödie – Mythos – Mystik, перев. Alexander Kresling (J. C. B. Mohr – Paul Siebeck, Tübingen, 1932), предисловие Иванова подписано: Pavia, Dezember 1931. Английский перевод Norman Cameron: Vyacheslav Ivanov, Freedom and the Tragic Life. A Study in Dostoevsky, foreword by Sir Maurice Bowra (Harvill Press, London, 1952; Noonday Press, N. Y. C., 1957). В русском издании: IV, 483–588. Об истории текста и переписки с Е. Д. Шором, см. IV, 757–770.
[Закрыть] . В те же годы готовится и итальянское издание Переписки из двухуглов [178]178
Corrispondenza da un angolo all’altro, перевод Ольги Ресневич – Синьорелли (Lanciano, Carabba, 1932).
[Закрыть] .
* * *
Среди гостей, приезжающих из Франции, одним из самых задушевных стали Шарль Дю Бос и Габриель Марсель. Дю Бос, после двух дней, проведенных в Павии, послал Вячеславу пятую серию своих Approximations(он посылал все свои книги с дружескими длинными надписями): «A Venceslas Ivanov, qui n’est pas encore aussi persuadé que, cornélien, il devraitpourtant l’être, que je l’aime bien davantage encore depuis que je l’ai vu – en le remerciant du fond du coeur des deux inoubliables jours, son ami Charles Du Bos. Vendredi 3 juin 1932» [179]179
«Вячеславу Иванову, который недостаточно убежден – а, поклонник Корнеля, должен бы – что я его люблю еще больше с тех пор, как увидел его – с благодарностью от всего сердца за два незабываемых дня – его друг Шарль Дю Бос. Пятница, 3 июня 1932 г.» (фр.).
[Закрыть] .
В журнале «Vigile», издаваемом Дю Босом и Мориаком, появилась в 1930 г. во французском переводе Переписка из двух углов.
Позже Дю Бос и Марсель приготовили издание переписки отдельной книгой [180]180
Venceslas Ivanov et М. О. Gerschenson, «Correspondance d’un coin à l’autre», traduit du russe par Hélène Iswolsky et Charles Du Bos, Vigile, quatrième cahier, 1930, c. 33–120 (на с. 35–38 – предисловие, без подписи; на с. 39–51 – «Lettre à Charles Du Bos» с датой: Noli Ligure, le 15 octobre 1930). Отдельное издание: V. Ivanov et М. О. Gerschenson, Correspondance d’un coin à l’autre. Précédée d’une introduction de Gabriel Marcel et suivie d’une lettre de V. Ivanov à Ch. Du Bos. Traduction du russe par Hélène Iswolski et Ch. Du Bos (Editions Roberto A’Corrêa, Paris 1931). Переиздано в 1979 г. (L’Age d’Homme, Lausanne), с предисловием О. Deschartes.
[Закрыть] . Также в V igileбыла напечатана статья Вячеслава о лавре в поэзии Петрарки (1932 г.) – перевод на французский доклада, написанного Вячеславом для съезда, посвященного Петрарке, в 1931 году [181]181
«La vision du laurier dans la poésie de Pétrarque», traduit de l’italien par Jeanne Lac, Vigile, premier cahier 1932, c. 59–73. Впервые: «Il lauro nella poesia del Petrarca», Annali della Cattedra Petrarchesca, vol. IV, Firenze, 1932.
[Закрыть] .
* * *
Гости приезжали из разных стран. Многие, конечно, и из Италии. О посещении Вячеслава итальянским философом Бенедетто Кроче, жившим в своем большом неаполитанском доме, который был центром оппозиции антифашистской элиты, писали многие мемуаристы [182]182
Встреча произошла в апреле 1931 г., когда Кроче вместе со своими друзьями Alessandro Casati, Tommaso Gallarati‑Scotti, Stefano Iacini, Francesco Flora, Piero Treves, Riccardo Balsamo‑Crivelli приехал в Павию из Милана. О ней см.: «Disputa al Borromeo» в кн. Tommaso Gallarati‑Scotti Interpretazioni e Метопе (Milano, 1965); «Venceslao Ivanov al Borromeo», Cesare Angelini, в газ. Corriere della Sera, 9 мая 1966; перепечатана (под названием «Poeta russo a Pavia») в кн. Анджелини Il piacere della memoria (Milano 1977) и в брошюре, ред. Fausto Malcovati, Vjaceslav Ivanov a Pavia [1986], специально выпущенной для участников и гостей третьего международного симпозиума по Иванову (сентябрь 1986, Павия).
[Закрыть] . Между главой современного идеалистического историцизма и Вячеславом не могло быть ничего общего по философской линии, но было, конечно, большое друг к другу уважение и живой личный интерес. Их разговор, крайне учтивый и свободный, сразу превратился в оживленный и острый диспут. Разошлись мирно, но каждый, как и следовало ожидать, остался и даже укрепился на своих позициях.
С соседним Миланом скоро установились близкие дружеские отношения, особенно с группой писателей вокруг либерала и католика герцога Галларати Скотти, который, после падения фашизма, играл большую дипломатическую и политическую роль. У него Вячеслав познакомился с Алессандро Пеллегрини. К нему обращена статья, написанная в виде письма и посвященная проблеме христианского гуманизма [183]183
Venceslao Ivanov, «Lettera ad Alessandro Pellegrini sopra la ”Docta pietas“», Il Convegno№ 8–12, 25 декабря 1933 – 25 января 1934, с. 316–327, с датой: Pavia, Febbraio 1934. Итал. текст и русский перевод см. III, 434–450.
[Закрыть] . По инициативе Пеллегрини и его миланских друзей журнал Иль Конвеньопосвятил специальный номер Вячеславу [184]184
Il Convegno. Rivista di letteratura e di arte (Milano), № 8–12, 25 Dicembre 1933 – 25 Gennaio 1934, Anno XIV‑XV. Содержание выпуска: Taddeo Zielinski: Introduzione all’opera di Venceslao Ivanov; Fedor Stepun: Ritratto di Venceslao Ivanov; Ernst Robert Curtius; Venceslao Ivanov; Herbert Steiner: Idea e Amore; Gabriel Marcel: L’interpretazione dell’opera di Dostoievski secondo Venceslao Ivanov; Venceslao Ivanov: La ribellione contro la terra madre. Analisi del romanzo di Dostoievski «Delitto e Castigo»; Alessandro Pellegrini: Considerazioni sulla «Corrispondenza da un angolo all’altro» di V. Ivanov e M. O. Gerscenson; Venceslao Ivanov: Lettera ad Alessandro Pellegrini sopra la «Docta pietas»; Venceslao Ivanov: Discorso sugli orientamenti dello spirito moderno; Venceslao Ivanov: Dalle «Sporadi»; Leonida Gancikov: A realioribus ad realia; Nicola Ottokar: Dioniso e i culti predionisiaci; Venceslao Ivanov: Poesie; O. Deschartes: Cennii biografici
[Закрыть] .
В павийский период, но во время долгих римских каникул, Вячеслав душевно сблизился с Джованни Папини и познакомился с некоторыми из молодых поэтов и писателей, его окружавших во Флоренции. В журнале, который эта группа католиков издавала во Флоренции, Иль Фронтеспицио,появились статьи и несколько стихотворений Вячеслава, переведенных Папини по подстрочному переводу с русского, которого он не знал [185]185
Il Frontespizio, ежемесячный журнал, выходивший с 1929 по 1938, под ред. Piero Bargellini, при ближайшем участии Giovanni Papini. Четыре стихотворения В. Иванова были напечатаны в номере за сентябрь 1930: «Il paradiso terrestre» («О земном рае»), «Palinodia» («Палинодия»), «Regina viarum» (1–й «Римский сонет») и «La cupola» (9–й «Римский сонет»), в переводе самого В. И.; в апрельском номере за 1932 – три стихотворения в переводе Ринальдо Кюфферле: «Capella votiva» («Капелла» /«У замка, над озером…»/), «La via d’Emmaus» («Путь в Эммаус») и «Il corno alpino» («Альпийский рог»). Эти стихи были перепечатаны в «ивановском» номере // Convegno. Статья «Il mito di Edipo» («Миф об Эдипе») появилась в номере за август 1933 г.; она является последней частью речи, произнесенной В. И. в Сан Ремо 10 апреля 1933 г.: «Discorso sugli orientamenti dello spirito moderno», впервые полностью напечатана в номере Il Convegno, посвященном Иванову. Итальянский текст и перевод на русский («Размышления об установках современного духа») – в III, 452–484
[Закрыть] .
Среди миланских друзей был также Ринальдо Кюфферле, писатель, поэт, прекрасно знающий по – русски, переводчик многих русских оперных либретто на итальянский язык; это был живой интересный человек, ревностный антропософ. Кюфферле перевел в стихах поэму Вячеслава «Человек», которая появилась позже отдельной книжкой в издательстве «Бокка» (1946) [186]186
Venceslao Ivanov, L’Uomo. Traduzione in versi di Rinaldo Küfferle (Fratelli Bocca editori, Milano, 1946).
[Закрыть] . При встречах в Павии и в Риме и в многочисленных записках и письмах, друг другу отправленных, Вячеслав и Кюфферле много спорили во время длительной работы над переводом. Часто «ссорились», ибо каждый предлагал свою версию итальянского текста.
В 1936 г. стихи Вячеслава в первый раз появились в эмигрантской прессе: в парижских Современных Записках.(Мы слышали, что это произвело «сенсацию» в эмигрантских кругах [187]187
В рецензии на книжку LXII «Современных Записок» (1936), где на с. 178–183 впервые появились девять «Римских сонетов», В. Ф. Ходасевич писал: «Очередная книжка ”Современных Записок“ ознаменована литературным событием: в ней находим мы цикл ”Римских сонетов“ Вячеслава Иванова, не выступавшего в печати уже очень давно: лет четырнадцать, а может быть и семнадцать» (газ. «Возрождение», 25 декабря 1936, № 4058). Появление работ Иванова в эмигрантской прессе наверное было мотивировано его отказом от советского гражданства в том году, освобождающим его от обещания, данного при отъезде из России Луначарскому (см. письмо Иванова И. Н. Голенищеву – Кутузову от 24 апреля 1930 г.: «Предпочитаю быть верен своему обещанию, в силу которого был отпущен за границу – не участвовать в эмигрантской печати» – фотокопия письма находится в Римском архиве). Публикация I‑VIII из стих. «Деревья. Вступление к поэме» в десятом выпуске «Современных Записок», с. 116–118, в 1922 г. была перепечаткой из «Записок мечтателей», № 2–3, 1921, с. 136–138, сделанной, по – видимому, без ведома автора.
[Закрыть] .) С тех пор он там регулярно печатается [188]188
Иванов печатался в следующих книжках «Современных Записок»: LXIII, 1937, с. 164–169, 9 стихотворений: «Каменный дуб» (III, 501), «Notturno» (III, 508), «Собаки» (III, 553–554), «Родина» (III, 558), «Земля» (III, 508), «Сверстнику» (III, 531), «Могила» (III, 518), «Умер Блок» (III, 532) и «Воспоминание о А. Н. Скрябине» (III, 531–532); LXIV, 1937, с. 156–159, восемь стихотворений цикла «De profundis amavi» и статья «О Пушкине» – с. 177–195; LXV, 1937, с. 164–167, шесть стихотворений: «Палинодия» (III, 553), «Кот – Ворожей» (III, 507), «Слово – Плоть» («Язык», III, 567), «Полдень» (III, 504); «Митрополит Филипп» (III, 558), «Новодевичий Монастырь» (III, 566); LXVI, 1938, с. 176–178, два стихотворения: «Демоны маскарада» (III, 542–543) и «Monte Таrрео» («Староселье», № 1, III, 584); LXVII, 1938, с. 153–154, одно стихотворение: «Ferrea turris» («Ha Оке перед войной», 4; III, 527–528); LXVIII, 1939, с. 184–186, три стихотворения: «Размолвка» (III, 521), «Светлячок» (III, 502) и Madonna della neve» (III, 521); LXIX, 1939, c. 205–206, два стихотворения: «Вечерняя звезда» («Серебряный бор», 2; III, 510) и «Восход солнца» («Серебряный бор», 5; III, 511); LXX, 1940, с. 123–124, стихотворение «Ночные зовы» (III, 515–516). Все стихи позднее вошли в состав сб. Свет Вечерний
[Закрыть] . Для парижского издательства «Дом книги» Вячеслав приготовляет, пересматривая каждую строчку, свою «мелопею» «Человек». Наш друг, художник Сергей Иванов, рисует обложку, вдохновляясь скульптурой сотворения Адама на соборе в Шартре, где он часто посещал живущего там Диму. Книга выходит 28 августа 1939 г. – праздник блаженного Августина – за несколько дней до начала Второй мировой войны.
* * *
Когда Вячеслав поселился в Колледжио Борромео, мы с Димой переехали на via Bocca di Leone, № 50, на угол знаменитой via della Croce (виа делла Кроче). Это узкая и короткая улица: в конце ее очаровательный вид на площадь Испании, уводящий взгляд далеко, до крутых стен парка Пинчио. Виа делла Кроче прозвана чревом Рима из‑за избытка продовольствия, которое на ней скоплено. На перекрестках находится оживленный рынок, заваленный горами пестрых фруктов и овощей, соблазняющих гастрономов и художников – любителей натюрморта. Вдоль лотков тесно: мостовая покрыта скользкой кожурой тут же съеденных плодов. Солнцепек, гам, ссоры, хохот. Чтобы общаться, местные люди считают почему‑то нужным зычными, прекрасно от природы поставленными голосами кричать соседу в ухо так, как если бы слова должны были прозвучать в конце большой площади. На виа делла Кроче магазины самые разные. Вот роскошный фруктовый: плоды изысканные, местные и экзотические, свежие, сушеные, засахаренные. В витрине, среди тонкой декорации из ананасов и кокосов, монументально позирует роскошный ангорский кот: шкурка, как облачко, белоснежная, один глаз зеленый, другой голубой. Я часто стараюсь пройти мимо витрины, чтобы им полюбоваться. Внутрь магазина – не решаюсь: все там так дорого. На тротуаре, перед своей лавочкой, расположился сапожник. Он чинит на свежем воздухе башмаки. Рядом с ним роскошный магазин тонкой гастрономии, центр германского колбасного искусства.
На той же улице место встреч римской богемы – писателей, поэтов, художников, актеров. Это маленький ресторанчик, прозванный Чезаретто по имени лакея, Цезаря (Cesare), там работающего. Здесь можно увидеть всех друзей, все друг друга знают. Это две небольшие комнаты, соединенные узким коридорчиком, куда также втискивают столики. Так тесно, что иногда и не впускают, физического пространства не хватает. Уютно, весело. Чезаретто всех поименно знает и кое – кому верит в кредит.
На перекрестке с Виа Бокка ди Леоне, со стороны Виа делла Кроче, находится прославленная кондитерская, а за углом открыто на улицу помещение, где всегда пылает раскаленная печь и на жаровнях и вертелах весело шипят жаркие, куры, дичь, бараны. Густой чад развевается по улице и тонкими струйками поднимается вверх, вдоль стены противоположного дома № 50, до самых окон третьего этажа, где тревожит наш с Димой аппетит. Это наши окна, но мы не спускаемся купить соблазнительный кусочек. Он дорог.
Столовались мы у хозяев наших двух меблированных комнат; одна из них – моя – была побольше, имела два окна, в ней помещался и рояль; другая – Димина – с одним окном, узенькая и проходная. Синьор Катена, хозяин, имел магазин на Виа делла Кроче. Он продавал баранину, кроликов и всякую дичь. Нам давали к обеду всегда кроличье мясо, так как, к нашему огорчению, хозяевам баранина надоела до смерти. Сам Катена, увесистый брюнет, был похож на роскошного быка. При первой встрече, узнав, что Диму зовут Demetrio, он пришел в восторг.
– Ах, какой же это был конь! Какой скакун! Он на бегах безошибочно всегда выигрывал! Деметрио! Деметрио! Какой же это был конь! – восклицал он, вспоминая Диминого тезку – коня и крепко хлопая Диму по спине при каждой похвале.
Вечером мы его боялись: жена и пятеро детей рано удалялись в спальню, а он, совсем пьяный, до позднего часа, развалившись, сидел один за обеденным столом; нам приходилось пробираться мимо него через столовую, чтобы попасть в будку на балконе, служившую уборной.
Старшая дочка, Фауста, и ее мать его ненавидели. Из их слов я поняла, что он не то пытался, не то действительно свою дочку изнасиловал. Фаусте было лет семнадцать. Живая и пылкая, она обожала Муссолини и горела патриотической страстью к фашизму, тогда еще совсем молодому. В год перед нашим прибытием она узнала, что во время какого‑то торжества через толпу пройдет кортеж с самим Муссолини во главе. Она стащила потихоньку черную рубашку своего отца, кинулась на площадь, каким‑то чудом пробралась сквозь охрану и очутилась рядом с Муссолини. Она схватила его руку и поцеловала ее со словами: «Duce, io sono una fascista di prima ora» [189]189
«Дуче, я фашистка с первого часа» (итал.).
[Закрыть] . Дома ее все высмеивали, но она продолжала чтить, боготворить своего Дуче. Каждое утро она ходила на раннюю обедню в шесть часов и причащалась:
– Я это делаю за него. У него нет времени, так я за него.
Немного моложе Фаусты был подросток, казавшийся вылитым портретом отца. Потом шла Лола. Проходя днем через столовую хозяев, я часто заставала ее зубрящую с выражением безнадежности на лице: «И они питались их мясом, мясом, мясом, и одевались в их шкуры, в их шкуры, и питались их шкурами, и одевались мясом, мясом» и т. д.
Следующей сестричке было лет 9–10. Это была хрупкая, худенькая, белокурая девочка. Ее в том году в приходе готовили к Первому Причастию, которое у католиков торжественно празднуется после обучения Закону Божию, и она старалась быть кроткой, терпеть всех членов семьи. Она походила на ребенка – мученика или на нежный белый цветочек, потерянный в грубом кустарнике. Я узнала впоследствии, что она совсем рано умерла. Наконец, пятого и младшего из детей еще возили в колясочке.
Этого бебе я встретила позже, в 1935 году, когда, приобретши итальянское подданство, я получила свою первую работу: преподавание хорового пения в школе Русполи. Все шло там хорошо. Я начала преподавание с хора Верди «Va, pensiero, sull’ale dorate» [190]190
«Мысль летит на крыльях золотых…» (итал.) – знаменитый в Италии хор из оперы «Набукко» Верди (1842 г.). Его поют евреи, увезенные в плен Навуходоносором, вспоминая далекую родину. В XIX веке, до объединения независимой Италии, хор стал чуть ли не национальным гимном.
[Закрыть] . Заведующая школой решила, что я выбрала это, как собственную слезу, которую я лью в тоске по родине. Она меня сразу полюбила, ласкала. Но был у меня и трудный день. Явился высокий чин; всех детей от шести до двенадцати лет выстроили шеренгами по сторонам большого плаца и приказали им петь патриотическую песнь эпохи Первой мировой войны: «Il Piave mormorava» [191]191
«Нашептывала река Пьяве…» (итал.) – песнь композитора и поэта Е. А. Марио (Е. А. Mario; наст, фамилия – Giovanni Gaeta, 1884–1961), в которой восхваляется битва итальянской армии против австро – немецких войск на реке Пьяве в 1918 г. Песня стала чрезвычайно популярной, и ее пели как национальный патриотический гимн.
[Закрыть] . Я не только не проходила с детьми этого гимна, но даже и сама его не знала. Но, к счастью, мелодия была столь известна всей публике, что, хотя дети молчали, с разных сторон плаца какие‑то одинокие голоса начали пищать и басить, и все в конце концов обошлось. Высокий чин не высказался. В шеренге мальчиков, одетых, как полагается, в синие передники с белыми галстуками, находился и Джульетто Катена: он уже был не в колясочке, как при нашем первом знакомстве, а в роли девятилетнего «студента», как величают итальянцы учащихся всех возрастов.
* * *
В 1927 году произошло событие, коренным образом изменившее нашу жизнь. Это был приезд в Рим Ольги Александровны Шор.
– Как они называются, такие длинноногие бело – розовые птицы? – говорила я, стараясь определить, какому зверю Ольга Александровна соответствует.
– Это фламинго, – сказал Вячеслав, – конечно, она и есть фламинго.
Так Ольга Александровна Шор была у нас окрещена Фламинго, розовой египетской птицей. Правда, она была явной брюнеткой – это неважно: по существуона розовая, и тоже любит возноситься высоко в небо, развертывает там крылья, раскрашенные цветом пламени [192]192
Ср. I, 3–4 стих. «Фламинго»: «И чертят фламинго в синем небе/Дуги света розовей Авроры» (Свет Вечерний,III, 507). Стихотворение было написано 24 января 1915 г. в Москве, а посвящено O. A. Шор – в 1927 г. в Риме. «[Оно] относится к посещению Египта весною 1902 г. В душе поэта навсегда осталось радостное воспоминание о полетах фламинго. ”Розовое облачко над головой – залог от небес о рае“ – говорил он» (III, 829).
[Закрыть] . Кроме того, когда Ольга Александровна крепко задумывалась над какой‑нибудь философской проблемой, она становилась на одну ногу, останавливалась в этой позе и могла так простоять совершенно безграничное количество времени. Кто видал этих птиц, знает, что их любимая и, по – видимому, самая отдохновительная поза – стоять на одной ноге. К тому же Фламинго с первой своей юности интересовалась Египтом и любила его; занималась и иероглифами. В Москве, в пылу своего чтения, она всех хотела ввести в свой мир и пыталась объяснять иероглифы даже своей горничной.
В начале революции ее, быть может, еще не окончившую университет, посылали читать на общекультурные темы лекции на больших собраниях рабочих или солдат. Она вспоминала вечер в казарме, огромное помещение, переполненное толпой только что привезенных с фронта солдат. Стоял гвалт, чувствовалось невероятное возбуждение и недовольство. Комендант взглянул с презрением на посланного ему лектора: девочка, лет пятнадцати на вид, с черными распущенными кудрями, повязанными бантом.
– Лекции не будет: вас не только не станут слушать, но их просто заставить замолчать никто не сможет.
Ольга Александровна, несмотря на запрет коменданта, вскочила на кафедру и насторожилась. Посреди гама голосов наступила случайно секунда затишья, и тут она своим необычайно звучным, от природы поставленным голосом, звонко крикнула:
– Товарищи!
Все обернулись. Наступил миг изумления. Она его не упустила и сразу начала лекцию о Древнем Египте. Какое дело было этим солдатам, которые, быть может, завтра должны были возвращаться на фронт, до Древнего Египта? Но они в полном молчании, как завороженные, и с захватывающим интересом прослушали длинную лекцию. Читать с кафедры была одна из страстей молодой Ольги. В последние годы в Риме она мне как‑то сказала:
– Теперь мне больше не хочется; а прежде, как увижу, что кто‑то с кафедры говорит, думаю: Господи, почему это не я?
Другой страстью, которая ее не покинула до конца жизни, был Микель – Анджело. Интерес, любовь к нему появились с ранних лет; и та же горничная выслушивала бесконечные и мало понятные рассказы об «Мишеньке». Как‑то удалось добыть очень хороший портрет Микель – Анджело. Не имея под рукой, с кем поделиться радостью, она позвала горничную.
– Иди сюда, я тебе покажу портрет моего Миши.
Горничная сразу прибежала посмотреть на любовь Олечки и окаменела от ужаса: старый, бородатый, со сломанным носом!
– Это он – Миша?..
Позже тема Микель – Анджело у Ольги Александровны вошла в общие философские размышления о проблемах творчества. Но помимо чисто философского подхода к этой теме, она все время изучала и жизнь и создания Микель – Анджело. Она, например, основательно изучила процесс построения Капитолийской площади и пришла к чрезвычайно интересным, совсем новым выводам. К сожалению, она не нашла времени записать и научно документировать свои открытия. Так же, как о других своих исследованиях, – о том же Микель – Анджело, или о Леон Баттиста Альберта, или о подземной орфической базилике в Риме, и еще о многом другом. Вячеслав очень настаивал на том, чтобы она фиксировала эти вещи, хотя бы в виде коротеньких заметок, «вкладов» в специальные журналы, но Ольга Александровна прошла слишком хорошую научную школу, чтобы представить свои мысли недостаточно обоснованными, а на обоснование у нее не было времени. Она считала своим долгом все время посвящать другим целям, а именно – творчеству Вячеслава Иванова.
Но просто человеческая нежность к своему «Мишеньке» у Ольги Александровны никогда не прекращалась. Время и исторические перемены для нее не существовали: она одинаково или любила людей или сердилась на людей как нашего века, так и тех, кто жил в эпоху Возрождения или Древней Греции. Как‑то ей посчастливилось получить комнату с видом на купол Святого Петра, строением которого она много занималась. Каждое утро, едва проснувшись, она вскакивала с постели и подходила к окну, нежно говоря: «Здравствуй, Мишенька». Но как бы ни были разнообразны предметы изучений и увлечений Ольги, все они медленно, в течение всей ее жизни органически входили в ткань ее философского мировоззрения. Она беспрерывно вырабатывала свою собственную философскую систему, которую она называла «мнемологией», т. е. учением о памяти.
Эта вера, верней этот внутренний онтологический опыт реальности и действия памяти в мире и в душе человека, стала звеном, которое духовно сблизило молодого ищущего философа с Вячеславом. Память – центральный мотив поэзии и всего мировоззрения Вячеслава. Знакомясь с его произведениями – много лет до личной встречи – Фламинго чувствовала, что он говорит своим языком о том, что и ей созвучно. Поэтому знаменательна та лекция Вячеслава в Обществе Свободной Эстетики, о которой я вспоминала раньше и которая так поразила молодую Фламинго в Москве [193]193
Речь идет о докладе Иванова, прочитанном 17 марта 1910 в Московском «Обществе Свободной Эстетики» и повторенном 26 марта в «Академии» в Петербурге. В переработанном виде эти выступления были напечатаны под названием «Заветы символизма» в журн. «Аполлон», № 8, 1910 [см. II, 588–603].
[Закрыть] . 3 апреля 1910 г. Вячеслав пишет Блоку, горячо уговаривая его принять участие в заседании «Поэтической Академии» в Петербурге. Замечательно в этом письме то, как Вячеслав отвечает Блоку на его слова, что его никто не понимает:
Само собою разумеется, что меня мало понимают; ведь и Вас, вероятно, не вполне поймут. Но я не боюсь (и Вам бояться не советую) этого непонимания; поймут двое – трое, зато те, кому это жизнь. И кроме того, учесть все же нельзя, как отзовется наше слово. Во всяком случае, оно о жизни и вносит жизнь туда, где в ней нужда [194]194
«Из переписки Александра Блока с Вяч. Ивановым», публ. Н. В. Котрелева, Известия Академии Наук СССР, серия литературы и языка, т. 41, № 2, 1982, с. 171. Речь идет о докладе, прочитанном Блоком 8 апреля 1910 в «Академии» в порядке ответа на доклад Иванова. В обработанном виде он появился под заглавием «О современном состоянии русского символизма» в журн. «Аполлон», № 8, 1910.
[Закрыть] .
Это была петербургская лекция, которую он раньше читал в Москве. Не была ли Фламинго в тот вечер в Москве одной из таких «двух – трех»?
Когда впоследствии Фламинго приехала в Италию, она стала не только «мудрым экзегетом» поэта, но и «спутником» на той же духовной тропе, творчески угадывающим, куда путь ведет. Вячеслав так пишет об этом:
Тебе, хранительный мой гений,
Душевных ран и плоти врач,
Вождь в сумерках моих видений,
Земной судьбы моей толмач;
Тебе, кто, за чертой явлений,
Небесных помнишь мир селений
И слышишь ангелов полет,
Житейский правя обиход
Смиренномудро, безымянно, —
Затем что, кто ты, несказанно, —
Как звать тебя, сказал бы тот,
Кто слышал ангелов полет.
* * *
Эта духовная и умственная устремленность не мешали Ольге Александровне быть крайне практичной в жизни. Она была всегда направлена на заботы о ком‑нибудь: либо помогала кому‑то выпутаться из трудностей, либо лечила больного, либо прилагала все усилия, чтобы освободить арестованных (во время революции). В этом она часто действовала сообща со своим дядей, знаменитым пианистом Давидом Соломоновичем Шором. Она сопровождала его, когда его приглашали к влиятельным личностям в Кремль. Давид Соломонович там обыкновенно завораживал всех своей игрой на рояле, а затем, в минуту эйфории, заговаривал о каком‑нибудь заключенном приятеле и нередко добивался его освобождения.
Об одном из самых драматических спасений в те страшные годы, на этот раз не с помощью дяди, а с помощью поэта Балтрушайтиса, ставшего литовским послом в Москве, Ольга сама рассказала в комментариях к Собранию сочиненийВ. И.:
Весною 1919 г. ко мне неожиданно обратился близкий друг Юргиса Казимировича, который был и моим близким другом: «Прошу Вас о большой услуге». Я вопросительно на него посмотрела: он казался немного смущенным. – «Вы ведь знаете, что Юргис страдает запоем?» – «Ничего такого не знаю». Наш друг продолжал: «В нормальное время Юргис снимал на стороне маленькую квартирку, куда порою скрывался дня на три, чтобы беспрепятственно одному пить. Появлялся потом спокойным и трезвым. В революционную пору я стал предоставлять ему мою квартиру. Но мне теперь необходимо уехать, по крайней мере на полгода. Вот ключ от моей квартиры. Возьмите его; когда Юргис будет просить, ему выдавайте, но потом отбирайте сразу». Я попыталась отказаться: «Помилуйте, такое поручение, ответственное…» – «Если хотите помочь Балтрушайтису, не отказывайтесь. С такою просьбою я могу обратиться только к Вам». Он дал мне ключ и уехал. Через несколько дней телефонный звонок: голос Балтрушайтиса: «Можно прислать за ключом?» – «Вернете сразу?» – «Обещаю». И действительно: дня через четыре опять звонок: «Можно Вам вернуть ключ?» И ключ появился. Я поспешила на квартиру: никаких следов попойки; ни одной бутылки, ни одного стакана. В комнатах полный порядок. Такие посещения пустой квартиры повторялись приблизительно каждые пять недель. К зиме благополучно вернулся хозяин квартиры. Мы с Балтрушайтисом о ключе том никогда не говорили.
Осенью 1921 г., месяца через три после того, как Балтрушайтис стал полномочным послом, я отправилась к нему на прием по делу каких‑то знакомых. Было часов одиннадцать. Прием начинался в десять. Посол еще не пришел. Странно: Балтрушайтис отличался педантичной точностью в исполнении своих обязанностей. «Уж не пьет ли он где‑нибудь», – мелькнуло у меня в голове. Посольство помещалось в прелестном частном особнячке близ Знаменского переулка. Из палисадника нарядная входная дверь прямо вела в абсидальный зал. Против главного входа, в глубине, у стены – диван и несколько кресел. Над главным входом – большие, круглые, бросающиеся в глаза часы. Вдруг, в половине двенадцатого входные двери с шумом распахнулись, и ворвалось человек пятнадцать в ужасном возбуждении: «Посла! Скорее посла!» Их старались успокоить: «Его нет. Он сейчас придет». Пришедшие не успокаивались, требовали, кричали. Волнение их было вполне оправдано. Девять человек родом из Литвы были приговорены к расстрелу, назначенному на двенадцать часов этого самого дня. Оставалось минут тридцать. Принадлежность к литовской нации определялась местом рождения и удостоверялась свидетельством посла. Иностранцы смертной казни не подвергались. Документы все были готовы, не хватало лишь подписи Балтрушайтиса. Безумно волновавшиеся люди были отцами, матерями, женами, сыновьями приговоренных к смерти. Рыдания, мольбы, призывы…
Сидя против входной двери, я с ужасом следила за часами. «Он, наверное, где‑нибудь заперся и пьет. 3нает ли хоть кто‑нибудь – где? Или – Бог милостив – он кончил и вот – вот появится». Без десяти, без пяти минут двенадцать, без четырех… Входная дверь отворилась, и быстро вошел Балтрушайтис. Оставалось три минуты. Спешно принялись звонить соответственным комиссарам. В последнюю секунду казнь была отменена.
Когда всё успокоилось и все разошлись, я вошла к Балтрушайтису. Он сидел за своим письменным столом, низко опустив голову. Потом медленно ее поднял, глухо сказал: «Этого больше никогда не будет»… С того дня он совершенно перестал пить даже в обществе. Знакомые его удивлялись: на званых обедах литовскому послу, компанейскому участнику тостов, вместо вина и ликеров подавали стакан простой воды.
* * *
Фламинго в молодости, хотя этого не показывала, была гордая: она считала, что на свете есть люди – действительно люди, а остальные составляют массу «бипедов», как она их величала. С годами она стала менее категоричной. «Бипедам» отдавала все силы, когда могла им в чем‑нибудь помочь, но существенно общалась лишь с настоящими людьми, избранными современниками или историческими крупными личностями.
Она все‑таки была веселой и страстно любила танцевать. Как‑то в Риме, когда она была уже немолодая, она показала моей венгерской подруге, как танцуют «Русскую». Она сразу преобразилась, отдавшись на миг дионисическому восторгу.
– Ах, как я люблю теперь Фламингу, – заявила венгерка, – я сейчас только ее поняла; я ее уважала, но думала, что она абстрактная.