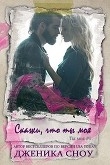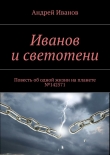Текст книги "Воспоминания. Книга об отце"
Автор книги: Лидия Иванова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
IV. МОСКВА
Наступила февральская революция. Я почему‑то оказалась на улице: иду вдоль кремлевских стен, пробираюсь сквозь толпу. Весенний ласковый день, светит солнце. И тут странное явление: конечно, в церковные колокола никто не бил, но у меня осталось яркое воспоминание о пасхальном перезвоне всех московских колоколен. Встречные все смотрят друг на друга, как на родных, многие целуются. Упал старый режим, точно тяжелая свинцовая крепость по чудесному мановению растаяла – исчезла. Как карточный домик. Бескровная революция.
Попадаю, наконец, домой и бросаюсь делиться радостью с Эрном. Не знаю, выходил ли он из дому в тот день. Он не хочет меня разочаровывать, но я чувствую, что он как‑то недоверчиво относится к событию. А может быть, уже начиналась его болезнь и бросала тень на его жизнь.
Эрн действительно заболевает. Его хронический нефрит принимает неожиданно острую форму, и после недолгой, но очень мучительной болезни, он умирает. Перед смертью к нему приезжал Флоренский. Похоронная процессия благообразно проводила гроб в Новодевичий монастырь под пение «Христос Воскресе».
Для меня это было большое горе.
К этому событию относится стихотворение Вячеслава «Скорбный рассказ», помещенное рядом с «Оправданные», одно из стихотворений, посвященных Эрну. Оно описывает, как я рассказывала про смерть Эрна Вячеславу и Вере, после приезда к ним на каникулы в Сочи, когда мы сидели на берегу моря на скалах у самой воды.
* * *
Хотя ход истории начал омрачаться и в стране уже появились первые признаки развала, жизнь еще шла нормально. Все вернулись в Москву сравнительно рано. Вера и Вячеслав даже опередили общий приезд – мы остались на недолгое время с Марусей и Димой для перевозки вещей. Наш переезд произошел не без волнения. Только что провели железную дорогу между Туапсэ и Сочи (до того эти города соединялись моторной лодкой или автомобилем). Осложнялось дело тем, что железная дорога была готова лишь до Лазаревки, но т. к. по контракту она должна была быть проведена до Сочи, то отрезок пути от Лазаревки до Сочи был выполнен только по видимости: когда курица ходила по шпалам, рельсы дрожали и норовили сдвинуться. Поэтому от Сочи до Лазаревки (около 15 верст) мы ехали с шести утра до семи вечера.
Официальных билетов нам не дали, а разрешили на свой страх поместиться с багажом на платформе товарного вагона. На этой платформе мы провели ночь в Лазаревке, перед тем, как поезд двинулся дальше. Но какие звезды над головой! Какой пейзаж! Это место, где главные цепи Кавказа подходят к морю совсем близко, как бы бросаются в него.
* * *
Лозунг Керенского «Война до победного конца и мир без аннексий и контрибуций по самоопределению народов» – не смог спасти фронта, который стал разлагаться. Разлагался медленно и порядок в тылу. В среде интеллигенции, однако, еще было много оптимизма. Еще верили в созидающуюся светлую свободную родину. Вячеслав напечатал тогда несколько патриотических стихотворений:
ВПЕРЕД, НАРОД СВОБОДНЫЙ
Пока грозит свободе враг,
И не шумит народный стяг
Над всей землей народной, —
И грохот пушек не умолк,
Сомкнись, народ, в единый полк!
На брань, народ свободный!
Свобода – честь, свобода – долг,
Свобода – подвиг славный,
Свобода – труд державный.
Доколе попран твой очаг
И братский не алеет флаг
На вражеской твердыне,
Пока сосед соседу волк,
Сомкнись, народ, в единый полк,
Вокруг своей святыни!
Свобода – честь, свобода – долг,
Свобода – подвиг славный,
Свобода – труд державный.
Вперед идя, за шагом шаг,
Будь верен первой из присяг:
Пока не сыт голодный
И с братом брат как с волком – волк, —
Твоя свобода – праздный толк.
Вперед, народ свободный!
Свобода – честь, свобода – долг,
Свобода – подвиг славный,
Свобода – труд державный.
10 мая 1917 г.
Боже, спаси
Свет на Руси,
Правду Твою
В нас вознеси,
Солнце любви
Миру яви,
И к бытию
Русь обнови!
Боже, веди Вольный народ
К той из свобод,
Что впереди
Светит земле
Кормчей звездой!
Будь рулевой
На корабле! [56]56
IV, 64. Стих. «Молитвы» (№ 1) впервые было напечатано в «Народоправстве» 23 октября 1917 г., № 13. Автограф находится в римском архиве В. Иванова. См. IV, 718.
[Закрыть]
Решено было создать новый гимн России. Сочиняли Вячеслав и Бальмонт [57]57
См. «Гимн» В. Иванова, IV, 60.
[Закрыть] . А. Т. Гречанинов с энтузиазмом написал музыку к гимну Бальмонта:
Да здравствует Россия
Свободная страна!
Свободная стихия
Великим суждена.
Музыка была легкая и сходившиеся друзья подпевали. Устраивались концерты. Ходили в гости. Мы дружили в ту эпоху с Кокошкиными.
Мое школьное гимназическое учение уже второй год как было окончено. Я была уже на третьем курсе консерватории по классу фортепиано у профессора А. Б. Гольденвейзера. Занятия становились все интересней.
* * *
Октябрьская революция грянула, как гром на голову. Наш дом оказался на линии фронта. В Москве сражение длилось шесть дней. Гремели пушки; нам говорили, что стреляют с Воробьевых гор в центр, – значит, снаряды пролетали над нами. Но по улицам тоже шла непрерывная стрельба из ружей и пулеметов. Обыватели сидели дома, нельзя было проскользнуть на площадь за хлебом или молоком. Прямо против наших окон, из которых был широкий обзор, пылал огромный пожар. Ночью адское зарево охватывало полнеба. Это горели строения, в которых между прочим помещалось и книгоиздательство Сабашникова. Там в типографии испепелялись все экземпляры только что напечатанной книги Вячеслава «Эллинская религия страдающего бога». К счастью, у Вячеслава остался его корректурный экземпляр.
У меня впечатление, что пожар не угасал три дня.
Под вечер одного из этих дней в нашу квартиру начали стрелять. Одна пуля пробила окно комнаты для прислуги. Почти одновременно зазвонили и застучали в дверь, ворвалась группа красноармейцев, может быть, пьяных, а может быть, просто вне себя, как бывает во время сражений.
– От вас стреляли из окна. Выдавайте оружие. К ним вышел Вячеслав, совершенно спокойный.
– От нас не стреляли, мы не имеем оружия.
– Это мы сейчас увидим.
Они ворвались вслед за Вячеславом в его библиотеку.
– Обыщите, – говорит Вячеслав.
– Кто же это может такую комнату обыскать. Идите с нами вниз, там объяснимся.
Вячеслав согласился: – Идем, – и начал надевать шубу. Но что‑то в его спокойствии – голос, может быть, какая – то духовная сила, – подействовало на них. Они вдруг как‑то осели, почти смутились.
– Не надо, не надо, товарищ. Это недоразумение.
И ушли.
Помню наш испуг, а потом радость избавления. Ведь в эту черную смутную ночь, когда царил полный хаос, если бы они увели Вячеслава, вряд ли мы бы его больше увидели. Я почувствовала уважение к его внутренней силе. Кстати, опасность была еще в том, что в ящике письменного стола лежал старинный зиновьевский револьвер; из слоновой кости, но все же револьвер [58]58
Ср. письмо И. А. Белоусова к Л. Н. Андрееву из Москвы, 2 (15) мая 1918 г.: «У нас опять была пальба: вышибали анархистов. Сейчас по вечерам на улицах патрули, – обыскивают, – ищут оружие. В приказе сказано, что если у кого найдут оружие и будут его отбирать, а тот будет сопротивляться – расстреливать на месте. Где же отмена смертной казни? Прежде цареубийцу судом судили, а потом вешали, а теперь ”на месте“. Всех сделали палачами!» (Литературное наследство, т. 92, кн. 3, с. 478).
[Закрыть] . Маруся его туда сунула пока что, не зная, что с ним делать, т. к. было повелено всем, кто имеет оружие, сдать его. Вячеслав, однако, этого не знал.
Никто не был осведомлен о том, что происходит. Соседи встречались и друг другу объясняли:
– Это большевики забирают власть.
– А что это за артиллерия?
– Это союзники с Воробьевых гор. Они нас освободят.
– Но вот что‑то не ладится.
– Неважно. Если большевики и заберут власть, то это будет на месяц, максимум на два.
Сражение кончилось. Победили большевики. По улицам стало возможно ходить.
Мы на семейном совете решили револьвер у себя не держать и его уничтожить, чтобы из него никто никого не мог бы убить. Мы пошли для этого с Верой к Москве – реке, как если бы для прогулки, а револьвер завернули в белый пакетик из кондитерской и перевязали цветной ленточкой. Он был небольшой, но тяжелый. Подойдя к воде и улучив момент, когда, как нам показалось, не было вокруг ни души, мы размахнулись и бросили револьвер подальше. Не успел он удариться об воду, как лодка с тремя матросами огибает луку реки.
– Что это вы бросили?
Пакет наш исчез под водой.
– Ничего. Это мы бутерброды ели и бросили бумагу.
И тут вдруг, к нашему ужасу, происходит что‑то дьявольское: наш тяжелый револьвер всплывает на поверхность воды, матросы сразу подплывают, чтобы словить его веслом. Мы поражены и испуганы столь сверхъестественным явлением. Но все хорошо кончилось: весло хлопнуло по пустой бумаге, наш зиновьевский револьвер, пробуравив в ней дырку, пошел ко дну. Где‑то он теперь? Жизнь стала быстро ухудшаться. Продовольствие исчезало. Стало все труднее отапливать дома. К соседям, живущим против нашей квартиры, приехала родственница, старушка – скелет. Не знаю, из какой губернии, очевидно, где уже был настоящий голод. Она недолго болела – организм не поддавался леченью. После ее смерти мы ходили к соседям на панихиду. Он лежала: кости, обтянутые кожей, желтая под желтым светом свечей.
Отголодавшая старуха,
Под белым саваном лежу.
Священник, фимиамом Духа
Над желтой мумией кажу.
И свечку, чуженин захожий,
В перстах рассеянных держу;
На кости под иссохшей кожей
В недоумении гляжу.
Но «Память Вечная» пропета.
Черед – Забвенью… За межу
Троих зовет тройная Лета, —
И малый дом свой нахожу.
Димина няня уехала к себе в деревню и трогательно несколько раз посылала нам «гостинцы» – главным образом пшенную крупу, которая долгое время составляла основу пищи. Голод надвигался постепенно, но неукоснительно. (У нас‑то он прекратился с выдачей «академического пайка» в 1920 году.) Одно лето появился на рынке сом, потом без конца сушеная вобла. Коровье масло исчезло, затем разные сорта постных масел. Когда они тоже пропали, вдруг появилось недели на две масло – какао, затем рыбий жир и даже касторка, на которой жарилась картошка. Когда я ходила на службу по утрам в 1919 году, помню, что на улице сидела баба и я пила у нее кружку молока; на обед я носила в пакетике несколько вареных картошек. Паек хлеба был тогда 1/4 фунта на два дня. Хлеб и картошку нужно было добывать у мешочников, так называемых спекулянтов, которые провозили в Москву мешки муки и картошки контрабандой с опасностью для жизни. Возили на переполненных поездах, где многие из них находили себе место только на крышах вагонов.
Отопление в нашем доме уже совсем прекратилось. Маруся стала слабеть, тело ее опухло; от слабости предметы начали падать у нее из рук. По совету докторов, ее поместили в больницу, где было тепло и кормили более сносно. Мы стали хлопотать о переводе на другую квартиру, т. к. в нашей начали лопаться от мороза водопроводные трубы. Вячеславу отвели полквартиры в б. Афанасьевском пер., куда мы и переехали. Квартира была меблирована и кем‑то покинута; нам дали в ней три комнаты и общую с соседями кухню. Это был, если не ошибаюсь, 1918, и квартира одну зиму была теплая. На следующий год отопления уже не было и в ней. По углам комнат виднелся иней, трубы лопнули. Маруся телефонировала, что ей в больнице голодно. К ранней весне 1919 года она заразилась там сыпным тифом (была сильнейшая эпидемия) и умерла. Мы похоронили ее на Новодевичьем кладбище, близко от Эрна. Гроб был из деревянных досок со щелями.
Вера все больше и больше страдала от своей гастрической болезни. Пища, которой мы питались, была для нее непереносима. Нужно было ходить на рынок у Сухаревой башни, чтобы продать там старую одежду и на вырученные деньги купить немного белой муки или манной крупы, если такая находилась под полой мешочника.
Вячеслав переживал все лишения стоически, ни на что не жаловался, переносил спокойно все неизбежные болезненные вспышки нервов у домашних и продолжал свои мысли и свои занятия.
* * *
В 1918 году я решила, что нужно мне найти заработок, чтобы помогать семье. Я заявила Вячеславу:
– Я хочу поступить на службу к большевикам.
Вячеслав не удивился.
– Ах да? Я слышал, что в Наркомпросе есть музыкальный отдел и во главе Артур Лурье. Это тот молодой человек, который ко мне приходил показывать свои стихи на Башню. Я тебе дам к нему письмо.
Не без великого страха я отправилась в здание бывшей Первой мужской классической гимназии, той самой, где в свое время учился мой отец. Это было у Пречистенских ворот, на углу Гоголевского бульвара. Я подала письмо, и Лурье меня сразу принял. Он был изысканно любезен, с утонченными манерами. Мое внимание приковывали его белые холеные руки с драгоценными кольцами. Он меня спросил, машинистка ли я. Я этого термина не знала и решила, что мне предлагают орудовать огромными рычагами какой‑нибудь машины. Я вспомнила пароходы на женевском озере, где виден машинист с голым торсом, освещенный красным пламенем и управляющий огромными стальными колесами.
– Нет, я не машинистка.
Мы поговорили, и я выбрала библиотечный отдел. В библиотечном отделе, кроме меня, никого еще не было.
Меня повели в проходную темную комнату и поручили маленький шкап, наполненный нотами, по всей вероятности, оставленными каким‑нибудь уехавшим любителем музыки: кое‑что для фортепьяно, кое‑что для пения.
– Можете составить каталог.
Мне не пришлось составлять каталога (да я не имела ни малейшего представления, как это делается), т. к. через мою комнату проходила Надежда Яковлевна Брюсова. Сначала она меня просила переписывать ей русские народные песни – «Мы издаем новый сборник». Потом постепенно, рассказывая со страстью о своей работе в школьном отделе, она переманила меня к себе. У нее было весело. Наша небольшая группа сотрудников состояла из нескольких учениц, музыкально очень малограмотных, но ярых поклонниц Надежды Яковлевны. Их объединение походило на фанатическую секту. К ним присоединилась я. (О страх! О ужас! Консерваторка, то, что они презирали и чего боялись больше всего.) К тому же я привлекла еще двух своих подруг, тоже из консерватории. Мы все одинаково интересовались нашей работой и жили в полной дружбе – a happy family. Наше творчество, как тогда говорилось, было рассчитано не на всероссийский, а на всемирный масштаб. Нужно было добиться, чтобы все дети с колыбели распевали «правильные» старинные русские песни; чтобы в школах они их изучали, любили; а после школы, уже будучи взрослыми, собирались бы по вечерам, пели их хором и вели о них дискуссии. К народным песням мы присоединяли еще и оперную музыку, преимущественно русских авторов. Сверх того, мы приготовляли еще инструкторов, умеющих все это осуществлять, а также знакомить людей с инструментальной классической музыкой на курсах так называемого «Слушания музыки». Нас было 3–4 инструктора. Меня как‑то послали в Пресненский район читать лекцию. Слушали меня голодные, пожилые, опытные и ничем не интересующиеся школьные учителя музыки. Мне было неловко их поучать, но меня утешало, что я излагаю не свои мысли, а идеи Брюсовой; причем идеи Брюсовой были наполовину ее, а наполовину Яворского, с которым у нее была всю жизнь романтическая дружба.
Идеи Яворского были необычайно оригинальны и талантливы, и сильно меня увлекали. С ним лично я не встречалась: он жил в Киеве. Инструкторов также заставляли давать в школах показательные уроки. К великому страху моему, мои слушатели на Пресне заявили, что придут на мои уроки поучиться, но, к моему большому облегчению, они этого не осуществили.
С двумя моими подругами – инструкторами мы решили под прикрытием уроков хорового пения преподавать детям религию. После первого урока мы встретились. Первая моя приятельница, Вера, имела какой‑то магнетический дар: ученики после урока отказались от игры на перемене и следовали за ней, как в сказке о волшебном флейтисте. У Нади урок прошел гладко: все всё спели без скуки, но и без особого интереса.
У меня же было полное фиаско. Мне не удалось собрать детей вокруг рояля (мне отвели эстраду маленького зала), никакого хора не состоялось, а когда я встала и вышла из зала, у меня оказался прикреплен сзади бумажный хвост.
В эти переходные годы школы были в хаотическом состоянии. Учителям было указано дать детям полную свободу. Детей же поощряли к слежке за учителями и писанию доносов. Школа, куда нас послали, была создана через объединение женского института благородных девиц с мужской школой какого‑то самого низкого ранга.
Особенный беспорядок царил в «Показательной школе Наркомпроса». Там дети каждый понедельник свободно избирали себе группу, в которую их записывали, и несчастные учителя каждую неделю видели перед собой новые лица. Это называлось тогда «текучими группами» [59]59
Ср. описание сходного «воспитательного эксперимента» Луначарского в воспоминаниях М. В. Сабашниковой – Волошиной: Margarita Woloschin, Die grüne Schlange, изд. 1985, с. 329–331 (главка «Wieder Chimären»).
[Закрыть] .
Вскоре после моего поступления на службу в музыкальный отдел приехали к Вячеславу представители из Театрального Отдела, чтобы пригласить его работать с ними. Вячеслав согласился [60]60
В. Иванов заведовал историко – театральной секцией ТЕО (театрального отдела Наркомпроса). С 1918 до июля 1919 г. ТЕО руководила Ольга Давыдовна Каменева (1883–1941), жена Л. Б. Каменева, сестра Троцкого. 4 августа 1919 г. В. Иванов посвятил ей следующее стихотворение (печатается впервые по автографу ИМЛИ, ф. 51, оп. 1, № 5):
Во дни вражды междуусобной
Вы, жрица мирная народных эвменид,
Нашли в душе высокой и незлобной,
Что просвещенных единит.
И разные, но все с мечтой вольнолюбивойО славе новых зорь и в мир идущих Муз,Сомкнулись в трудовой союзВкруг Вас, порывистой, вкруг Вас, нетерпеливой.И полюбились нам Ваш быстрый гнев и лад,Нрав опрометчивый, и Борджий профиль властный,И черных глаз горячий взгляд,Трагический, упорный, безучастный…И каждый видит Вас такой, – но каждый радВновь с Вами ратовать, товарищ наш прекрасный. В фонде В. Иванова в ИМЛИ (ф. 55, оп. 1, № 5) хранятся также записи Фейги Израилевны Коган (1891–1974) о заседаниях ею организованного в начале 1920 г. «Кружка поэзии». Он работал при Литературном Отделении Московского Государственного Института Декламации (ГИД) под руководством В. Иванова с 29 февраля по 1 августа 1920 г. Встречи происходили почти еженедельно, по воскресениям; всего было 17 встреч. Другой экземпляр записей высказываний В. Иванова на занятиях кружка находится в ЦГАЛИ, ф. 272, оп. 1, ед. хр. 33. Они частично опубликованы в Литературном наследстве, т. 92, кн. 3, с. 496–497, 502, 507.
[Закрыть] , а вслед за ним поступила на службу по «Охране памятников искусства» и Вера. В то время почти все были на какой‑то службе. Случалось, что людей, не зачисленных ни в какое учреждение, посылали на тяжелые работы.
Не всем удавалось работать по специальности. Так, например, Евгения Юдифовна Рапп, belle‑soeur Бердяева, была принята в Центроспичку. Когда Бердяевых высылали за границу, Центроспичка не хотела отпускать Евгению Юдифовну, заявляя, что она у них «незаменимый работник».
Наша служба в Наркомпросе мне вспоминается как отрадный оазис, где соединяешься с друзьями, вырабатываешь какие‑то светлые утопии во всемирном масштабе и забываешь на время кошмар, тебя окружающий. Город был мрачный, точно из него бежало население. Кое – где виднелась пустая лавка кооператива с листочком на витрине – списком вещей, которые продаются: «гуталин, перец». Все магазины были закрыты, обыкновенно грубо заколочены досками. По вечерам улицы походили на кладбище. Перед окнами Музыкального отдела, на нынешней площади Кропоткина, долго лежал труп павшей от голода лошади. Никто не убирал его, и труп исчезал лишь постепенно, пока его сгрызали собаки. Свирепствовала эпидемия сыпного тифа. Из‑за лопнувших водопроводов везде в домах была невероятная грязь – клопы, тараканы, вши.
Я не помню в эти годы больших собраний друзей. Бывали лишь интимные встречи. Вячеслав часто ходил по соседству к Гершензону. Как‑то раз, вернувшись домой, он рассказывал с одушевлением, какой Гершензон аскет. На стол были поданы скромные угощения, но хозяин за весь вечер медленно, с уважением и почти благоговейно скушал только одну луковицу. С уважением и благоговением относился Михаил Осипович и к предметам. Я помню, как он при мне раз указал на простой деревянный некрашенный стол и начал нам говорить, сколько творчества, сколько работы понадобилось людям, чтобы создать эту кажущуюся простой обиходную вещь. Он показывал с любовью на форму стола, на его ножки, полировку, ящик. Это уважение к предметам, к творчеству и труду, в них вложенным, мне передалось на всю жизнь.
Если не ошибаюсь, именно в тот период, когда начались гонения на Церковь, Булгаков был посвящен в священники [61]61
11 (24) июня 1918 г. в праздник Святого Духа, Сергей Булгаков был рукоположен в Москве. «К рукоположению пришли в храм и друзья мои, бывшие тогда в Москве. Вспоминаю прежде всего о. Павла Флоренского (со своим Васей), участвовавшего и в литургии, М. А. Новоселова, H. H. Прейса, Вяч. Ив. Иванова, H. A. Бердяева, П. Б. Струве, кн. E. H. Трубецкого, Гр. А. Рачинского, В. К. Хорошко, A. C. Глинку (Волжского), М. О. Гершензона, Л. И. Шестова, Е. А. Аскольдову и др. Все они после службы участвовали и в дружеском чаепитии, духовенством храма для нас радушно устроенном (тогда это было нелегко, как и теперь)» (С. Булгаков, прот. Автобиографические заметки. Париж, 1946, с. 42).
[Закрыть] . Перешел в католичество и был рукоположен также О. Абрикосов. Он создал маленькую католическую общину, к которой привлек и жену Бердяева, Лидию Юдифовну [62]62
По всем нам известным данным. Л. Ю. Бердяева перешла в католичество в 1916 г.
[Закрыть] . Сам о. Абрикосов, по свойству своего характера, склонного к фанатизму, вел тогда жизнь до крайности аскетическую.
Где‑то под Москвой находилась образцовая школа с общежитием для маленьких детей. Они учились, играли на свежем воздухе, имели весьма привилегированное питание, медицинский контроль, спорт и т. д. Вере не хотелось расставаться с сыном, но т. к. при совсем исключительных обстоятельствах удалось получить для Димы место в этой школе, он был туда помещен. Верин инстинкт был правильным: через пять дней Дима заразился скарлатиной, давшей как осложнение воспаление легких.
Вера (это была осень 1919 года) была уже в совсем плохом состоянии, и они оба, Вера с Димой, были приняты в санаторий «Габай» в Серебряном Бору [63]63
В. Иванов прожил конец лета и начало осени 1919 г. в Серебряном Бору; там, в августе – сентябре, в санатории «Габай», был написан цикл стихов «Серебряный Бор», III, 509–514.
[Закрыть] .
На некоторое время мы остались с Вячеславом вдвоем. Как‑то пришел к Вячеславу один из его друзей (не помню имени), кажется, религиозный православный философ. Пришел вечером, засиделся, и мы его оставили переночевать. Он утром куда‑то спешно уезжал. Через несколько дней в два часа ночи стучат в дом:
– Открывайте, вставайте, одевайтесь! – Это была ЧК.
Я спала одетая, как днем, в шубе и под грудой всего теплого, что только могла найти. Помню себя такой отупевшей от холода и всей этой жизни вообще, что ощутила лишь животную муку – необходимость вылезти из своей теплой норки в ледяную комнату. А в голове одна мысль: «Если теперь арестуют Вячеслава, нужно будет идти вслед за ним по морозу куда‑то далеко по улицам». В мою комнату открыли дверь, заглянули, но не вошли, пошли к Вячеславу. Затем начальник группы отослал всех в переднюю и стал долго разговаривать с Вячеславом. Он мне на следующий день рассказал, что сразу не мог понять, что тому было нужно; чекист говорил о том о сем и наконец, как бы случайно, спросил, не был ли тут NN ночью и куда он уехал. Вячеслав объявил, что не знает куда. Затем начальник попросил Вячеслава уйти из комнаты и стал докладывать «кому нужно» что‑то по телефону. После этого он вежливо извинился, сказал, что это недоразумение, и они все уехали прочь. Вся Москва тогда жила под страхом таких ночных визитов: они часто оканчивались не так благополучно.
Позже мы узнали, что нашему другу удалось благополучно бежать за границу.
В это время Вячеслав завел большую дружбу с Дегтеревским, который ему организовал целый курс лекций по Достоевскому, а затем и по Пушкину.
Перед Рождеством я отправилась в Серебряный Бор проведать Веру с Димой, и Дегтеревский взял на себя хлопоты кормить Вячеслава. Путь был нелегкий. Я присоединилась к каким‑то людям, ехавшим на розвальнях в направлении Серебряного Бора. Меня ссадили на перекрестке узкой дороги с двумя глубоко врывшимися в снег колеями.
– Идите по колее до самого леса, видите там, вдали? В лесу будет широкая дорога, потом недалеко, повернете по тропинке и выйдете прямо к санаторию.
По полю идти было мучение: либо в узкой глубиной в 1/ 2метра колее, либо спотыкаться в снегу. Вокруг ни души. Темнело, и отражение снега слепило глаза. Дорога через покрытый инеем как бы завороженный лес была восхитительна. Никакого поворота я не нашла, доплелась до какой‑то избы и постучала. Добрая одинокая женщина приютила, даже угостила чем‑то, что имела, и положила спать на теплую печь. Было бы совсем хорошо, если бы не клопы. Впрочем, в те годы и в городе было мало квартир, где их не было.
Рано утром я пришла в санаторий и застала Веру с Димой больными в постелях. У Димы после скарлатины воспаление легких, у Веры начало быстротечного туберкулезного процесса. Не прошло и двух дней, как в комнату внесли постель и для меня, т. к. у меня начался острый бронхит с температурой. Все москвичи, попадавшие из своих ледяных квартир в тепло отопленный Серебряный Бор, сразу заболевали. На Рождество к нам заехал Вячеслав. К этому Рождеству 1919 года относятся его зимние Сонеты [64]64
Цикл в 12 сонетов был начат в Рождественские праздники 1919 г. и окончен в феврале 1920 г. См. III, 568–573.
[Закрыть] . По ним и по фотографиям того времени можно догадаться, какой ад у него был тогда на душе. Внешне он был все тот же спокойный и открытый для всех.
Зима души. Косым издалека
Ее лучом живое солнце греет,
Она ж в немых сугробах цепенеет,
И ей поет метелицей тоска.
Охапку дров свалив у камелька,
Вари пшено, и час тебе довлеет;
Потом усни, как все дремой коснеет…
Ах, вечности могила глубока!
Оледенел ключ влаги животворной,
Застыл родник текучего огня.
О, не ищи под саваном меня!
Свой гроб влачит двойник мой, раб покорный,
Я ж, истинный, плотскому изменя,
Творю вдали свой храм нерукотворный [65]65
III, 569.
[Закрыть] .
В санатории одновременно с нами был немецкий поэт Groeger [66]66
В начале 1980–х годов Лидия и Димитрий узнали от сына Groeger’a, что его отец перевел на немецкий язык много стихов В. Иванова.
[Закрыть] . Он часто заходил к нам в комнату и долго беседовал с Верой. Меня же интересовал другой больной санатория. Это был профессор Георгий Конюс, музыковед. Видя мою страсть к теоретической части музыкальной композиции, он часами мне показывал за роялем свои исследования музыкальных форм, которые он готовил к печати, и рисовал мне составленные им интереснейшие схемы.
Все возможные продления санаторных сроков были использованы, и Вере с Димой пришлось уехать в город. Меня оставили еще на несколько дней, т. к. у меня тоже начался процесс в верхушках легких. У кого же его не было в эту эпоху?
В начале 1920 года, благодаря покровительству Луначарского, были выданы командировки за границу Бальмонту, Вячеславу и другим. Наш случай был особенно исключительным, т. к. командировки с семьей обычно не давали. Все было уже организовано и даже назначен день отъезда, кажется, в мае месяце. Вера и все мы мечтали об отъезде в Швейцарию, в Давос. Мы верили, что там она сможет вылечиться от легочного процесса.
Я была на последнем курсе по фортепьяно в консерватории. Гольденвейзер дружески меня уговорил досрочно держать выпускной экзамен, чтобы перед отъездом снабдить меня дипломом. Я работала с утра до вечера. Мы наняли комнату на даче, где‑то под Москвой, в имении «Голубое», чтобы Вера с Димой пока могли там жить на хорошем воздухе.
В июне, после окончания консерватории, и я туда поехала. К этому времени относится Переписка из двух угловмежду Вячеславом и Гершензоном [67]67
В своих воспоминаниях «Здравница» («Возрождение», 1929, 14 марта, № 1381) В. Ф. Ходасевич писал: «Летом 1920 года я прожил в этом убежище около трех месяцев. В то время оно еще называлось ”дравницей для переутомленных работников умственного труда“ /…/ В здравницу устроил меня Гершензон, который сам отдыхал в ней, так же как Вячеслав Иванов. Находилась она между Плющихой и Смоленским рынком, в 3–м Неопалимовском переулке, в белом двухэтажном доме. /…/ Было очень чисто, светло, уютно. Среди тогдашней Москвы здравница была райским оазисом. Мне посчастливилось: отвели отдельную комнату. Гершензон с Вячеславом Ивановым жили вместе. В их комнате, влево от двери, стояла кровать Гершензона, рядом – небольшой столик. В противоположном углу (по диагонали), возле окна, находились кровать и стол Вячеслава Иванова. /…/ Из этих‑то ”двух углов“ и происходила тогда известная ”Переписка“. Впрочем, к моему появлению она уже заканчивалась. Гершензон вскоре и вовсе покинул свой угол, а несколько позже и Вячеслав Иванов». Ср. также письмо Гершензона Шестову от 26 июня 1922 г: «На днях я прочитал в ”Накануне“ статейку Лундберга об этой книжке [Переписке из двух углов. – Ред.] Он воображает: сосновый бор, здравница с некоторым комфортом, и т. под. Нет, это была тесная, грязная, без малейшего комфорта и с плохой едой (однако много лучше домашней, которая тогда была – голод) здравница в 3–м Неопалимовском пер. Грязно, душно, тучи мух, ночью шаги в коридоре к уборной, на окне занавески нет, матрац – как доска, – и духота; я там переночевал только первую ночь, а после – благо близко – ходил туда только обедать и ужинать 2 раза в день. А В. И. там жил, потому что весь день был в Театральн[ом] Отд[еле], а вечером – лекции, и спал он крепко. Начал переписку он, и стал понуждать меня ответить ему письменно. Мне было неприятно, потому что в этом есть театральность, и я был очень слаб – не было никакой охоты писать. Но он мучил меня до тех пор, пока я написал. Потом все время он отвечал тотчас, а я тянул ответ по много дней, и он пилил меня; а мне не писалось. Оттого под его письмами всегда есть дата, а под моими нет; напишу начало, оно лежит 5–6 дней, он пристает, и наконец допишу. Я это время все лежал и читал Нансена. По моему настоянию и прервали на 6–й паре; он хотел, чтобы была ”книга“. А тут уж у него завертелось: В[ера] Конст[антиновна] умирала; нам не пришлось даже сряду перечитать наши листки разного цвета и формата (бумаги тогда нельзя было достать, писали на клочках), ему – потому что было не до того, а я не мог исправлять свои писания, раз онне исправляет и не учтет моих поправок. Так и сдали издателю (чтобы получить гроши гонорара) неперечтенные черновики. Корректуру мне прислали, когда В. И. был уже в Баку, и я потому же ни йоты не мог изменить» (М. О. Гершензон. Письма к Льву Шестову. 1920–1925. Публ. А. д’Амелиа и В. Аллоя. – «Минувшее», вып. 6, 1988, с. 262–263). Переписка из двух угловвпервые была издана петербургским издательством «Алконост» в 1921 г. и переиздана в 1922 в Германии («Огоньки»). Как Гершензон писал Шестову, «Переписка из двух углов читалась за границей» («Минувшее», вып. 6, с. 249), и была опубликована в переводе на французский, итальянский, испанский, немецкий, фламандский и английский языки.
[Закрыть] . Они оба получили разрешение провести шесть недель в Доме отдыха для литераторов под Москвой, и им отвели одну общую комнату.
Когда Луначарский выхлопатывал командировки Бальмонту и Вячеславу, он попросил их дать ему лично честное слово, что они, попав за границу, хотя бы в первые один или два года не будут выступать открыто против Советской власти. Он за них ручался. Они оба дали это слово. Но Бальмонт, который выехал первым, как только попал в Ревель, резко выступил против Советской России. В результате этого выступления Бальмонта командировка Вячеслава была аннулирована. Помню трагическое лицо Веры в окне поезда (она ехала в Голубое), когда она узнала эту весть.
– Это смертный приговор [68]68
Ср. следующий пассаж из письма Гершензона к Шестову от 31 июля 1920 г.: «Печальные дела у Вяч. Иван[ова]. Вера Конст. после плеврита зимою все лихорадила, а теперь у нее скоротечная чахотка в последних градусах; с прошлой недели она лежит в клинике и дни ее сочтены. А он еще весною получил от Наркомпроса денежную командировку за границу, и уже его паспорт заграничный был почти готов, чтобы ехать со всей семьей, но тут‑то Вере Конст. и стало хуже» («Минувшее», вып. 6, с. 245).
[Закрыть] .
Последняя ее надежда на выздоровление в Давосе рушилась.
Мой выпускной экзамен в Малом зале консерватории не был праздником. Была на нем с Вячеславом и Димой также и Вера – но в каком состоянии!
Вера скончалась 8–го августа 1920 года, в клинике Московского университета. 6 августа ей минуло тридцать лет. Она была похоронена рядом с Марусей и близко от Эрна на кладбище Новодевичьего монастыря.
После смерти Веры на Вячеслава напал ужас от мысли оставаться еще другую зиму в Москве. Он попросил на службе командировку, раз нельзя в Италию, то куда угодно на юг, где не нужно будет больше видеть снега, где все другое [69]69
В письме к Франку от 3 июня 1947 г. Вяч. Иванов сообщал: «В 1920 году, не выпущенный на волю, хоть имя мое и стояло на очереди заграничных командировок, поехал я на Кавказ с фиктивною командировкой дать отчет об университетском преподавании на Северном Кавказе и самовольно явился в Баку» («Мосты», № 10, 1963, с. 363).
[Закрыть] .
Чтобы дать ему отдохнуть, его послали пока что вместе с семьей (Дима и я) на шесть недель в санаторий в Кисловодск и даже устроили ему удобное путешествие в первом классе какого‑то привилегированного поезда. Мы выехали очень скоро после смерти Веры – еще в августе, после одной из панихид по ней. Я уложила какие‑то вещи (по неопытности много лишнего) и мы оставили Москву, покидая навсегда все остальное: библиотеку, рукописи, письма.
Путешествие в Кисловодск было не лишено осложнений. В то время на юге бушевал «Батька Махно», командовавший вооруженными шайками, которые грабили поезда, убивали людей, нападали на села, угрожали даже Харькову, через который мы должны были ехать. Наш поезд был отправлен куда‑то далеко в сторону и остановился. Был вечер. Из окна слышался жалобный звук кларнета – кто‑то упорно разучивал все тот же пассаж.
– Где мы?
– Синельниково.
Станция находилась, по – видимому, на скрещении железнодорожных линий: стояло несколько поездов. Один был военный – тот, где солдат упражнялся на кларнете. Мы улеглись спать. Ночью просыпаемся, поезд все еще стоит, играет кларнет.
– Где мы?
– Синельниково.
Утром просыпаемся – то же самое. Думаю, что когда мы наконец получили известие, что под Харьковом все благополучно, солдат прекрасно разучил свой пассаж. Поезд двинулся и, описав большой крюк, благополучно попал на путь к Кисловодску.
* * *
В Кисловодске жизнь текла мирно до известного дня, когда вдруг с раннего утра послышалась канонада. Сначала слабая, далекая; потом все громче. В зале санатория появилось объявление, приказывающее всем партийным больным незамедлительно приготовить багаж и спуститься на вокзал к такому‑то поезду.
– В чем дело?
– Зеленые идут на Кисловодск. Они уже близко. Если увидят коммуниста, беда. Режут.
В полчаса санаторий оказался пустым. Выяснилось, что все были партийные, кроме нас. Мы остались втроем в пустом здании. Канонада усиливалась. Было жутко: если явятся «зеленые», докажи, что ты не верблюд. Вечером мы легли спать. На следующее утро канонады больше не было, и все больные вернулись обратно в санаторий.
– Их отбили.
– А кто эти «зеленые»?
Ответ был неясный:
– Какие‑то кавказские племена.
Вскоре нам объявили, что кисловодский санаторий ликвидируется. Всем больным было предложено написать, куда они желают быть отправленными. Выбор был между Москвой, двумя городами центральной России и Баку. Баку? Вячеслав стал осведомляться. Баку – это юг, он южнее даже Неаполя.
– Что вы? – говорили знакомые. – Баку – это дикий нефтеиндустриальный город. Раз в месяц одно из племен там режет другое. Воды нет, пьют морскую, опресненную. Воздух черный от копоти нефти, а когда дует ветер «норд», то он срывает вывески магазинов, и они летают над городом.
Были и защитники.
– Нет, это все у вас устаревшие сведения. Вода в Баку проведена. Правда, недавно тюрки вырезали почти все армянское население, но это дело прошлое. Сейчас спокойно. А главное, с тех пор, как сделали «парапет», город преобразился.
Вячеслав неустрашимо выбрал Баку. Юг, да и граница близка. Кто знает, не удастся ли перебраться через нее, а потом окольным путем в Италию? В назначенный день приехал санитарный поезд № 14, на котором нам были отведены три плацкарты. Вагоны были все III класса. Посередине каждого вагона стояла железная печка, на которой пассажиры варили себе в общем котле пшенную кашу и кипятили воду для чая. Когда нужно было топливо для печки, поезд любезно останавливали и пассажиры забирали дрова, заготовленные вдоль полотна. Путешествие до Баку длилось девять дней. Осложнение было в том, что наш поезд то и дело встречался с другим, на котором должен был ехать какой‑нибудь важный комиссар, оставшийся почему‑то без паровоза. Комиссар забирал себе наш паровоз, а мы стояли в ожидании: авось судьба нам пошлет другой. Все станции и железнодорожные здания вдоль нашей дороги были сожжены. Люди куда‑то попрятались. Мы ехали по прекрасной пустыне мимо немногих обгорелых покинутых строений.
В одном месте, где вдали виднелся аул, пассажиры попросили начальника поезда остановиться близ маленькой станции, где еще сидел одинокий телеграфист. Пассажирам очень захотелось найти в ауле сала, яиц или сыра, вообще чего‑нибудь необыкновенно вкусного. Целая компания двинулась к аулу. Вячеслав остался в поезде, а мы с Димой отправились в сопровождении молодого галичанина, студента (единственного, кроме нас, беспартийного пассажира). Мы как‑то оказались в стороне от других. В ауле нам удалось найти одного старика, который нам рассказал, что тут население восстало («зеленые?»); потом была красноармейская карательная экспедиция, все было отобрано, люди разбежались, в ауле нет корки хлеба. Добрый старик дал нам кусок арбуза, и мы отправились обратно. Каков же был наш ужас, когда, выйдя из аула, мы увидели вдали наш поезд, который пустил дымок и сначала тихо, а потом набавляя ход, укатил вдоль долины, повернул и скрылся.