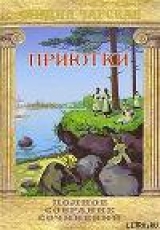
Текст книги "Приютки"
Автор книги: Лидия Чарская
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Короткий осенний день клонится к вечеру.
В классных приюта зажжены лампы. В старшем отделении педагогичка-воспитательница Антонина Николаевна Куликова дает урок русского языка.
В среднем отделении приютский батюшка отец Модест, еще молодой, худощавый человек с лицом аскета и строгими пытливыми глазами, рассказывает историю выхода иудеев из Египта.
В младшем отделении горбатенькая надзирательница рисует на доске печатные буквы и заставляет девочек хором их называть.
– Это "а…", «а», а вот «б». Повторите.
И девочки хором повторяют нараспев:
– А… б…
Дуня с изумлением оглядывает непривычную ей обстановку.
В большой классной комнате до двадцати парт. Темные деревянные столики с покатыми крышками, к ним приделаны скамейки. На каждой скамье помещается по две девочки. Подле Дуни сидит Дорушка… Через небольшой промежуток (скамейки поставлены двумя рядами в классной, образуя посередине проход) – костлявая Васса, рядом с ней хорошенькая Любочка Орешкина. Направо виднеется золотушное личико Оли Чурковой.
Все здесь поражает несказанно Дуню. И черные доски, на которых можно писать кусочками мела, и покатые пюпитры, и чернильницы, вделанные, словно вросшие в них.
– В… Г… – выписывает тетя Леля.
– В… Г… – повторяют дружным хором малютки-стрижки.
Белые буквы рябят в глазах Дуни. Устало клонится наполненная самыми разнородными впечатлениями головка ребенка…
Двенадцатичасовой переезд на «чугунке»… Новые лица… Тетя Леля… Доктор… Сад… Плачущая Феничка… Котята… И эти буквы, белые, как молоко, на черном поле доски…
– Не спи, не спи! Слышь?.. В четыре чай пить будем! – последней сознательной фразой звенит в ее ушах знакомый уже Дуне Дорушкин голосок, и, измученная вконец, она падает головой на пюпитр.
* * *
Снова столовая… После двух часов с десятью минутами перерыва занятий «научными предметами», то есть уроками Закона Божия, грамотой, и арифметикой, воспитанниц ведут пить чай.
Та же мутная жидкость в кружках и куски полубелого хлеба расставлены и разложены на столах. Проголодавшаяся Дуня с жадностью уничтожает полученную порцию и аппетитный бутерброд с колбасой, исходатайствованный у начальницы Антониной Николаевной после неудачного масла за обедом.
После чая до пяти часов дети свободны. В пять урок пения.
Маленький, худенький, желчного вида человечек с козлиной бородкой ждал их уже в зале, просторной, почти пустой комнате с деревянными скамейками вдоль стен, с портретом Государя Императора на стене и с целым рядом поясных фотографий учредителей и попечителей приюта. В одном углу залы стоит большой образ с теплющейся перед ним лампадой, изображение Христа Спасителя, благословляющего детей. В другом небольшое пианино.
Онуфрий Анисимович Богоявленский едва кивает головой на приветствие воспитанниц и бросается с такой стремительностью к инструменту, что старшие не выдерживают и фыркают от смеха.
Учитель пения из семинаристов, болезненный, раздражительный, из неудавшихся священников, предназначавший себя к духовной деятельности и вышедший из семинарии за какую-то провинность, зол за свою исковерканную жизнь на весь мир. Приюток он считает за своих личных врагов, и нет дня, чтобы он жестоко не накричал на ту или другую из воспитанниц.
Главным образом, после шитья здесь в приюте требуется церковное пение. Каждый праздник и канун его, все посты, все службы воспитанницы N-ского приюта поют в соседней богаделенской церкви на обоих клиросах. За это они получают довольно щедрое вознаграждение. Деньги эти вместе с вырученными от продажи по белошвейной, вышивальной и метельной работам идут на поддержку и благосостояние приюта. Хотя общество благотворителей, основавших приют, и заботится всячески о его существовании, помогая постоянными взносами и пожертвованиями, но расходы сильно превышают доставляемые благотворителями суммы, и самим воспитанницам приюта приходится усиленным заработком, рукоделием и участием в церковном хоре вносить посильную лепту в содержание своего заведения. К тому же своекоштных воспитанниц здесь очень мало. Каких-нибудь полсотни, а то и меньше. Остальную часть приходится кормить и одевать из благотворительных и заработанных ими самими сумм.
Онуфрий Ефимович, или Фимочка, как его прозвали два старших отделения приюта, сразу заметил Дуню.
– Новенькая? – ткнув пальцем по направлению девочки, кратко осведомился он.
– Новенькая, Онуфрий Ефимович! – хором отвечали воспитанницы.
– Подойди сюда! – поманил он Дуню, усаживаясь на круглом табурете перед пианино.
Девочка нерешительно приблизилась.
– Тяни за мною!
Учитель ударил пальцем с размаху по клавише. Получился жалобный, протяжный звук.
Так же жалобно протянул голосом и Богоявленский.
– До-о-о-о…
Дуня испуганно вскинула на него глазами и, пятясь назад, молчала…
– Что же ты, пой! – раздраженно крикнул учитель.
Девочка еще испуганнее шарахнулась в сторону…
– Вот глупая! Чего боится! Никто тебя не тронет! – крикнул снова учитель. – Поди сюда!
Но, вся дрожа, Дуня не трогалась с места. Старшие громко перешептывались на ее счет, средние и младшие вытягивали любопытные рожицы и таращили глаза на новенькую.
– Поди сюда! Поди сюда! – завопил внезапно обозлившийся учитель, срываясь с места.
Ужас обуял Дуню. Она метнулась в сторону, забежала за рояль и, испуганно выпучив голубые глазенки, вся трясясь, как лист, уставилась оттуда на Богоявленского.
– Ага! Ты что же это? Шутить со мною вздумала! – приходя неожиданно в бешенство, закричал Фимочка и снова рванулся за девочкой.
Не помня себя, Дуня бросилась улепетывать от него, не чуя ног под собою. Красный как морковь, Фимочка метнулся за нею.
Они описали круг, другой, обежав рояль, Дуня впереди, Богоявленский сзади…
Старшие, уже не стесняясь, фыркали и хихикали, закрывая рот руками. Средние следовали их примеру. Младшие любопытными глазенками следили за учителем и новенькой, с ужасом поджидая, что будет.
– Да стой же! Тебе говорят стой! Вот-то глупая! – задыхаясь, кричал Богоявленский, преследуя Дуню.
К счастью, растворилась дверь залы и на пороге ее показалась горбунья.
– Что такое? Зачем вы пугаете девочку? – сдвинув брови и сверкнув глазами, накинулась на учителя Елена Дмитриевна.
Дуня со всего размаха уткнулась ей в колени и истеричным голосом зарыдала на весь зал.
– Тетенька, спаси! Тетенька! – высокими пронзительными нотами кричала она, обхватывая ручонками колени надзирательницы и продолжая трястись от страха.
– Ну и голосок, – сделал гримасу Богоявленский, – нечего было и добиваться «ноты» у этой зарезанной курицы. Хорошенький голосок – нечего сказать!
– Вы бы лучше толком объяснили девочке, что от нее требуется, нежели так пугать, – укоризненно произнесла тетя Леля и, обняв Дуню, повела ее в рабочую.
Там сидело несколько «безголосых», то есть не имевших настолько голоса, чтобы петь в хоре, воспитанниц.
К своему удовольствию, Дуня увидела в их числе и Дорушку.
Девочка прилаживала платье из цветных лоскутков на тряпичной кукле, лицо которой было довольно-таки искусно разрисовано красками.
– Займи новенькую, Дорушка, – приказала тетя Леля девочке, а сама отправилась снова в залу.
Дорушка ласково обняла Дуню.
– Хочешь играть со мной? Я буду куклина мама, ты няня, а это (тут она любовно прижала к себе куклу) – маленькая Дорушка, моя дочка?
Та молча кивнула головой, и девочки увлеклись игрою. Из залы до них доносились мотивы церковного пения. Здесь в рабочей шумели маленькие и о чем-то с увлечением шушукались средние и старшие воспитанницы.
Но Дуня и Дорушка ничего не замечали, что происходило кругом.
Играя, Дорушка как бы от имени куклы-дочери расспрашивала няню-Дуню о деревне.
Дуня, дичившаяся сначала, теперь разговорилась, увлекшись воспоминаниями: и про тятьку-покойника, и про бабушку Маремьяну, и про лес, и про цветники в лесу. Особенно про лес…
Дорушка, раскрыв ротик, слушала ее с расширенными от удивления глазами.
Дорушка была кухаркина дочка. Пока она была маленькой, то жила за кухней в комнатке матери и с утра до ночи играла тряпичными куколками. А то выходила на двор погулять, порезвиться с дворовыми ребятами. На дворе ни деревца, ни садика, одни помойки да конюшня. А тут вдруг и лес, поле в Дуниных рассказах, и кладбище. Занятно!
Щечки разгорелись у обеих девочек. Глаза заблестели. Они и не заметили, как пробежало время до ужина.
Ровно в семь раздался звонок. Появилась тетя Леля. Засуетились девочки. Стали спешно строиться в пары. Распахнулась дверь из залы, и ватага «певчих» воспитанниц высыпала в рабочую.
– Ужинать! ужинать! – крикнула горбатенькая надзирательница.
В столовой глаза Дуни слипались, точно в них песком насыпало. Сквозь непреодолимую дремоту слышала девочка, как пропели хором вечерние молитвы, видела, как в тумане, беспокойно снующую фигуру эконома, перелетавшего как на крыльях с одного конца столовой на другой.
Кто-то невидимый наложил ей на тарелку горячей каши, сдобренной маслом… Она машинально ела, изнемогая от усталости, пока ложка не выпала у нее из рук, а стриженая головка не упала на стол, больно ударившись о его деревянную доску.
– С шишечкой честь имею поздравить! – засмеялась костлявая Васса, сидевшая поблизости Дуни.
– Молчи. Зачем смеяться? Нешто она виновата, что уморилась… – прозвенел ласковый голосок Дорушки, и стрижки прокричали хором:
– Тетя Леля! Тетя Леля! Новенькая уморилась. Походя спит!
Что было потом, Дуня помнит плохо.
Две худенькие жилистые руки горбуньи подхватили ее и повели куда-то.
Куда? Она сознавала мало…
Как в тумане мелькнула лестница… Не то коридорчик, не то комната с медным желобом, прикрепленным к стене, с такими же медными кранами над ним, вделанными в стену… Дверь… И снова комната, длинная, с десятками четырьмя кроватей, поставленных изголовьем к изголовью, в два ряда.
Все кровати одинаково застланы жидкими нанковыми одеялами с крепкими подушками в головах, в грубых холщовых наволочках.
– Раздевайся скорее и ложись… Уж бог с тобою, мыться не надо. Глаза не смотрят, вижу, – произнесла Елена Дмитриевна и, собственноручно раздев сморившуюся Дуню, уложила девочку в постель.
Эта постель показалась чем-то сказочным для деревенского ребенка. У бабушки Маремьяны спала она на жесткой лавке, застланной каким-либо старым тряпьем, и прикрытая одежей. Здесь же был и матрац, и одеяло. Маленькое тельце с наслаждением вытянулось на кровати.
– Спи! Христос с тобой! – проговорила горбунья и, перекрестив Дуню, быстро нагнулась и поцеловала стриженую головку в лоб.
Но Дуня уже не слышала и не чувствовала ничего.
Она крепко заснула в одну минуту.
Глава девятаяНенастное осеннее утро… Снег падает большими мокрыми хлопьями и тает на лету, не достигая земли.
– Динь! Динь! Динь! Динь! – звенит заливается колокольчик.
Тоненькая фигурка дежурной по приюту воспитанницы мелькает по коридору, проскальзывает в дортуары, не переставая звонить убийственно нудным, нестерпимо резким звоном, заходит в спальни. Дежурит нынче Липа Сальникова, воспитанница среднего отделения.
У нее тупое, скуластое, некрасивое лицо, толстые вывороченные губы и заспанные сердитые глаза.
Разбудив старших, она перебегает в свою спальню, где ночуют средние, ее однокашницы.
– Вставать, девицы, вставать! – бойко покрикивает она, останавливаясь на пороге.
Потом спешит в «младший» дортуар, к стрижкам.
– Стрижки, вставать! – разносится ее голос по комнате. – Нечего-нечего лентяйничать, на уборку опоздаете, того и гляди. Живо у меня, не то водой окачу.
Маленькие, круглые, как шарики, головенки быстро отрываются от подушек… За ними и сами обладательницы «шариков» соскакивают с постелей.
Дети знают отлично, что с дежурными шутки плохи. Либо одеяло сдернет, либо еще хуже – обольет водою. А в дортуаре холодно и без того! Так выстудило за ночь…
Липа торопливой походкой устремляется на середину комнаты. Там, задернутая темным абажуром, чуть мерцает висячая лампа-ночник.
В одну минуту выдвинут табурет проворной рукой на середину комнаты. Липа вскакивает на него, прибавляет в лампе огня, повернув светильню, потом снимает абажур…
В дортуаре сразу становится светлее. Теперь ясно видно, кто из девчонок не встал и лежа прохлаждается в кроватях.
– Вставать! Вставать! – громким голосом кричит Липа и срывает мимоходом два-три одеяла с заспавшихся малышей.
– Ай! Ай! Оставь! Липочка! Родненькая! Миленькая! Золотенькая! – молит жалобный голосок. – Хо-о-ло-одно, Ли-и-па-а! – Но Сальникова в ответ торжествующе смеется.
– А холодно, так вставай! Чуркова! Ты это что же, дряннушка этакая! До молитвы лежать будешь? – и Липа, стремительно схватив с предпостельного столика кружку, бежит с нею в умывальную. Через минуту она возвращается, сияя той же торжествующей недоброй улыбкой.
– Ты не слушаться? Так на же тебе! – и все содержимое в кружке целиком выливается на малютку Олю.
Липа неистово хохочет. Оля, мокрая, дрожащая в залитой сверху донизу рубашонке, вскакивает с постели, испуганными глазенками впивается в свою мучительницу.
Она хочет сказать что-то и не может. Заикается, путается и, лязгая зубами, дрожит.
– Ну двигайся! Что ровно истукан стоишь? На молитву опоздаешь! – резко прикрикивает Липа.
– А ты не смей Олю обижать. Она у нас слабенькая, того и гляди заболеет! – выскакивая вперед, крикнула Дорушка.
– Не смей! Не смей! Что за командирша такая! – запищали и другие стрижки, окружая внезапно тесным кольцом Липу.
– Ах, вы, такие-сякие малыши! Грозить еще вздумали! – захорохорилась Липа.
– А ты не смей! – наседали на нее девочки.
– Ах, сделай милость, испугалась, сейчас заплачу! насмешничала Липа.
– А вот и испугалась! Небось нас сорок, а ты одна! – крикнула внезапно словно из-под земли выросшая Васса. – Небось попадет тебе!
– Попадет! Попадет за Олю! – защищали стрижки.
– Цыц, молчать! Не то няньку Варвару крикну! – пригрозила Липа.
Няньке Варваре, спавшей обыкновенно в спальне малышей в углу, у печки, вменялось в обязанность присматривать за стрижками и помогать горбатенькой Елене Дмитриевне в уходе за малышами. Сейчас нянька как раз отсутствовала, на несчастье Липы. Окинув быстрым взором спальню, девочки убедились в этом.
Липа Сальникова растерялась немного… Прямо на нее лезла Васса, сжимая в кулачки свои костлявые ручонки десятилетки. Красная от гнева Оня Лихарева, обычная заступница болезненной Чурковой, грозила ей из-за плеч Вассы.
Любочка Орешникова кричала в уши:
– Злая Липа, злющая! Бесстыдница, ишь, что выдумала – маленьких обижать! Тете Леле скажем!
Липа Сальникова разом взвесила свое положение. Приходилось плохо. Надо было идти на мировую со всей этой мелюзгой. Быстро сунув руку в карман. Липа вынула оттуда залежавшийся пыльный кусок сахара и, протягивая его плачущей Оле, произнесла, смягчая свой резкий голос:
– Ну, ладно, ладно! Будет! Ладно уж, поревела и будет! На сахарцу. Эка невидаль, подумаешь! Душ заставили принять ненароком. Не зима еще… Не помрешь. А вот, девоньки, послушайте меня, что я вам скажу-то! Цыганка у нас объявилась. Гадальщица. Слышите? Так твою судьбу тебе расскажет, что любо-дорого. Что с каким человеком через год будет, все увидишь. Приходите нынче вечером в наш средний дортуар. Гадалку вам покажем, – тараторила Липа, и глаза ее лукаво поблескивали на скуластом лице.
– Я боюся! – пропищала Оля Чуркова с не выспавшимися еще глазами сосавшая сахар.
– А я приду! – смело крикнула Васса. – Кто со мной?
– Я! – отозвалась Оня Лихарева.
– И я! – взвизгнула Канарейкина.
– Уж и я, так и быть! – и девятилетняя Алексаша Кудрина вынырнула из-за подруг.
– А кто гадает-то? – с любопытством осведомилась Любочка Орешкина.
– Ишь ты, так тебе и скажи! – усмехнулась Липа. – Придешь – увидишь! Приходи только! Настоящая цыганка, говорят тебе!
– Липочка-душенька, скажи, скажи – кто? – пристали со всех сторон к подростку Сальниковой малыши-стрижки. – Гадалку позови, Липа!
– Ладно, подождете, скороспелки. Будете много знать, скоро состаритесь, – хохотала большая девочка и, не переставая смеяться, выбежала из дортуара.
– Я пойду уже вечером, погляжу на гадалку! – решительно заявила Оня, всегда прежде своих сверстниц отзывавшаяся на всякие шалости.
– И мы, и мы! – запищали другие.
– Нет уж, сидите дома. Мы с Вассой идем, с Любочкой, да Алексашу прихватим, кто постарше. А вы дома с нянькой Варварой останетесь, – с важностью говорила Оня.
В младшем отделении, как и в старшем, и в среднем, были дети разного возраста. Принимали сюда девочек от восьми до одиннадцати лет. С одиннадцати до пятнадцати воспитанницы составляли второе среднее отделение, и с пятнадцати до восемнадцати – старшее выпускное. Среди стрижек поэтому были совсем еще несмышленые малютки-восьмилетки и девятилетние и десятилетние девочки вроде Любочки Орешниковой, Дорушки Ивановой, Вассы, Они и Сони Кузьменко.
Долго спорили и препирались стрижки, кому идти к гадалке в «среднее» в гости, и сойдет ли «поход» благополучно, тайно от тети Лели, которая строго запретила сходиться своим малышам со средними и старшими воспитанницами.
Внезапно раздавшийся звонок к молитве прервал волнение малюток. Из соседней комнаты появилась знакомая горбатенькая фигура, и тетя Леля, хлопая в ладоши, стала сзывать свое маленькое стадо обычным призывом:
– В пары, дети, в пары!
Начинался однотонный, серый, приютский день.
Глава десятаяОт восьми до девяти вся внутренность коричневого дома как бы выворачивалась наизнанку. Трудно узнать приют в этот утренний час.
Всюду моют, скребут, натирают, метут, снимают в углах паутину… Старшие и средние носят тяжелые ведра с водою, моют полы, двери, окна или тщательно оттирают медные заслонки у печей, дверные ручки и оконные задвижки.
Малыши помогают по мере сил и возможности средним и старшим.
В грязных, грубых, холщовых передниках, с раскрасневшимися лицами девушки и дети с одинаковым усердием работают на уборке.
Вон пробежала беленькая, хрупкая и изящная Феничка Клементьева с полным до краев ведром мыльной воды… Та самая Феничка, что часто, сидя в уголку, читает потихоньку чудом попавшие ей в руки романы и обожающая богатыря-доктора Николая Николаевича.
Сейчас Феничку узнать нельзя. Вместе с Шурой Огурцовой, своей подружкой, она льет воду на доски коридора и начинает энергично водить по полу шваброй, обвязанной тряпкой на конце.
– Маленькие! Стрижки! – кричат взапуски Феничка и Шура. – Тащите сюда мыла. Нянька Варвара даст…
Дорушка и Дуня, находившиеся поблизости, устремляются по поручению средних. И через минуту несутся обратно, таща вдвоем большой кусок серого мыла, добытый у няньки.
Вот уже месяц, как живет в приюте Дуня.
Трудно поверить, что это та самая маленькая деревенская девочка, которую четыре недели тому назад доставил в приют Микешка.
Личико Дуни вытянулось, заострилось. Здоровый деревенский загар почти исчез с него. Глаза стали больше, острее. Осмысленнее, сосредоточеннее глядят они теперь на божий мир. Многому уже научилась в приюте Дуня.
Умеет она узнавать буквы русского алфавита; умеет выводить склады. И шов стачать умеет и сшить, что понадобится "вперед иголку", и песенкам кой-каким научилась, хотя и не участвует в церковном хоре, потому что сердитый Фимочка решительно заявил, что у новенькой не голос, а "козлетон".
Впрочем, в хоре стрижки участвовали лишь на «подтяжку». Серьезного пения от них не требовалось, для этого они были еще слишком малы.
Все меньше и меньше тоскует по деревне Дуня… Уходят от нее куда-то далеко и лес, и избушка, и кладбище с материнской могилкой… Другая жизнь, другие люди, другие настроения овладевают девочкой…
А тут еще Дорушка Иванова скрашивает ее жизнь, да тетя Леля, добрая горбунья, всячески ласкает сиротку.
Тетю Лелю Дуня любит, как родную. Бабушку Маремьяну она так не любила никогда. Разве отца, да лес, да лесные цветочки. От одного ласкового голоса тети Лели сладко вздрагивает и замирает сердечко Дуни… Не видит, не замечает она уродства Елены Дмитриевны, красавицей кажется ей надзирательница-калека.
И к Дорушке привязалась девочка за этот месяц, как к любимой сестричке.
Совсем особенная эта Дорушка, таких еще и не видала детей Дуня.
Всегда спокойная, ровная, одинаковая со всеми. А уж такая добрая, что и сказать нельзя… Чуть от кого-нибудь перепадет конфетка ли, пастилка или просто кусок сахару Дорушке, ни на минуту не задумываясь, разделит его на массу мелких кусочков девочка и раздаст подружкам, кто поближе стоит. А то и себя забудет, отдаст и свой кусочек.
И никто, кроме Дорушки, не сумеет примирить ссорящихся девочек, заступиться за обиженную, пристыдить обидчицу. Зато она – общая любимица. Даже завистливая Васса и задорная Оня Лихарева никогда не «наскакивают» на Дорушку… И хитрая, лукавая, любящая сунуть во все свою лисью мордочку девятилетняя Паша Канарейкина и та, задевая других, не рискует затронуть Дорушку.
Под крылышком Дорушки Ивановой легче живется Дуне. За нее заступается Дорушка, не дает и в обиду.
Темно-карие веселые и приветливые глазки Дорушки ни на минуту не выпускают из виду Дуню.
И сейчас, участвуя в уборке, девочки находятся неотлучно одна подле другой.
Вытирая мокрой тряпкой пыль с перил лестницы, Дорушка – впереди, позади нее Дуня с сухой тряпкой; девочки спускаются по ступеням, переговариваясь между собой тихим шепотом.
Почти спустившись на нижнюю площадку лестницы, они увидели бегущую к ним рыженькую старшеотделенку Женю Памфилову, любимицу Пашки.
– Девоньки миленькие, стриженьки, голубоньки! – лепечет возбужденная и красная, как рак, Женя. – Мне к баронессину рожденью подушку гладью кончать надо, спешить, каждый час дорог, а нынче особенно… Ведь завтра-то рожденье – отсылать надо… А тут Павлы Артемьевнина комната не убрана. Дорушка Иванова, либо ты, Дуняша Прохорова, уберите кто-нибудь! Ради господа, за меня! – И голос обычно грубоватой, любившей покомандовать Жени зазвучал непривычными ему мягкими нотами. Дорушка и Дуня испуганно переглянулись.
Сварливую, требовательную и необычайно строгую Павлу Артемьевну приютки большие и маленькие боялись пуще огня. Она не умела прощать. Малейшая детская провинность воспитанницы в глазах Павлы Артемьевны принимала размеры чуть ли не настоящего преступления. И виновную постигала строгая кара.
Имея в своем распоряжении среднее отделение приюта, Павла Артемьевна не ограничивалась, однако, своей воспитательною ролью среди вверенных ее наблюдению подростков. Пользуясь своими правами рукодельной наставницы, она то и дело вмешивалась в дела старшего и младшего отделения. Постоянные недоразумения на этой почве с доброй и мягкой тетей Лелей или сдержанной, вдумчивой Антониной Николаевной отнюдь не умеряли воспитательный пыл Павлы Артемьевны.
На все увещания обеих надзирательниц она неизменно отвечала одно и то же:
– Ах, оставьте меня действовать по собственному усмотрению! Ведь через два-три года ваши девчонки, Елена Дмитриевна, перейдут ко мне. Должна же я наблюдать за ними исподволь, чтобы ознакомиться с индивидуальностью каждой из них!
И Павла Артемьевна "знакомилась…". Своим ястребиным оком она следила неустанно за каждой «стрижкой», преследуя детей всюду, где только могла. Как это ни странно, но доставалось от Павлы Артемьевны больше всего или чересчур тихим, или не в меру бойким девочкам. Одобряла же она сонных, апатичных воспитанниц да хороших рукодельниц. Не любила живых и веселых вроде Они Лихаревой и Любы Орешкиной. Не выносила тихонькую Дуню и болезненную, слабенькую Олю Чуркову.
Дуню Павла Артемьевна невзлюбила более всех. Клички: «деревенщина», "облом", «тюря», "мужичка сиволапая" обильно сыпались на девочку во время рукодельного класса.
К довершению несчастья Дуня шила из рук вон плохо, еще хуже вязала и совсем не умела вышивать.
Ее руки, непривычные к такой работе, делались как деревянные в тяжелый для девочки класс рукоделий.
Как могла, помогала своей подружке Дорушка, мастерица и рукодельница на все руки. Несмотря на свои девять лет, маленькая Иванова шила и вышивала гладью не хуже другой старшеотделенки, возбуждая восторг и зависть воспитанниц. За искусство Дорушки Павла Артемьевна прощала многое и Дуне, как ближайшей ее подруге. Но Дуня не могла не чувствовать глубоко затаенной к ее маленькой особе неприязни со стороны ее врага.
И сейчас, услыша просьбу Жени Памфиловой, она вздрогнула от одной возможности убирать комнату «страшной» средней надзирательницы.
Рыжая Женя выжидательно глянула на обеих подруг.
– Ну? – нетерпеливо проронили ее пухлые губы.
Дорушка и Дуня переглянулись снова.
– Чего глаза таращите, – вдруг сразу разошлась Женя, – или, дурочки, не знаете, что я вам честь делаю, предлагая убрать комнату самой Павлы Артемьевны? Чувствуйте!
Голос Жени зазвенел привычными ему «командирскими» нотами. Веснушчатое лицо приняло гневное выражение.
– Ну же, малыши! Будете вы слушаться или нет?
Бойкие карие глазки Дорушки испуганно вскинулись на грозную старшеотделенку.
– Мы… мы…
– Ну замычала, что твоя корова! – расхохоталась Женя. – Эх, дура я, дура, стала еще с вами канителиться! Попросту, без разговора, надо было приказать! Живо у меня брать ведро, тряпку и к Павле Артемьевне марш! Так-то лучше!
И с разом изменившимся лицом, без малейшего уже признака смеха. Женя Памфилова топнула ногой и, сверкнув маленькими глазками, схватила за плечи сначала Дорушку, потом Дуню и с силой подтолкнула обеих…
– Ступайте-ступайте, нечего прохлаждаться зря! Скоро к рукодельным часам зазвонят, управляйтесь поживее, не то нагорит и от Павлы Артемьевны, и от меня получите на орехи! – крикнула она вдогонку подругам и, живо повернувшись, устремилась в рабочую, где ее ждала почти оконченная, гладью вышитая нарядная подушка, завтрашнее подношение попечительнице приюта.








