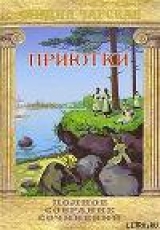
Текст книги "Приютки"
Автор книги: Лидия Чарская
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
– Ну, что ты тут наковыряла? – послышался недовольный голос над головой Дуни.
Она со страхом подняла глазенки и встретилась взором с круглыми птичьими глазами Павлы Артемьевны.
– Батюшки-святители! Вот напутала! Сам домовой не разберет!
Энергичные брови надзирательницы сжались на переносице, глаза сердито блеснули.
– Деревенщина, как есть деревенщина! Шва стачать простого не умеет! Неужто не приходилось тебе ничего зашивать? – и брезгливо поджимая губы, Павла Артемьевна выхватила из рук Дуни неумело стаченную по шву тряпочку и разорвала ее снова по шву.
Едва успела она продеть в иглу новую нитку, как сторож с медалями, встретивший нынче Дуню с Микешкой в передней, вышел в зал и сказал, обращаясь к Павле Артемьевне:
– Барышня, к вам братец с женой пожаловали. В комнате дожидаются. Просят на минутку.
– Ага! Сейчас приду! – сразу оживилась та и, вскочив с места с живостью девочки, зашагала к двери. На пороге она остановилась, погрозила пальцем по адресу всех работниц, больших и маленьких, и произнесла своим резким, неприятным голосом:
– А вы – шить! Слышите? С места не вскакивать и работать до моего прихода. Кто-нибудь из старших присмотрит. Памфилова Женя, ты! С тебя взыщется, если опять шум будет. А я сейчас вернусь. – И скрылась за дверью рабочей комнаты. Вслед за тем произошло нечто совсем неожиданное для Дуни.
Лишь только представительная крупная фигура надзирательницы исчезла за порогом, поднялась необычайная суматоха и шум в рабочей комнате.
И взрослые девушки, и подростки, и маленькие «стрижки», как называли малышей в приюте за их наголо остриженные головенки, все это повскакало со своих мест и окружило Дуню.
Послышались неутомимые вопросы. Откуда она? Из какой губернии? Как зовут? Сирота ли? Есть ли родственники или знакомые в Питере? Платная она или казенка?
Девочка, испуганная, ошалевшая, недоумевающая, не успевала открыть рта, а вопросы все сыпались и сыпались на нее градом. Девушки и дети все теснее и теснее окружали ее.
Больше, впрочем, задавали вопросы стрижки и средние, два младших отделения приюта. Старшие же ограничивались лишь молчаливым разглядыванием Дуни и только изредка перебрасывались замечаниями на ее счет.
– Некрасивая…
– Худящая очень…
– Это с голодовок…
– У них в деревне не больно-то густо насчет еды!
– А глаза – ничего себе.
– Ну, вот еще выдумала! Глаза как глаза…
– Обыкновенные…
– Деревенская она, увалень, видать по всему.
– Обломается еще!
– У горбуньи не обломается. Ей бы в средние, к Пашке… Та оборудует живо.
– Что и говорить!
Но вот, растолкав ряды старших воспитанниц, откуда-то вынырнула миниатюрная фигурка стрижки.
– Новенькая! Ты в Москве не была? – задала она вопрос Дуне. И не успела та ответить ей ни да ни нет, как неожиданно чьи-то цепкие руки схватили Дуню за уши и потянули кверху.
– А крикун-волосок где у тебя? Знаешь? – И чья-то быстрая рука ущипнула за шею девочку.
– Ай, – вскрикнула от боли Дуня.
– Ай поехал в Китай. Остался его брат Пай. А брат Пай просил нас: не обижай! – скороговоркой протрещал чей-то задорный детский голосок.
– Полно тебе, Сидорова! Не тронь новенькую! – вступилась беленькая, как снежинка, подросток-девочка лет тринадцати с черными, как коринки, глазами.
– Новенькая! А ты гостинца деревенского с собой не привезла? – зазвенел другой голосок, по другую сторону Дуни. И опять она не успела ответить, потому что третий запищал ей в самое ухо:
– А знаешь ли ты, что ждет тебя здесь, новенькая? – И новый голос умышленно забасил в другое ухо Дуни: – Утром уборка, днем шитье, работа да мутовка, а вечером порка от восьми до девяти.
– Порка! Порка! – захохотали кругом стрижки.
– Да полно вам, полно! – удерживали их старшие. – Нечего зря пугать бедняжку!
Неожиданно прозвенел звонок за дверью и сразу наполнил своими звуками все уголки приюта.
– Динь, динь, динь, динь! – заливался колокольчик.
В ту же минуту большие стенные часы в рабочей отбили двенадцать ударов.
– Обедать, девицы. Обедать! Становитесь в пары. Я за Павлу Артемьевну нынче оставлена. Без разговоров! В столовую попарно. Марш!
И Женя Памфилова, некрасивая рыжеватая девушка, любимица Павлы Артемьевны, подражая надзирательнице, закопала в ладоши.
– Ишь ты, командир какой! – насмешливо кричали Жене старшие, но не решались ослушаться ее, однако.
Спешно становились в пары приютки, занимая места. Взрослые впереди, маленькие сзади.
Одна Дуня оставалась стоять около своего стола, не зная, к кому подойти, растерянная и оглушенная всем этим непривычным для нее шумом и суетою.
– Послушай, новенькая! Становись со мною. У меня пары нет. А мы с тобою под рост.
Дуня подняла голову и увидела перед собою крошечную девочку, ростом лет на пять, на шесть, но со старообразным лицом, на котором резко выделялись красные пятна золотухи, а маленькие глазки смотрели как у запуганного зверька из-под белесоватых редких ресниц.
– Меня Олей звать, Оля Чуркова. А тебя? – осведомилась малютка.
– Дуня Прохорова, – ответила Дуня, но так тихо, что ее едва-едва можно было услыхать.
В следующую же минуту они, взявшись за руки, встали позади всех парою и зашагали вниз по холодной лестнице, ведущей в столовую приюта.
Глава шестаяБольшая, узкая, длинная, похожая на светлый коридор комната, находившаяся в нижнем этаже коричневого здания, выходила своими окнами в сад. Деревья, еще не обездоленные безжалостной рукой осени, стояли в их осеннем желтом и красном уборе, за окнами комнаты. Серое небо глядело в столовую.
– После обеда в сад пойдем! – успела шепнуть маленькая Чуркова Дуне, когда они входили сюда.
За длинными столами воспитанницы разместились по отделениям. На каждое отделение приходилось по четыре стола. Прежде нежели сесть за столы, все они хором пропели предобеденную молитву.
Дежурные по кухне приютки разнесли миски с горячей похлебкой. В похлебке плавали маленькие кусочки мяса, и Дуня, только разве по большим праздникам лакомившаяся мясными щами у себя в деревне, с жадностью набросилась на еду.
Впрочем, и ее товарки от нее не отставали. Девочек поднимали рано, в половине седьмого утра. В семь часов им давали по кружке горячего чая и по куску ситника. Немудрено поэтому, что к обеденному времени все они чувствовали волчий аппетит.
После первого горячего блюда следовало второе. Жирно сдобренная маслом гречневая каша.
В то время как стрижки, подростки и средние накидываюсь на кашу, старшие воспитанницы почти не притрагивались к ней.
– В чем дело? В чем дело? – суетился, волнуясь, толстенький, маленький человечек эконом Павел Семенович Жилинский, перебегая от стола к столу.
– А в том дело, что масло несвежее в каше! – резко ответила одна из более храбрых воспитанниц Таня Шингарева, взглянув в лицо эконома злыми, недовольными глазами.
– Воображение-с! Все одно воображение-с. Видно, голодать не приходилось! – зашипел на нее маленький человечек, кубарем откатываясь к соседнему столу.
– Принцессы какие! Королевны, скажите пожалуйста! Масло им, видите ли, несвежее! Ха, ха!.. – ворчал он, шариком катаясь по столовой. – Небось забыли, что в подвалах-то в детстве не евши днями высиживали. Привередницы! Барышни! Сделай милость! – все больше и больше хорохорился толстяк.
– Вы это о чем? – неожиданно, как бы из-под земли выросшая перед толстеньким человечком, произнесла Павла Артемьевна, появляясь в столовой.
Жилинский так и вскинулся.
– Матушка моя, – завопил он, – что ж это такое, на ваших барышень не угодишь. Вчера была, видите ли, картошка плохая, нынче масло… Не рябчиками же их кормить прикажете! Ах ты, господи!
– Это еще что за новости! Кому масло показалось плохо? Кто бунтует? – так и закипела в свою очередь Павла Артемьевна, в одну минуту очутившись у крайнего стола старшего отделения, где сидела недовольная Таня.
– Татьяна Шингарева? Ты? Опять ты? Вставай и за черный стол марш! – прокричала она над ухом испуганной девочки.
Отдаленный ропот пронесся по рядам старших.
– Не имеете права! Никакого права… У нас своя надзирательница есть. Пусть она и наказывает… Антонина Николаевна пускай разберет, – слышались глухие, сдержанные голоса старших.
– Ага! Бунтовать? Роптать?.. Что? Кто недоволен? Пусть выходит. К Екатерине Ивановне марш. Здесь шутки плохи! Сейчас за начальницей схожу и конец! – надрывалась и шумела Павла Артемьевна, сделавшаяся мгновенно красной, как рак. Ее птичьи глаза прыгали и сверкали. Губы брызгали слюной. Стремительно кинулась она из столовой и в дверях столкнулась с высокой, тоненькой девушкой лет двадцати шести.
Антонина Николаевна Куликова еще сама недавно только окончила педагогические курсы и поступила сюда прямо в старшее отделение приюта. С воспитанницами она обращалась скорее как с подругами, нежели с подчиненными, и, будучи немногим лишь старше их, со всею чуткостью и нежностью молодости блюла интересы приюток.
– В чем дело? – спокойно обратилась она к взволнованной донельзя надзирательнице среднего отделения.
– Полюбуйтесь на ваших сокровищ, милейшая! Хваленая ваша Танечка Шингарева рябчиков пожелала вместо каши с маслом. Вот и бунтуют другим на соблазн! – снова зашипела Павла Артемьевна.
– Сладить невозможно-с на барышень, помилуйте-с, не угодить! – вторил ей эконом.
– Масло несвежее? – спокойным тоном, подойдя к столу, за которым сидела Таня, спросила Антонина Николаевна. И, взяв тарелку с кашей у первой попавшейся воспитанницы, попробовала кушанье.
На миг ее некрасивое, умное лицо с маленькими зоркими глазами отразило гримасу отвращения.
– Каша действительно подправлена испорченным, горьким маслом. Дети совершенно правы, – проговорила она тем же спокойным тоном, – надо попросить Екатерину Ивановну дать им к чаю бутерброды с колбасою, а то они голодные останутся нынче.
– Совершенно верно! – подхватила незаметно подошедшая "тетя Леля", как называли маленькие приютки, а за ними и все остальные свою горбатенькую надзирательницу.
Жилинский побагровел. Павла Артемьевна зашлась от злости и, ни слова не говоря, помчалась к своему среднему отделению, где состояла в качестве надзирательницы, сочетая эту должность с должностью заведующей рукодельным классом.
Горбатенькая тетя Леля обняла Антонину Николаевну и, что-то оживленно рассказывая ей, увлекла ее в угол столовой. Горбатенькая надзирательница очень любила свою молодую сослуживицу, и они постоянно были вместе, к крайней досаде Павлы Артемьевны, которая терпеть не могла ни той, ни другой.
Точно в каком-то полусне прошел весь остальной день для Дуни. После обеда воспитанницы снова пропели хором молитву и, наскоро встав в пары, вышли из столовой в «одевальную», небольшую комнату, примыкающую к передней, где висели их косынки и пальто. Тут же стояли и неуклюжие кожаные сапоги для гулянья.
Тетя Леля поманила к себе Дуню и помогла ей надеть чье-то чужое пальто.
– Это одной больной воспитанницы, завтра подберем тебе другое по росту, – проговорила она, ласково глядя на девочку.
Большой по-осеннему убранный сад напомнил, хотя и очень отдаленно, любимый лес Дуне. Она пробралась подальше, за густо разросшиеся кусты сирени, теперь уже наполовину пожелтевшие и осыпавшиеся, и, присев на срубленный пень дерева, глубоко задумалась…
Нестерпимо потянуло ее назад, в деревню… Коричневый дом с его садом казались бедной девочке каким-то заколдованным местом, чужим и печальным, откуда нет и не будет возврата ей, Дуне. Мучительно забилось сердечко… Повлекло на волю… В бедную родную избенку, на кладбище к дорогим могилкам, в знакомый милый лес, к коту Игнатке, в ее уютный уголок, на теплую лежанку… Дуня и не заметила, как слезинки одна за другою скатывались по ее захолодевшему личику, как губы помимо воли девочки шептали что-то…
Вдруг неподалеку от себя она услышала заглушенный шепот, тихий смех и взволнованный говор трех-четырех голосов. Девочка чутко насторожилась. Голоса не умолкали. Кто-то восхищался, захлебываясь от удовольствия, кто-то шептал звонким восторженным детским шепотком:
– Какие они красивенькие! Гляньте-ка-с, девоньки! Вон этот мой, с черными крапинками… У ты мой хо-ло-сый!
– А мой энтот вот! Душенька!
– Матушки мои!.. Ротик разинул! Ах, ты прелестненький!
– А черненький-то, черненький! У-у, красоточки!
– Девоньки! Идет кто-то!
– Старшие никак!
– А вдруг Пашка?
– Помилуй бог! Спуску не даст!
– Тише ты, Канарейкина… Молчи!
Любопытство разобрало Дуню. Она тихонько приподнялась с пня, раздвинула кусты и просунула сквозь них голову.
– Ах! – вырвалось из груди нескольких девочек, окружавших большой, боком опрокинутый на траве ящик.
Девочек было пятеро. Все они были приблизительно Дуниных лет или чуть постарше. Их лица, обращенные к Дуне, выражали самый неподдельный испуг при виде появившейся новенькой.
Потом две из них, повыше ростом, встали перед ящиком, заслоняя его от Дуни.
Взглянув на одну из девочек, Дуня сразу признала в чей темноглазую миловидную Дорушку, помогавшую ей в рабочей.
Но и Дорушка смотрела на нее теперь неуверенно, подозрительно и с самым откровенным испугом. Дуня смутилась. Краска залила ее щеки. Она уже раскаялась в душе, что заглянула сюда. Хотела нырнуть за кусты обратно, но тут чья-то быстрая рука схватила ее за руку.
Дуня взглянула на костлявую девочку повыше и узнала в ней одну из тех, что смеялась над нею нынче.
– Слушай, новенькая, – заговорила костлявая, – ты нас нечаянно накрыла, так уж и не выдавай. Никому не проговори, что здесь видала, а не то мы тебя… знаешь как! – Девочка подняла кулачок и внушительно потрясла им перед лицом Дуни.
– Она не скажет, что ты! – вмешалась Дорушка, и ее карие глазки обласкали Дуню.
– А ты побожись. Побожись, что никому не скажешь. Мы за то дружиться с тобою будем.
– Не надо, чтоб божилась. Грешно это, Васса! – проговорила некрасивая смуглая девочка с лицом недетски серьезным и печальным.
– Ну уж ты, Соня, тоже выдумаешь, – рассердилась костлявая Васса. – А как выдаст?
– Я не выдам, – поняв, наконец, что от нее требовалось, проговорила Дуня. – Вот те Христос, не выдам! – И истово перекрестилась, глядя на серые осенние небеса.
– Ну, так гляди же. Рука отсохнет, ежели… – тут Васса снова погрозила Дуне своим костлявым пальцем. Потом две девочки отошли от ящика, и Дуня увидела лежавших там в сене крошечных слепых котяток.
Они были еще так малы, что даже не мяукали и казались спящими с их малюсенькими носишками, уткнувшимися в солому.
Дуня даже руками всплеснула от неожиданности и, опустившись на колени, умильно, почти с благоговением смотрела на забавных маленьких животных.
А на нее в свою очередь смотрели пять девочек, жадно ловя в лице новенькой получившиеся впечатления. Потом костлявая Васса с птичьим лицом и длинным носом проговорила:
– Это Маруськины дети. Маруська – наша, и дети наши. Мы их нашли вчера в чулане, сюда перенесли, сена в сторожке утащили. Надо бы ваты, да ваты нет. Не приведи господь, ежели Пашка узнает. Мы и от тети Лели скрыли. Не дай бог, найдет их кто, деток наших, в помойку выкинут, да и нам несдобровать. Вот только мы пятеро и знаем: я – Васса Сидорова, Соня Кузьменко, Дорушка Иванова, Люба Орешкина да Канарейкина Паша. А теперь и ты будешь знать. Побожись еще раз, что не скажешь.
Дуня опять побожилась и еще раз перекрестилась широким деревенским крестом.
– Ну, смотри же!
– Классы скоро начнутся, идтить надо! – проговорила хорошенькая, похожая на восковую куклу Люба Орешкина.
– И то, девоньки! Не хватились бы! – согласилась Дорушка.
– Доктор, доктор приехал! На осмотр, девицы! – прозвенели точно серебряные колокольчики по всему саду свежие молодые голоса.
Вмиг птичье лицо Вассы с длинным носом приняло лукавое выражение.
– Ну, девонька, – обратилась она, гримасничая, к Дуне, – и будет же тебе нынче баня!
– Б-а-ня! – испуганно протянула та.
– Ха-ха-ха! – захохотала Васса. – Спервоначалу доктор Миколай Миколаич тебе палец разрежет, чтобы кровь посмотреть, а окромя того…
– Кровь? – испуганно роняла Дуня.
– А потом оспу привьет! – с торжеством закончила Сидорова.
Дуня дрожала. Глаза ее забегали, как у испуганного зверька.
– Полно пугать, Васса! – вмешалась Дорушка. – Стыдно тебе! Ты всех нас старше, да глупее.
– От глупой слышу, – огрызнулась Васса.
Дорушка пожала плечиками.
– Не бойся, новенькая, – ласково обратилась она к Дуне. – Никто тебе пальца резать не будет. А что оспу, может быть, привьют, так это пустое. Ничуть не больно. Всем прививали. И мне, и Любе, и Орешкиной.
– Мне было больно, – повысила голосок девочка с кукольным лицом.
Дорушка презрительно на нее сощурилась.
– Ну, ты известная неженка. Баронессина любимка. Что и говорить!
– А тебя завидки берут? – нехорошо улыбнулась Люба.
– Я одну тетю Лелю люблю… А баронесса… – начала и не кончила Дорушка.
– К доктору, к Николаю Николаевичу! – где-то уже совсем близко зазвучали голоса.
– Бежим, девоньки! Не то набредут еще на котяток наших, – испуганно прошептала Соня Кузьменко, небольшая девятилетняя девочка с недетски серьезным, скуластым и смуглым личиком и крошечными, как мушки, глазами, та самая, что останавливала от божбы Дуню.
– И то, бежим. До завтра, котики, ребятки наши, – звонко прошептала Дорушка и, схватив за руку Дуню, первая выскочила из кустов…
Глава седьмая– Аа, новенькая! Фаина Михайловна, давайте-ка нам ее сюда на расправу! – услышала Дуня веселый, сочный, басистый голос, наполнивший сразу все уголки комнаты, куда она вышла вместе с тетей Лелей и тремя-четырьмя девочками младшего отделения. Знакомая уже ей старушка, лазаретная надзирательница, взяла за руку девочку и подвела ее к небольшому столику. За столиком сидел огромный плечистый господин с окладистой бородою с широким русским лицом, румяный, бодрый, с легкой проседью в вьющихся черных волосах. Одет он был в такой же белый халат-передник, как и Фаина Михайловна. В руках у него был какой-то странный инструмент.
Дуня, испуганная одним уже видом этого огромного, басистого человека, заметя странный инструмент в его руке, неожиданно вырвала руку из руки надзирательницы, метнулась в сторону и, забившись в угол комнаты, закричала отчаянным, наполненным страха и животного ужаса криком:
– Батюшки!.. Светы!.. Угодники! Не дамся резаться! Ой, светики, родненькие, не дамся, ни за что!
– Что с ней? – недоумевая, произнес здоровяк доктор.
– Испугалась, видно. Вчера из деревни только. Бывает это!.. – отрывисто проговорила изволновавшаяся тетя Леля. – Вы уж, Николай Николаевич, поосторожнее с нею, – тихо и смущенно заключила горбунья.
– Да, что вы, матушка Елена Дмитриевна, да когда же это я живодером был?
И доктор Николай Николаевич Зарубов раскатился здоровым сочным басистым смехом, от которого заколыхалось во все стороны его огромное туловище.
– Дуня… Дуняша… Успокойся, девочка моя! – зашептала горбунья, обвивая обеими руками худенькие плечи голосившей девочки.
Богатырь доктор посмотрел на эту группу добродушно-насмешливым взором, потом прищурил один глаз, прищелкнул языком и, скроив уморительную гримасу, крикнул толпившимся перед его столиком девочкам:
– Ну, курносенькие, говори… Которая с какою немощью притащилась нынче?
– У меня палец болит. Наколола ненароком. – И румяная, мордастенькая, не в пример прочим худым по большей части и изжелта-бледным приюткам, Оня Лихарева выдвинулась вперед.
Доктор ласково взглянул на девочку.
– У-у, бесстыдница, – притворно ворчливо затянул он. – Небось нарочно наколола, чтобы в рукодельном классе не шить? А?
– Что вы, Миколай Миколаич! – вся вспыхнув, проговорила Оня. – Да ей-богу же…
– Ой, курносенькая, не божись! Язык врет, а глаза правду-матку режут. Не бери, курносенькая, на душу греха. Правду говори!
Большие руки доктора упали на плечи шалуньи. Серые навыкате глаза впились в нее зорким пронзительным взглядом.
– А ну-ка, отрежь мне правду, курносенькая! Ненароком, что ли, наколола? Говори!
Темные глазки Лихаревой забегали, как пойманные в мышеловку мышки. Ярче вспыхнули и без того румяные щеки девочки.
– Я… я… – залепетала чуть не плача шалунья, – я… я… нарочно наколола. Только «самой» не говорите, ради господа, Миколай Миколаевич, – тихо, чуть слышно прошептала она.
– Вот люблю Оню за правду! – загремел веселый, сочный бас доктора. – На тебе за это, получай! – И запустив руку в огромный карман своего фартука-халата, он извлек оттуда пару карамелек и подал их просиявшей девочке. Затем осмотрев палец, он приложил к нему, предварительно промыв уколотый сустав, какую-то примочку и, забинтовав руку, отпустил девочку.
Потом принялся за других больных воспитанниц. Одни из них жаловались на головную боль, другие на живот, иные на кашель… Всех тщательно выслушал, выстукал внимательно осмотрел доктор и прописал каждой лекарство. В толпе подруг – воспитанниц среднего отделения стояла беленькая, четырнадцатилетняя Феня Клементьева, изящная и нежная, как барышня.
– Ты что? Что у тебя болит, курносенькая? – обратился к ней доктор. – Небось от урока удрала? Закона Божия у вас нынче, урок? – пошутил он.
Феня вспыхнула, опустила глазки и передернула худенькими плечиками.
– Напрасно вы это, Николай Николаевич, – протянула она с ужимочкой.
– А вот увидим, покажи-ка язык!
Феня покраснела пуще и, плотно закусила мелкими, как у мышонка, зубками верхнюю губу.
– Покажи же язык, курносенькая! – уже нетерпеливее приказал доктор.
Феня, пунцовая, потупилась и не решалась высунуть языка.
– Федосья! Тебе говорят! – прикрикнула на нее Фаина Михайловна.
– Не могу! – простонала Феня. – Не могу я, хоть убейте! Не могу!
– Да отчего же? – живо заинтересовался здоровяк доктор. Молчание было ему ответом.
– Феня?!
Новое молчание…
– Что с нею, кто знает? Курносенькие, говори!
Николай Николаевич удивленными глазами обвел толпившихся вокруг него девочек.
Подошла Елена Дмитриевна…
Ее лицо было строго. Глаза сурово обратились к Фене.
– Клементьева, не дури! Что за глупости! Нужно же Николаю Николаевичу узнать по языку о твоем здоровье…
– Ни за что… Не могу… Язык… Не могу… Хоть убейте меня, не покажу ни за что. – И слезы хлынули внезапно из хорошеньких глазок Фени. Быстрым движением закрыла она лицо передником и пулей вылетела из лазаретной.
– Ничего не понимаю, хоть зарежьте! – комически развел руками доктор.
– Глупая девочка! Истеричка какая-то! Все романы тишком читает, на днях ее поймала, – желчно заговорила горбунья, и длинное лицо ее и прекрасные лучистые глаза приняли сердитое, неприятное выражение.
– А все-таки неспроста это. Ее лечить надо. А чтобы лечить, надо причину знать, от чего лечить, – произнес раздумчиво богатырь-доктор. – А ну-ка, курносенькие, кто мне возьмется разъяснить, что с ней? – совершенно иным тоном обратился он к смущенно поглядывавшим на него воспитанницам-подросткам.
– А я знаю! – краснея до ушей, выступила вперед рябая, некрасивая девочка лет четырнадцати.
– Шура Огурцова? Что же ты знаешь? Скажи.
– Знаю, что Феня вас обожает, что вы ейный предмет, Николай Николаевич. А язык предмету в жизнь свою показывать нельзя. Срам это! – бойко отрапортовала девочка.
– Что?
Доктор остолбенел. Елена Дмитриевна вспыхнула.
– О-о, глупые девочки! – не то сердито, не то жалостливо проговорила она, и болезненная судорога повела ее лицо с пылающими на нем сейчас пятнами взволнованного румянца.
И она, наскоро удалив воспитанниц, стала объяснять доктору про глупую, ни на чем не основанную манеру приюток «обожать» старших и сверстниц, начальство, учителей, надзирательниц, попечителей и, наконец, друг друга.
– Конечно, и обвинять их нельзя за это, бедных ребяток, – проговорила она своим чистым, совсем молодым, нежным голосом, так дисгармонировавшим с ее некрасивой, старообразной внешностью калеки, – бедные дети, сироты, сами лишенные ласки с детства, имеют инстинктивную потребность перенести накопившуюся в них нежную привязанность к кому бы то ни было, до самозабвения. Но это стремление, эта потребность, благодаря неправильному доприютскому воспитанию, часто извратившему фантазию ребенка, принимает уродливую форму в выражении любви романтического характера, в обожании учителей, административного персонала, старших подруг, друг друга… Я борюсь с этим, как могу, борются и мои коллеги, но…
Елена Дмитриевна не докончила начатой фразы.
Прятавшаяся до сих пор в углу Дуня неожиданно чихнула и этим обратила внимание присутствующих на себя.
Николай Николаевич улыбнулся ей ласково и кивнул головой.
– А ну-ка, курносенькая, подойди! Видишь небось сама, что я не кусаюсь, подруг твоих, что были здесь, не обидел и тебя, даст господь, не съем…
И вынув из кармана карамельку, он издали протянул ее Дуне.
Ласковое лицо доктора, его добрый голос, а главное, леденец, протянутый ей, возымели свое действие, и Дуня робко вылезла из своего угла и подошла к врачу.
Тот тщательно выслушал ей грудь, сердце. Осмотрел горло, глаза, причем страшный предмет, испугавший на первых порах девочку и оказавшийся докторской трубкой для выслушивания, теперь уже не страшил ее. Покончив с освидетельствованием новенькой, Николай Николаевич сказал:
– Субъект здоровый на редкость. За эту ручаюсь. Ни истерии, ни «обожаний» у нее не будет. Крепкий продукт деревни. Дай-то нам бог побольше таких ребят.
И поцеловав смущенную малютку, он пожал руки обеим надзирательницам и уехал из приюта, пообещав быть завтра, сказав, что в прививке оспы пока что новенькая не нуждается.








