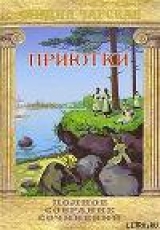
Текст книги "Приютки"
Автор книги: Лидия Чарская
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Закончилось веселое Рождество с его неизбежными святочными гаданиями… Старшие приютки вплоть до Крещения ставили еженощно блюдечки с водою под кровати друг другу с переброшенными в виде мостика через них щепками… Надеясь увидеть во сне «суженого», который должен был перевести через этот первобытный мостик. Слушали под банею и у церковной паперти, убегая туда тишком праздничными вечерами. И в зеркала смотрелись, высматривая там свою судьбу при двух свечных огарках в час полуночи… Молодость брала свое…
Ходили ряжеными к «самой», к эконому на квартиру и доктору Николаю Николаевичу, жившему через улицу.
Жена доктора, добродушная маленькая женщина, любила воспитанниц, как родных детей.
Ездили к баронессе, в Народный дом на представление, слушали оперу «Снегурочка», глядели "Восемьдесят тысяч верст". И долго-долго потом менялись впечатлениями, не засыпая до полуночи и волнуясь о красивом пережитом.
Прошло Рождество, Новый год, Крещение, и снова закипела в приюте прежняя трудовая жизнь.
Теперь уже не было слышно в старшем отделении звучного молодого смеха. Не слышалось, как раньше, беспечного, резвого говора. Тихо и чинно собирались группами, толковали о «главном», о том «неизбежном», что должно было случиться не сегодня-завтра – о выходе из приюта на «вольные» места. Ждали нанимателей, загадывали, какие-то они будут – добрые или злые, хорошее или дурное «место» выпадет на долю каждой…
Теперь ежедневно со старшеотделенками приходили заниматься от четырех до семи закройщицы из французского магазина дамских нарядов. Павла Артемьевна была специалисткою по другой отрасли – белошвейной и вышивальной. Кроме того, она чувствовала себя все слабее с каждым днем и собиралась уезжать лечиться в имение к брату.
Бойкая француженка m-lle Оноре, беспечно болтая про последние городские новости, как бы шутя преподавала свое искусство. Теперь из-под ловких рук более способных к шитью воспитанниц – Вассы, Дорушки, Оли и Любы – выходили шикарные воланы, роскошные буффы, какие-то особенные отделки, похожие на гирлянды цветов, умопомрачительные костюмы, матинэ, капоты. Все это шло на продажу к весенней выставке. А в другом углу рабочей перед большим зеркалом парикмахерский подмастерье обучал другую группу воспитанниц своему сложному искусству. Многие из приюток шли на места в качестве горничных "с прической головы", и эти уроки были для них необходимы. Намечались уже те счастливицы, которые должны были поступить на курсы учительниц в Большом приюте ведомства императрицы Марии. Счастливицы потому, что доля "сельской учительницы" как заправской барышни, почти независимой и бесконтрольно проводившей свой рабочий день, казалась для девушки апогеем высшего счастья.
Дуня Прохорова, Любочка Орешкина и Оня Лихарева должны были продолжать свои занятия по предметам в другом приюте.
В предстоящую осень их решено было поместить в учительскую школу-интернат. Предложена была и Дорушке, как лучшей из воспитанниц приюта, та же почетная доля, но Дорушка категорически отказалась от своего «счастья», имея важнейшую, по ее мнению, цель впереди: помочь матери в деле устройства мастерской и этой помощью отстранить лишние хлопоты и невзгоды с пути начинавшей уже заметно стариться Аксиньи.
Что же касается Дуни, девочка была, как говорится, на седьмом небе. Пройти в два года курс сельской учительницы ей, уже подготовленной первоначально обучением в приюте, и получить место в деревне, в селе, где-нибудь в глуши, среди любимых полей и лесного приволья – это ли была не радость, не счастье для нее, бедной сиротки, настоящего деревенского дитяти!
Она опять увидит то, по чему истосковалась за все эти бесконечные годы ее маленькая, тихая душа! Лес, поле, покосившиеся избушки, золотые нивы… все близкое сердцу и такое родное! Услышит давно не слыханные ею звуки, блеяние овец, мычание коров, почувствует этот сладковато-назойливый запах навоза, такой знакомый и милый каждому ребенку, выросшему в глуши деревень! При одной мысли о том, что она может быть выбрана надзирательницею в другом приюте или оставлена учительницей в городских школах, Дуня замирает от страха… Нет, нет! Она вымолит у святых угодников свою долю быть «сельской», она даст Царице Небесной какой-нибудь трудный-трудный обет, лишь бы исполнилась ее заветная мечта, цель ее молоденькой жизни. Она вымолит себе это счастье у небес!
* * *
Первой получила место Рыжова…
Необыкновенно повезло толстухе… Помещица из Новгородской губернии приехала искать ключницу. В ее имении оказывался большой скотный двор и огромный птичник. Маша Рыжова сияла от счастья.
– Коровушки-буренушки, овечки, птиченьки, утятки, гусятки, цыпляченьки! – с далеко не свойственной ей нежностью и оживлением лепетала толстуха, спешно собирая свое приютское приданое в кованный железом красный сундук. Не менее довольные за участь Маши подруги проводили сиявшую девушку на вокзал.
За нею проводили Вассу, Олю Чуркову и Малашу Кузнецову, бледную, запуганную, недалекую девушку, но большую мастерицу по классу метки белья.
Худая, длинная, как жердь, хозяйка белошвейной приехала за ними однажды цветущим весенним утром.
С испуганными лицами, взволнованные и смущенные три девушки обегали весь приют, прощаясь с подругами и начальством. Васса горько плакала, повисая на шее то у той, то у другой приютки. Маленькая болезненная Чуркова рыдала истошным голосом.
– Бог весть, свидимся ли когда! – всхлипывая, лепетала девочка.
После отъезда веселой, говорливой и насмешливой Вассы как-то опустело в приюте, стало тише и скучней.
– А я выйду отсюда, так и вовсе с тоски помрете! – с апломбом заявляла притихшим девушкам Оня Лихарева и тут же, упершись в бока руками, дробно постукивая каблуками, фертом проплывала по рабочей, мимо сразу оживлявшихся при этом воспитанниц.
Перед наступлением лета две крупные новости ожидали приюток.
Во-первых, строгая и не в меру требовательная Павла Артемьевна покидала приют вследствие какого-то хронического недуга, требующего спокойной домашней жизни, и переселялась навсегда в имение к брату. А на ее место ожидалась новая надзирательница к средним.
Во-вторых, ввиду учащавшихся в городе оспенных заболеваний баронесса Софья Петровна перевозила остающихся в приюте на лето воспитанниц к себе в Дюны, на морское побережье Финского залива, где у нее была огромная дача, целая мыза, спрятанная на горе среди сосновых сестрорецких лесов.
Это была такая радость, о которой не смели и мечтать бедные девочки. Теперь только и разговору было, что о даче. Говорили без устали, строили планы, заранее восхищались предстоящим наслаждением провести целое лето на поле природы. Все это казалось таким заманчивым и сказочным для не избалованных радостями жизни детей, что многие воспитанницы отказались от летнего отпуска к родным и вместе с «сиротами» с восторгом устремились на «приютскую» дачу.
Глава пятаяПески… сосны… холмы… пограничная с Финляндией речонка Сестра, вбегающая в залив, и «оно», самое море, серо-сизое, холодное, далекое, с темнеющими берегами Финляндии с одной стороны, окруженное дачными местностями чуть не вплоть до самого Петербурга с прочих сторон…
Узкая, мелководная и тихая Сестра… Пограничные посты на ее берегу… А там, по ту сторону заставы с шлагбаумом, там уже начинается сама Финляндия, суровая, важная, холодная и красиво-печальная страна.
Когда воспитанницы поднимались на гору, заросшую хвойным лесом, и перед ними развернулся во всей его красе Финский залив, Дуне и Дорушке, особенно чутким к красоте природы, казалось, что сердчишки их дрогнут и расколются от счастья в груди.
– О, это не Крестовский остров, – шептала в восторге Дорушка, проводившая там до сих пор лето на даче у бывших господ ее матери, – это настоящее… Понимаешь ли, настоящее, Дуня!
Но Дуня ничего не понимала. Смотрела, как зачарованная, то на сверкающий под солнцем залив, то на хвойные лучистые шапки сосен, сбегавшие вниз по склону к обрыву, то на дачу баронессы, настоящий дворец с разбитым вокруг него садом. И опять на море, на сосны, на раскинувшийся над нею голубой простор.
– Это рай! Рай! – повторяла она то и дело.
– И то рай! – соглашалась и тетя Леля, подставляя свою горбатую спину калеки горячему июньскому солнцу и улыбаясь счастливой улыбкой и небу, и заливу, и вечно зеленым соснам, и самой даче, казавшейся дворцом.
– О, девочки, мои милые девочки! Как вы поправитесь здесь за лето! – умиленным голосом говорила она окружившим ее воспитанницам. – Как здесь хорошо!
И впрямь хорошо здесь было!
Приютки переехали в числе ста человек на дачу. Двадцать девочек разлетелись на летние вакации по родным.
Но дача вместила всю эту «сотню» с удобствами и комфортом.
Сама баронесса, Нан и Вальтер, перебравшиеся сюда же ради отдыха, поместились в другой небольшой дачке со стеклянной террасой, заставленной деревьями олеандров и розовыми нежными кустами, далеко вокруг дачи распространяющими свой медвяный чарующий аромат…
Запах цветов, смолы, хвои и близкого соседа – залива давал чудеснейшее гармоничное целое… Какой-то букет чистейших эссенций, чудесный букет!
Теперь с самого утра до позднего вечера приютки были на воздухе.
В большом саду, похожем, скорее, на лес, нежели на сад, окружавшем дачу, расчистили площадку, протянули сетку для лаун-тенниса, повесили гамаки, качели, устроили крокет.
Целый день звучали среди зеленых сосен молодые, звонкие и детские голоса. По желанию баронессы работали меньше, больше гуляли, играли в подвижные игры на вольном воздухе, устраивали хоровое пение, купались в море, ходили за ягодами в дальний лес.
Девушки и дети загорели, посвежели, окрепли на диво.
Цветущие щечки, блестящие глаза, довольные улыбки вознаграждали благодетельницу Софью Петровну за ее доброе дело.
Дуня поправилась и загорела больше других. Просыпаясь утром от звука пастушьего рожка и мычанья коров, проходившего мимо окон дачи стада, она, как безумная, вскакивала с постели и, подбегая к окну, настежь распахивала его.
– Как у нас! Как у нас в деревне! – лепетала она, восторженными глазами провожая стадо.
И хотя песочные, хвойные приморские Дюны с их мрачно красивым лесом мало походили своим видом на обычную русскую деревеньку, где родилась и провела свое раннее детство Дуня, душа девочки невольно искала и находила сходство между этих двух вполне разнородных красот.
– Скорее бы, скорее окончить школу учительниц. Сдать экзамен, получить место где-нибудь поблизости от нашей деревеньки! – часто вслух мечтала теперь Дуня, углубляясь с Дорушкой в тенистые аллеи леса-сада.
– Мы вместе уедем, Дуняша, ты в учительскую школу свою, я к маменьке, в магазин, открывать мастерскую. То-то радость будет! Совсем измаялась без помощниц моя старушка! – и Дорушкины обычно спокойные рассудительные глазки принимали нежное, мягкое выражение.
Девушка горячо любила свою мать.
* * *
Тихий летний вечер. Давно закатилось солнышко, утонув до утра в побагровевших водах залива. Затихли веселые голоса купающихся на берегу.
Воспитанницы давно отужинали и пропели вечерние молитвы. Напрыгавшиеся за день стрижки ушли спать. Средние с их новой надзирательницей, стройной барышней в высокой модной прическе, заменившей больную Павлу Артемьевну, пошли играть последнюю партию в теннис. Антонина Николаевна со своими старшими уселась на балконе дачи…
– Девицы, давайте петь хором, – предложила Оня Лихарева.
– Сыро стало, голос сядет, – опасливо заметила Любочка Орешкина.
– Сядет, как же! Да что же это? Ты ему, что ли, стул подашь, чтобы сел? – нехитро сострила Паша Канарейкина, у которой ее лисья мордочка стала совсем коричневой от загара за все время пребывания на даче.
– Ну, уж ты не остри, пожалуйста! – отмахнулась от Паши обидевшаяся Любочка. – Я своим голосом дорожу.
– И руками и лицом тоже! – засмеялась Оня. – Загара боишься, молоком моешься и глицерином на ночь руки натираешь. Видали мы!
– Не твое дело! – вспыхнула Любочка.
– Да полно вам ссориться, девицы!
– Петь лучше давайте! Ишь, вечер-то какой!
Девушки откашлялись, и после недолгой паузы их стройные голоса зазвенели в тихом, вечернем воздухе.
Пели: "Выхожу один я на дорогу", и "Не шей ты мне, матушка, красный сарафан", и "Нелюдимо наше море", и "Хаз-Булат удалой", и "Собрались у церкви кареты" – словом, все излюбленные песни старшеотделенок.
– А ну-ка, девоньки, плясовую! Кто во что горазд! – бойко крикнула Оня и, сбежав со ступеней крылечка, уперла руки в боки, запрокинула задорную головку и, поводя плечиками, замерла в выжидательной позе.
– Ах, вы сени, мои сени! – согласно и звучно грянул хор.
Белой лебедкой сначала поплыла Оня, подергивая плечиками, поблескивая глазами. Но по мере того как ускорялся темп песни, все живее и бойче носилась она, помахивая белым платочком над головой.
Быстро-быстро семеня ногами, порхала она с одного конца площадки, разбитой перед крыльцом, на другой, лихо вскрикивая по временам:
– Ой, жарче! Ой, лише! Девоньки, удружите! Милые, не посрамите! Вот и этак, вот и так!
И волчком завертелась на месте.
– Браво! Браво! Молодец, Онюшка! И ловко же пляшешь, рыбка моя!
И нарядная, по своему обыкновению одетая во что-то легкое, белое и прозрачное, баронесса словно из-под земли выросла перед сконфуженными девушками.
– Батюшки мои! – не своим голосом взвизгнула сгоревшая от стыда плясунья и бросилась было наутек…
– Нет! Нет! Не пустим! Не пустим! Куда! Стой! – И высокая фигура Нан преградила ей путь, расставив руки.
В лице Нан было какое-то особенное оживление сегодня. Глаза юной баронессы горели не свойственным им огнем. Нежный румянец рдел на щеках. Ее изменившееся за последние годы, возмужавшее лицо уже не казалось таким сухим, жестким и некрасивым.
Улыбка чаще обыкновенного появлялась теперь на губах девушки и сообщала какую-то новую черту привлекательности этому умному и серьезному лицу.
В то время как баронесса шутила с воспитанницами, ласкала их и оделяла конфектами, имевшимися всегда с нею в ее элегантном мешке-саке, Нан успела пробраться под шумок к Дуне и шепнуть ей:
– Пойдем со мною в плющевую беседку, мне нужно сообщить тебе одну тайну, большую тайну, Дуняша.
И, схватив за руку девушку, она увлекла ее в глубь сада за собой.
Глава шестаяПлющевая беседка, небольшой ажурный домик, весь обвитый гибкими ползучими, как зеленые змеи, ветками плюща, успела приобрести в глазах приюток за их сравнительно недолгое присутствие здесь репутацию вместилища всяких тайн и секретов.
Сюда приходили для того только, чтобы поделиться новостями первой важности с подругой, или задумать проект новой шалости, или просто поболтать и помечтать о будущем, представлявшемся, несмотря ни на что, таким радостным и светлым всем этим бедным девушкам, далеко не избалованным судьбою.
Плющевая беседка находилась над самым обрывом. Из нее можно было видеть всю зеркальную поверхность залива и приморский сестрорецкий курорт. Его крыши и трубы домов выглядывали из-за сплошной стены розовых стволов и зеленых шапок сосен, пихт и елей.
В противоположной стороне синел огромный разлив реки Сестры – большое озеро в восемь верст в окружности, темное, ропчущее, бурное и предательское, похожее на маленькое море.
Не доходя десяти шагов до беседки, Нан неожиданно остановилась и крепко конвульсивно сжала руку своей спутницы.
– Ты слышишь? Ты слышишь, Дуня?
Ее обычно маленькие теперь расширенные восторгом глаза впились в лицо Дуняши… Румянец ярче и гуще прежнего заиграл на щеках.
– Ты слышишь? Слышишь? – прерывистым шепотом снова зашептала она.
Из маленькой дачи, нанимаемой баронессой и ее семейством, слышались тихие замирающие аккорды.
Это молодой барон Вальтер играл на рояле в тихий вечерний час.
Нежные, задумчивые звуки вылетали из открытых окон и неслись в объятия вечера, растворяясь и тая в его мечтательной, заколдованной тишине.
Где-то недалеко чуть слышно рыдало своим отливом море, и синее ясное и высокое небо, тоже околдованное в своем вечном бесстрастии, казалось, слушало роскошную песнь.
В плющевой беседке было сумрачно и прохладно.
Обхватив руками шею подруги, Нан приблизила Дунину голову к своей и зашептала с не свойственным ей оживлением и жаром:
– Ты слышишь, как он играет, Вальтер, и что он играет! Ах, Дуня, эту бесподобную симфонию он сочинил сам… для меня… То, что он играет сейчас, называется «Встреча»… В ней юноша встречает девушку и дает ей слово вечно любить ее… Да, Дуня, глупенькая, маленькая птичка… Талантливый, знаменитый, прекрасный Вальтер любит меня! Меня, одинокую, никому не нужную, холодную, черствую, нелюбимую даже собственной матерью.
Помнишь, когда ты три года назад рыдала у нас на петербургской квартире? Я призналась тебе во всем. Я говорила тебе, как я несчастна! Но теперь я счастлива, как вряд ли кто другой может быть счастлив на земле… Дуня, милая Дуня! Я – невеста Вальтера, моего дорогого двоюродного брата… Мы сильно любим друг друга, и через год назначена наша свадьба… Моя мать так рада, что ее гадкая, некрасивая и эгоистичная Нан нашла свою судьбу; она сразу дала свое согласие Вальтеру… Если бы ты знала только, какое огромное счастье ждет меня на земле! Как прекрасна такая любовь, как наша!
Нан замолкла, потрясенная своей исповедью, а Дуня с расширенными зрачками и с улыбающимся застенчивым лицом ловила каждое слово юной баронессы. Ее детское сердечко билось спокойно и ровно, не сознавая всей важности такой любви, но чужое счастье захватило эту маленькую впечатлительную душу.
А звуки все таяли и умирали в благовонном июньском воздухе. На смену им рождались новые вдохновенно-прекрасные, молодые и мощные, без конца, без конца. Как никогда прежде, божественно хорошо играл в этот вечер счастливый любящий Вальтер.
– Девицы, кто нынче идет папоротник собирать! Сегодня Иванова ночь… Завтра Купала праздник! – громко заявила с утра Оня Лихарева, первая из старшеотделенок, раскрыв заспанные глаза.
– И впрямь, девушки, клад бы поискать! – мечтательно предложила Любочка.
– Ну, вот выдумала… Какой еще клад! Клад – чепуха. Бабьи выдумки… А вот двенадцать травок бы собрать в полночь, девицы, вот это хорошо! – вставила Паша Канарейкина свое слово.
– Это что, гаданье, что ли? Про суженого? – поинтересовалась Любочка.
– Тебе бы только о суженом, – засмеялась Паша. – Нет, просто судьбу свою увидать можно, ежели двенадцать травок, сорванных ночью, под подушку подложить.
– Ай, девоньки, как же это ночью? Жутко, поди, в лесу в полночь-то?.. – И Акуля Скрипцова, самая трусливая из старшего отделения, даже в лице изменилась от одной мысли пробыть в лесу ночное время.
– И то жутко, – согласилась Любочка, – а все же хорошо бы свою судьбу увидать!
– Помнишь, как Васса у Палани Заведеевой увидела, когда были в стрижках! – лукаво, прищурив один глаз, со смехом напомнила Оня.
– Так то стрижками были, – презрительно протянула Любочка, – трубочистов боялись, а нынче мы, слава богу, выросли под облака.
– Ладно уж! До облаков далече! – усмехнулась Оня.
– А я все же пойду… Лестно судьбу попытать! – настойчиво повторила Любочка.
– И думать не смей. Одна – в лес! Не пущу! – решительно заявила Дорушка и строго сдвинула брови.
Однако упрямую Любочку трудно было переупрямить. Пышная белокурая красавица, совсем уже взрослая годами Любочка постоянно думала о своей наружности, ухаживала за собою и верила твердо, что не доля сельской учительницы, не место мастерицы, модистки, закройщицы и швеи должно ожидать такую красавицу, как она, Любочка, а гораздо более заманчивая судьба… Любочке казалось, что должен был встретиться на ее пути какой-нибудь добрый человек, прекрасный, как сказочный принц, богатый и непременно «благородный», который возьмет ее за себя замуж, увезет Любочку из этого скучного приюта, и будут они жить да поживать в счастье, довольстве и холе. Об этом воображаемом, добром и прекрасном принце Любочка и на картах гадала, и на святках ради него в зеркало смотрела в полночь, и под двери церковные бегала слушать, не раздадутся ли там венчальные напевы "Исайя ликуй".
И сегодня она твердо решила пойти собирать двенадцать трав в соседнем с дачей лесу, чтобы положить их, согласно обычаю, себе под подушку.
Что приснится ей в эту ночь, благодаря душистым волшебным купальным травам, то и будет с нею, Любочкой, в ее жизни.
Весь день девушка была сама не своя, ходила как сонная, ничего не видя и не слыша, была рассеянна, как никогда, и отвечала невпопад.
Чем ближе подвигалось вечернее время, тем мучительнее чувствовала себя Любочка. Трусиха по натуре, она с ужасом думала о том, что несла ей с собою предстоящая ночь.
Поужинав позднее обыкновенного и выпросив разрешение у Екатерины Ивановны, жившей тут же при даче, в особом флигельке, пойти на берег посмотреть, как будут гореть костры, зажженные местными дачниками и коренными жителями местечка – финнами, старшеотделенки под начальством Антонины Николаевны отправились на пляж.
Поплелась было за другими воспитанницами и Любочка. Но, поравнявшись с опушкой леса, мимо которого тянулась дорога к берегу, молодая девушка вынырнула из толпы подруг и, никем не замеченная, юркнула за первое попавшееся дерево.
– Двенадцать трав… двенадцать трав! И узнаю судьбу свою… и узнаю своего суженого… – беззвучно шептали губы Любочки, пока она шла по узкой, влажной от росы тропинке, убегавшей в самую глубь большого соснового леса.
Кругом теснились старые, мохнатые, вековые сосны, дальше молодой, душистый березняк, еще дальше холмы направо и налево… Песчаные горы, поросшие тем же сосновым лесом. А там невдалеке тихо ропчущий своим прибоем залив. Его вечерняя песнь едва уловленными звуками долетала теперь до слуха Любочки. Веселые голоса дачников и финнов, окружавших береговые костры, покрывали сейчас этот тихий и сладкий рокот.
Яркие точки костров, их огневое пламя сквозило между стволами деревьев, освещая лес. Но там, в глубине его, царит темнота. И туда хорошенькая Любочка направила свои шаги, замирая от охватившего ее чувства ужаса.
Все слышанные с детства от няньки Варвары и от других простолюдинок рассказы про Иванову ночь с ее кладом и с бесовскою силою воскресли с особенной яркостью в памяти девушки. Ей казалось сейчас, что там, в полутьме, в кущах хвойного бора, там, где не видно огней, куда не достигает пламя костров, медленно и важно плывут высокие тени странных, неведомых и таинственных существ леса. Любочке слышится чей-то смех, раздражающий и жуткий за кустами волчьей ягоды, тут же, за канавкой сразу, совсем близко-близко около нее.
Не может быть, чтобы дачная молодежь пришла сюда в темноту от веселых костров и шумной суеты на пляже…
Что же это такое? Неужели ночные тени, падающие от деревьев? Ноги стали подкашиваться от страха у Любочки. Зорче вглядывается она в темноту широко раскрытыми, вытаращенными глазами… Сердце бьется все сильнее и громче в груди… Капельки пота выступили на захолодевшем лбу.
"Русалки! Либо леший! Кто их знает!" – вихрем пронеслась взволнованная мысль в юной головке девушки.
Идти назад?
Любочка призадумалась на минуту. В руке ее насчитывалось уже несколько гибких травяных стеблей: тут был и одуванчик с его шарообразным верхом, похожим на клубок ваты, готовый разлететься пухом при малейшем колебании ветерка, и лиловая кашка на шершавом стебельке, и лист подорожника, такой освежающий и прохладный, и мать-и-мачеха, и куриная слепота, и желтый лютик, и белая ромашка… и дикий левкой. Еще немного… еще пять-шесть разнородных цветочков или травинок – и желанный сон Ивановой ночи приснится Любочке с этими душистыми растениями под головой…
А темнота в лесу сгущается все больше и больше… Розоватые у опушки стволы сосен исчезли: появились угрюмые, точно затянутые траурной пеленой хвойные деревья… Они, как мохнатые чудища, сторожат тропинки. Стуча зубами со страху, с холодным потом, выступившим на лбу, Любочка нагнулась еще раз, чтобы сорвать последнюю травинку, выпрямилась и закаменела на месте. Какая-то белая фигура прямо двигалась на нее.
Огромной показалась она трепещущей девушке, необычайно страшной, похожей на привидение.
Любочкины ноги подкосились со страху. Глаза буквально вылезали из орбит. Собранные травы выскользнули из рук, и, вся подавшись назад, девушка закричала тонким, пронзительным высоким голосом:
– Помогите! Спасите! На помощь! А-а-а-а!
– Помогите! Спасите! – неожиданным эхо завопило и белое привидение.
Пронзительным визгом двух отчаянных воплей наполнился лес, и испуганная насмерть Любочка, и, по-видимому, не менее ее самой испуганное «привидение» со всех ног, не переставая визжать, помчались стрелою по тропинке назад, к лесной опушке.
Получилось странное, непонятное зрелище. Две фигуры бежали, едва касаясь ногами земли, почти рядом, наравне одна около другой, но боясь взглянуть друг на друга и отчаянно визжа на весь лес.
Не помня себя, влетела в калитку баронессиного сада Любочка… Сбила с ног попавшуюся ей навстречу няньку Варвару, только что вернувшуюся с берега вместе с воспитанницами, и замерла на груди у подоспевшей к ней навстречу Антонины Николаевны.
– Там… в лесу… белая… страшная… За мною гналась… – рыдая и захлебываясь, роняла она, пряча лицо в складках платья своей надзирательницы.
В ту же минуту вторично распахнулась калитка, и вторая, бледная, как смерть, девушка вбежала на террасу, где строились на вечернюю молитву старшие воспитанницы:
– Ради бога… спасите… в лесу… привидение… Оно сюда бежало… за мною! – вне себя от страха лепетала Паша Канарейкина и смолкла на полуфразе, заметив рыдавшую Любочку.
– Люба Орешкина! Да неужели же это была ты? – сконфуженно, теряясь, проронила она.
Любочка подняла бледное лицо на говорившую… Увидела Пашу и смутилась не менее подруги…
– Так это ты!.. А я-то… дура, думала… – залепетала она чуть слышно.
– Батюшки, светы! вот так анекдот! – подбегая к сконфуженным девушкам, хохотала Оня. – Вот-то хороши обе, нечего сказать! Друг от друга бежали и визжали как поросята! То-то представление было! Ай да мы, в театр ходить не надо! – И веселая девушка залилась гомерическим смехом.
Засмеялись следом за нею и остальные. Засмеялась и Антонина Николаевна, в первую минуту сильно испуганная непонятными слезами Любы. Но тут же умолкла сразу и, сдержав себя, строго выговорила обеим девушкам за их самовольную отлучку.
И в этот вечер и в последующие дни в приютской даче только и было разговору, что о двух «гадальщицах», испугавшихся друг друга до полусмерти. И долго и хорошенькая Любочка, и бойкая «Паша-вестовщица» вспыхивали до ушей при первом намеке подруг об их ночном происшествии.








