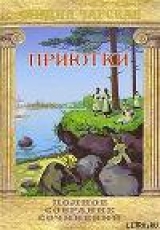
Текст книги "Приютки"
Автор книги: Лидия Чарская
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Апрель… Солнечный и прекрасный, он вливается в настежь раскрытые окна приюта… Он несет благовонные ароматы весны, предвестницы скорого лета, первых ландышей, что продаются оборванной нищей детворой на шумных улицах Петербурга. Улыбки солнца рассылает он щедро властной рукою и дышит в лицо чистым прохладным и нежным дыханием, напоминающим дыхание ребенка.
Небо синее-синее, как синевато-лазурный глазок незабудки. Недосягаемые, гордые и красивые плывут по нему белые корабли облаков… То причудливыми птицами, то диковинными драконами, то далекими, старинными городами с бойницами, башнями, со шпицами церквей, кажутся они обманчивыми призраками из своего лазурного далека…
За ними следят, не мигая, две пары молодых глазок. На окне, открытом настежь, повернувшись лицом к голубому небу, с мочалкой в одной руке и тряпкой в другой стоит Наташа…
Ее глаза восторженно блестят, глядя на небо… Дуня держит ее за оба конца передника, замирая от ужаса при одной мысли, что голова может закружиться у Наташи и собственные слабые ручонки ее, Дуни, не смогут удержать подругу.
Через два дня Пасха… Вчера они приобщались по обыкновению в Страстной четверг. Сегодня приступили к «большой» предпраздничной уборке. Напрасно отговаривала Павла Артемьевна Наташу брать на себя непосильный еще ей после болезни труд; девочка так трогательно молила разрешить ей поработать наравне со всеми, так убедительно доказывала, что сейчас она сильная и окрепшая как никогда и что сама она не возьмется за слишком тяжелое дело, что Павле Артемьевне, особенно светло настроенной после говенья, оставалось только согласиться с нею.
– Только смотри… дальше стирания пыли в комнатах начальства не смей идти! – крикнула убегавшей Наташе вдогонку надзирательница.
– Еще бы!
Все доводы Павлы Артемьевны уже забыты по дороге. Вместе с возвращением здоровья и сил к Наташе вернулась и ее обычная энергия и живость. Ее былые непокорность и эгоизм куда-то исчезли под влиянием смертельного недуга. Она вся стала как-то мягче, ровнее, менее требовательной и тщеславной. Но отрешиться вполне от прочих своих былых грешков Наташа в силах…
Необузданное "я так хочу" еще нет-нет да и прорвется в ней.
Сейчас она помогает Дуне и Дорушке, тщательно отчищающих кислотой дверные ручки, убирать «спальный» коридор…
Окно раскрыто в нем настежь. Внизу зеленеют первые весенние побеги, наверху синеет голубой полог, растянутый над землей… Где-то высоко льется звонкой струей песня жаворонка.
Наташа с жадностью глотает воздух… Ее лицо заалелось… Ноздри трепещут. Улыбаются яркие пунцовые губы… Влажно сверкают, как маленькие звезды, глаза…
С мочалкой в одной руке, с тряпкой в другой она похожа на Золушку или на задорного, шаловливого мальчугана с вихрастой неровной гривкой отросших черных волос…
– Ха-ха-ха, – заливается, смеется она, потряхивая мочалкой, – ха-ха-ха-ха! Хорошо было бы быть птицей, Дуняша… Взмахнуть так крыльями и полететь к солнцу, к облакам. Быстро! Быстро!
– Ради бога, сойди ты с окна, Наташа! Не приведи господь, оступишься! – пугливо лепечет Дуня.
Но Наташа, разрумяненная и похорошевшая от оживления под лучами весеннего солнца, с алым румянцем, снова заигравшим на этом быстро поздоровевшем лице, только машет руками и поминутно хохочет, делясь своими впечатлениями с подругой.
– Вот, гляди, птица пролетела! Какая большая! А вон идет Жилинский по двору… Точно мячик катится. Вот-то толстенный! А вон Феничка с цыганкой вытряхивают начальницины ковры… А знаешь ли, Феничка не любит меня больше! – неожиданно определяет Наташа, вздыхает и делает сердитое лицо…
– Тебя все любят! – торопится уверить ее Дуня.
– Может быть, все… ты… другие… Но не Феничка… Как вышла я из лазарета, помнишь, как все обрадовались тогда, а она посмотрела так удивленно и говорит: "Какая ты некрасивая стала, Наташа! Ты уж меня извини, – говорит, – я тебя обожать больше не буду… Вон, – говорит, – ты худая, желтая, глаза как плошки… А я, – говорит, – красоту люблю…"
– Вот глупенькая! – возмутилась Дуня. – Да разве за красоту любят?
– Феничка за красоту… Теперь она себе в предметы другого человека выбрала… Отца дьякона. Он, говорит, красавец писаный и как грянет "многия лета" с амвона, так вся церковь дрожмя дрожит.
– Дурочка твоя Феня! – задумчиво произнесла Дуня и с явным обожаньем взглянула на подругу. – А для меня ты дороже стала еще больше после болезни. Тебя я люблю, а не красоту твою. И больная, худая, бледная ты мне во сто крат еще ближе, роднее. Жальче тогда мне тебя. Ну вот, словно вросла ты мне в сердце. И спроси кто-нибудь меня, красивая ты либо дурная, ей-богу же, не сумею рассказать! – со своей застенчивой милой улыбкой заключила простодушно девочка.
– Да… да… – с несвойственной ей задумчивостью произнесла Наташа. – Я это понимаю… У меня Арлетта была… гувернантка еще, при жизни благодетелей, – тут черные глаза подернулись туманом, – так она своего жениха, что ждал ее в Париже, вот любила! А он был страшный-престрашный, судя по карточке… Одно плечо кривое… Нос крючком. И уж не очень молодой… Но добрый-добрый и бедный-бедный… И жениться пока не мог. Денег на свадьбу не было. Она и служила у нас, деньги копила… А он там работал… И такие ласковые, хорошие письма ей писал… За эти письма, за доброту его, за сердце ангельское любила. Вот и я также за душу могу любить… – совсем уже тихо заключила Наташа.
Она стояла перед Дуней, вся залитая солнцем на подоконнике большого окна. Глаза ее углубились и потемнели.
– Слушай, Дуняша! – проговорила она голосом, дрогнувшим неожиданными нотками восторга. – Когда я лежала при смерти и страшные видения вставали в моей больной голове, иногда чья-то нежная, нежная рука ложилась мне на лоб, а чудесные знакомые глаза с такой нежностью и любовью смотрели мне прямо в душу. Господи, какая в них жила красота! Потом, когда я уже пришла окончательно в себя и стала выздоравливать, я ее часто видела у своей постели. Нежную, добрую, чудесную тетю Лелю, бедную, горбатенькую мою… И знаешь, Дуня, – тут голос Наташи окреп и вырос, – меня так потянуло к ней, сильно-сильно. Что-то выросло, помню, тогда в моей душе, и я решила стараться быть такой же доброй, как она, заботливой и хорошей… – Наташа замолкла на мгновение, потом продолжала тихо, проникновенно: – До сих пор я никого не любила, а позволяла себя любить тебе, Феничке, другим. Знаешь ли, страшно вымолвить, но я и благодетелей своих особенно не любила… Мне все казалось, что все люди должны любить и баловать меня одну, что это в порядке вещей, что я какая-то особенная, созданная для поклонения… А вот увидела тетю Лелю поближе, оценила ее заботливость и ласку и поняла, кого следует любить… И ее люблю, и тебя, моя крошечка, по-настоящему хорошо, сильно… А теперь бросим болтовню и давай работать прилежно… А то не успеем!
– И то не успеем! – согласилась Дуня и, схватив свою мочалку, погрузила ее в ведро с мыльной водой и стремительно кинулась мыть полы…
* * *
В первый день Пасхи воспитанницы, несколько усталые, но возбужденные и сияющие, ходили в праздничном бездействии, одни по коридору, другие по залу, иные, собравшись тесным кружком, читали в рукодельной какую-то интересную книжку. Павла Артемьевна, нарядная, в шумящем шелковой подкладкой новом платье прошла по коридорам, сея по пути радостную весть:
– Баронесса из заграницы опять недавно вернулась… Завтра старшие и средние, по трое из каждого старшего отделения, пойдете к ней. А сегодня отправитесь все в Летний сад на прогулку.
Софья Петровна с Нан давно уже не посещала приюта. Всю последнюю зиму она провела в Швейцарии, где вот уже четыре года училась в женской коллегии Нан. Девочка оказалась весьма слабого здоровья, и доктора запретили ей петербургский климат.
И Нан была отдана в заграничное учебное заведение. Теперь окрепшая и поздоровевшая на горном воздухе, она возвратилась домой в Россию.
В воспоминаниях Дуни мелькал образ высокой, нескладной девочки, белобрысой и некрасивой, с умным лицом, такой сухой и черствой на вид.
Уже отправляясь на прогулку, чинно выступая подле Дорушки, среди бесконечной вереницы пар по широкому, уличному тротуару и глядя на высокие дома и роскошные магазины, Дуня с ужасом думала о том, как бы ей не пришлось попасть в число «счастливых», назначенных на завтра в гости к попечительнице. Ей с детства не нравилась баронесса. Не нравилась и Нан. Первая казалась ей и тогда притворно-сладкой и неестественно ласковой, а Нан какой-то холодной и замкнутой в себе эгоисткой. Правда, поступок Нан с Муркой примирял несколько Дуню с девочкой, но ведь и у черствых и холодных людей должны являться в душе добрые побуждения. Так думалось Дуне, и все-таки не тянуло ее к баронессе и ее холодной дочери.
Погруженная в свою обычную задумчивость, Дуня машинально выступала по праздничной оживленной улице, не замечая, что делалось кругом. А вокруг нее пышно развертывалась жизнь.
Под торжественный звон пасхальных колоколов шумела улица. Люди шли с праздничными лицами; знакомые между собою радостно приветствовали друг друга, снимали шапки и христосовались тут же на виду у толпы. Отовсюду веяло светлым праздником и ароматной весною. Чинно, стройными парами выступали длинной вереницей воспитанницы. Вот свернули они с Большого проспекта, прошли Кронверкский и потянулись по Дворцовому мосту и набережной Невы. Синеокая красавица-река, отливающая сталью и серебром на солнце, освобожденная от льда, плавно катила свои воды.
Девочки не отрывали глаз от ее блестящей зеркальной глади. Тетя Леля, дежурившая нынче на прогулке, сама не могла налюбоваться вдоволь на тысячи раз уже виденную ею картину. Блестящими глазами смотрела она на реку, на синее небо, на гранитные берега Невы.
Несколько подростков-мальчиков в штатском платье со сдвинутыми набекрень шляпами попались им навстречу.
Младшему из них было на вид лет пятнадцать. Он разыгрывал из себя взрослого, помахивал тросточкой, тянул слова в нос и шел развинченной, деланно-усталой походкой прискучившего жизнью молодого человека.
Увидя приюток, мальчики сбились в кучку и, громко смеясь, стали о чем-то оживленно шептаться.
Наконец младший из них дерзким взглядом окинул всю длинную шеренгу воспитанниц и остановил насмешливые глаза на тете Леле.
– Какие милашки! – произнес он развязно, играя хлыстиком. – А вот и настоящая фурия в шляпе! – И прежде, нежели побледневшая от неожиданности горбатенькая надзирательница успела ответить что-либо дерзкому, он юркнул в толпу и, скрывшись за спинами товарищей, хвастливо и звонко говорил кому-то: – Ага! Выиграл пари! А ты еще спорил, Иртышевский… Ну, плати мне скорее по уговору… Ага! Не струсил-таки, сказал!
Но тут молодой бездельник смолк внезапно и попятился назад. Перед ним стояла высокая девочка в белой косынке и в форменном пальтеце воспитанницы ремесленного приюта. Из-под косынки сверкали злые черные глаза… Побелевшие губы дрожали… По совершенно бледным, как известь, щекам пробегали змейкой нервные конвульсии.
Но голос был тверд и ясен, когда, отчеканивая каждое слово, она произнесла громко и смело:
– Вы гадкий мальчишка! Вы стоите, чтобы взять у вас этот хлыст и хорошенечко отхлестать вас при всех за то, что вы обидели… ее… нашу дорогую… Самого лучшего… самого неоцененного человека в мире! – и, задохнувшись от обуревавшего ее волнения, в аффекте неудержимой злобы Наташа Румянцева бросила в лицо смущенного мальчика: – Знаешь ли… ты… ты… злой нехороший мальчуган, знаешь ли, кого, какого ангела ты обидел?..
Наташа кинулась к Елене Дмитриевне и вся дрожащая и взволнованная прижалась к ее груди.
– Он не смеет! Он не смеет называть вас так! Противный, глупый, гадкий! – залепетала она в исступлении отчаяния и негодования.
К счастью, гуляющих в этот ранний утренний час было немного. На набережной, кроме одиноких прохожих, воспитанниц и маленькой кучки юных шалопаев, не было никого.
В толпе последних произошла суматоха.
Высокий красивый мальчик, что-то оживленно говоривший шепотом окружавшим его товарищам, выступил вперед и, вежливо приподняв свою фуражку, произнес с изысканным поклоном по адресу совсем расстроенной тети Лели:
– Я принужден перед вами извиниться, сударыня. Мой товарищ выпил немного лишнее за праздничным завтраком сегодня и позволил себе дерзость, за которую все мы с ним самим включительно извиняемся перед вами.
– Да-да, все мы извиняемся! – подхватили остальные мальчики и точно так же приподняли шляпы.
Затем быстро свернули с тротуара и скрылись из вида за углом огромного здания, увлекая виновника происшествия за собою.
– Какой красавец! – восхищенно прошептала Феничка своей паре, Шуре Огурцовой. – Совсем как рыцарь Рудольф из романа "Оживший мертвец, или Черная башня"! Я его обожать стану, Шура! Этакий благородный, прекрасный молодой человек!
– А отца дьякона как же? – хитро прищурилась Огурцова.
– Ах, уж и не знаю! Столько интересных людей на свете, что…
– Что и сердца не хватит у Фенички нашей! – весело подхватила насмешница Паланя, и цыганские глаза ее так и заискрились смехом.
– А я бы этого красавчика да в Неву бы вместе со всеми остальными. Небось и он спервоначалу с ними шушукался, того дурака поджигал, – сердито заключила она.
– Нет, – вмешалась Гуля Рамкина, самая степенная из старшеотделенок, – я видела, он в стороне держался, в бинокль все глядел на крепость, пока они сговаривались. А потом только, после всего подошел.
– Тоже гусь! Нашел себе компанию. Сам хорош больно, ежели дружит с такими! – фыркнула Липа Сальникова.
Между тем Наташа, все еще не пришедшая в себя, стояла подле тети Лели, крепко вцепившись в руку горбуньи. Последняя, взволнованная не менее девочки, молчала. Но по частым глубоким взглядам, бросаемым на нее доброй горбуньей, Наташа чувствовала, как благодарна и признательна ей нежная душа тети Лели за ее наивное, но горячее заступничество.
И остальные девочки казались взволнованными не менее их обеих. В полном молчании прошли они остальную часть пути и очутились в огромном Летнем саду, в тени его еще не вполне распустившихся деревьев.
Стрижки с веселыми возгласами бросились на площадку вокруг памятника "Дедушки Крылова" и тотчас же затеяли там какую-то шумную, веселую игру. Старшие и средние, взявшись под руку, парами или шеренгами по нескольку человек, углубились в боковые аллеи.
Дуня же и Дорушка, обычная «свита» (так про них говорили в приюте) горбатенькой надзирательницы, присоединились к Наташе, не отходившей теперь от тети Лели ни на шаг.
И только тут, под темными сводами начинающих зеленеть деревьев, горбунья крепко обняла Наташу и горячо расцеловала ее.
Эта безмолвная признательность больше всяких слов тронула девочку, и она еще теснее прильнула к худенькой груди калеки. Последняя глубоко задумалась, глядя на серебристую полосу реки, сквозившей сквозь решетку сада.
Несколько воспитанниц «старших» и «средних» приблизились к их скамейке и молча с любовью смотрели на затихшую наставницу.
Но вот она заговорила… Сначала тихо, потом все тверже и увереннее зазвучал ее голос:
– Нет, нет, я не горюю о своем убожестве, – произнесла тетя Леля… – Пусть люди, не знающие его причины, не знакомые с обстоятельствами моего уродства, смеются над моей горбатой и кривой фигурой, пусть издеваются… Я счастлива… этою любовью, тем влечением, которое вы чувствуете ко мне, дети… Да разве счастье иметь красоту сравнится с тем, что я имею? Когда я была маленькой, моя мама, добрая и кроткая, как ангел, научила меня переносить мое несчастье твердо и стойко… Хотя я родилась уже уродцем, но при первых же проблесках в сознании не могла не горевать, видя свое отражение в зеркале наряду с другими детьми, красивыми, стройными и здоровыми. И тут-то она, моя дорогая, научила меня примириться с моей долей жалкой горбуньи и воспитывать свою душу в любви и заботе к другим несчастным… И вот, лишенная личного счастья, обреченная с детства на долгую серую жизнь, я под руководством моей доброй, теперь уже, увы! покойной матери научилась отдавать себя всю на пользу маленьких, беззащитных существ, стрижек моих ненаглядных.
Тетя Леля смолкла… Но глаза ее продолжали говорить… говорить о бесконечной любви ее к детям… Затихли и девочки… Стояли умиленные, непривычно серьезные, с милыми одухотворенными личиками. А в тайниках души в эти торжественные минуты каждая из них давала себе мысленно слово быть такой же доброй и милосердной, такой незлобивой и сердечной, как эта милая, кроткая, отдавшая всю свою жизнь для блага других горбунья.
Глава девятаяПо широкой, устланной персидскими коврами лестнице приютки поднимались в приемные комнаты роскошного особняка баронессы Фукс.
Их было шесть «выбранных» счастливиц: обычная посетительница этого дома и любимица попечительницы Феничка, регент приюта, заменившая вышедшую и поступившую уже на место красавицу Марусю Крымцеву, Евгения Сурикова и Паланя Заведеева.
Из средних в число «избранных» попала по своему обыкновению Любочка Орешкина, как любимица Софьи Петровны, Дуняша и Наташа, назначенные по желанию самой Екатерины Ивановны.
Шесть девочек не без волнения входили в роскошные апартаменты Софьи Петровны. Впрочем, волновались только пятеро, так как Наташа Румянцева чувствовала себя как рыба в воде среди этой аристократической обстановки.
Дуня волновалась больше других. Застенчивая, тихая, робкая, смущавшаяся от каждого пристального обращенного на нее взгляда, она положительно терялась уже при одном лицезрении всех этих богатств. Напрасно Феничка, Паланя и Любочка, неоднократно побывавшие здесь, убеждали ее успокоиться, не волноваться, уверяя пресерьезно девочку, что никто ее здесь не съест, Дуняша не могла побороть в себе невольного смущения и, как к смерти приговоренная, с низко опущенной головой поднималась по отлогим, удобным ступеням лестницы.
Уже издалека, с нижней площадки ее, девочки услышали веселые голоса, смех и оживленную болтовню, звон посуды и звяканье вилок и ножей.
– У Софьи Петровны гости! Они завтракают! – замирая от смущения, лепетала Дуня.
– А нам что за дело до гостей! Надеюсь, они не съедят нашего завтрака, оставят кое-что и на нашу долю! – беспечно и весело отвечала Наташа.
– Тебе-то хорошо… – буркнула Дуня и смолкла, испуганная, в тот же миг.
Лестница кончилась… И шесть девочек, одетых в праздничные одинаковые платья и белые передники, очутились в огромной зале с колоннами, с роялем-гигантом, стоявшим у окна, с изящными желто-белыми стульями из карельской березы, с такими же диванами без спинок и всевозможными украшениями на высоких тумбах и бра.
По крайней мере с десяток зеркал отразили в себе их скромные фигурки в ситцевых праздничных платьях и ослепительно белых передниках.
Из белой залы прошли в гостиную… Ноги девочек теперь утонули в пушистых коврах… Всюду встречались им на пути уютные уголки из мягкой мебели с крошечными столиками с инкрустациями… Всюду бра, тумбочки с лампами, фигурами из массивной бронзы, всюду ширмочки, безделушки, пуфы, всевозможные драгоценные ненужности и бесчисленные картины в дорогих рамах на стенах…
С разинутым ртом и вытаращенными глазами Дуня шла, дивуясь на всю эту царственную, во сне не снившуюся ей роскошь…
Остальные девочки, бывавшие здесь не однажды, если не удивлялись, то восхищались всей этой роскошью. Одна только Наташа чувствовала себя здесь как в родной стихии. Богатая жизнь Маковецких с самого раннего детства приучила к комфорту девочку.
– Господи! Век бы не ушла отсюда… – шептала восторженно Феничка, восхищавшаяся постоянно богатством дома попечительницы. – Теперь только бы прекрасному принцу войти сюда, к нам навстречу, либо красавице-принцессе какой!
– Держи карман шире! Как же! Так вот и выйдут тебе! – тихо усмехнулась Паланя и неожиданно замерла на месте.
– Ах!
Цыганские глаза девушки почти с ужасом остановились на неожиданно представшей перед ними фигуре человека.
Одетый в безукоризненный костюм, с длинными белокурыми волосами, с мечтательным, чрезвычайно благородным лицом, бледный и нежный в своей бархатной куртке с небрежно повязанным артистическим галстуком, стоявший на пороге гостиной юноша казался действительно переодетым принцем. Он издали любезно улыбался подходившим девушкам.
– Душенок какой! – прошептала Феничка, не отрывая от незнакомца восхищенных глаз.
– Да ведь это он! – неожиданно вскрикнула Наташа и, рванувшись вперед, подбежала к молодому человеку.
– Это ведь вы? – затараторила она, без церемонии хватая его за бархатный рукав куртки. – Вы тот самый юноша, что заступились за нашу милую тетю Лелю там, на набережной? Вы? Я не ошиблась! Нет, нет, не отпирайтесь, я вас узнала сразу… Зачем вы здесь?
Молодой человек взглянул на смешного стриженого подростка с глазами, сыпавшими искры, с подвижным, некрасивым, но тем не менее обаятельным личиком, в котором жила и трепетала сейчас каждая черта.
– Я и не думаю отрекаться, – произнес он спокойным голосом, – действительно, я был на набережной утром с моими школьными товарищами. А сейчас я здесь в доме моей тетки баронессы Софьи Петровны. Я родной племянник ее покойного мужа и каждый праздник провожу здесь. Будни же в пансионе, с тех пор как вернулся из-за границы. Там я пробыл несколько лет в музыкальной школе, немудрено, что вы раньше не встречали меня здесь. Сейчас же кузина Нан выслала меня встретить вас, так как сама она занята гостями.
– Все это прекрасно, – едва вслушавшись в его слова, произнесла Наташа, – вы вот что скажите мне: неужели вам не стыдно дружить с теми скверными мальчишками, которые позволяют себе смеяться над обиженными судьбою людьми? – И говоря это, она даже побледнела, воскресив в своей памяти недавнюю сцену, и вызывающе взглянула на юношу.
Тот ответил ей в свою очередь долгим, проницательным взглядом. Потом бессознательным, полным врожденной грации движением откинул прядь волос, упавшую ему на лоб, и произнес тем же уверенным и спокойным голосом, исполненным достоинства и доброты:
– Если бы вы были несколько наблюдательнее, то, наверное бы, заметили, что я держал себя в стороне от моих буйных товарищей, но как только произошел досадный и нежелательный инцидент, я присоединился к ним и приложил все старания.
– Это правда! – прозвучал несмелый детский возглас.
– Кто сказал это?
Серые, мягкие глаза юноши обежали маленькую группу приюток и остановились на малиновой от смущения Дуне.
Девочка помимо собственной воли проронила эту фразу и теперь, краснея до ушей, не знала, куда девать глаза от стыда и страха.
– Вы самая справедливая и снисходительная, и я вам очень благодарен за ваше заступничество, – произнес по ее адресу ласковый голос племянника баронессы. И затем, обращаясь уже ко всем приюткам, он добавил, улыбаясь: – Это очень, очень неприятно, когда вас без вины обвиняют в чем-нибудь… Не…
Он не успел докончить своей фразы. В дверях гостиной появилась нарядная фигура самой баронессы.
– Вот они, наконец! Рыбки мои золотые! Пташечки мои прелестные! Крошки! Красавицы, душечки мои! – зазвучал ее серебристый голосок, наполняя, казалось, сразу все уголки роскошной гостиной. – Прилетели-таки, райские птички мои. Феничка, красоточка моя! Еще больше распустилась – роза, совсем роза… Евгеша возмужала, пополнела, взрослая девица, хоть сейчас под венец! Паланя! Те же плутовские глазенки, цыганочка моя черноокая… Любочка, херувим ты мой беленький… Дуняша! Ты что же не растешь, моя незабудочка, а это кто? Ах, да, новенькая! Слышала, слышала, по письмам Екатерины Ивановны… Наташа Румянцева?.. Так? Прелестный ребенок! Будем друзьями!
Все это било фонтаном из уст Софьи Петровны. В одно и то же время она успевала разглядывать лица сконфуженных девочек и гладить их по головкам, и ласково трепать по щечкам, и на лету целовать поспешно темные и белокурые головки.
– Ну, ну, птички мои! Будет мне тормошить вас, золотые! Идем скорее в столовую, завтрак остынет.
И подхватив одною рукою под руку льнувшую к ней особенно Феничку и обняв другой Любу Орешкину, баронесса прошла в столовую, приказав остальным воспитанницам следовать за нею.
– Вот они, мои девочки! Прошу любить и жаловать, господа! – прозвенел уже на пороге комнаты ее жизнерадостный голосок.
За длинным столом, сервированным с редким вкусом и роскошью, обвитым гирляндами цветов по борту, с огромными букетами и редкостными фруктами в хрустальных и серебряных вазах, сидело большое, изысканное общество.
Тут были и военные в блестящих позолотою шитья и орденами мундирах, и статские в безукоризненно сшитых фраках, и целый нарядный цветник барышень и дам.
При виде появившихся «детей» баронессы, как принято было называть воспитанниц благотворительного учреждения Софьи Петровны, все присутствующие повернулись в их сторону и не сводили теперь глаз с миловидных юных лиц шести девушек.
– Вот вам стол. Садитесь и кушайте на здоровье! – радушно проговорила хозяйка, подводя приюток к стоявшему в простенке между двумя окнами небольшому столу, накрытому на шесть приборов.
– Нан! Вальтер! Идите угощать гостей! – повысив голос, весело крикнула хозяйка дома.
– Дуня, разве ты не узнаешь меня?
Перед стулом Дуняши стояла молодая девушка, худая, нескладная, с слишком длинными руками, красными, как у подростка, кисти которых болтались по обе стороны ее неуклюжей фигуры. Длинное бледноватое лицо с лошадиным профилем, маленькие, зоркие и умные глазки неопределенного цвета и гладко зачесанные назад, почти зализанные волосы, все это отдаленно напомнило Дуне далекий в детстве образ маленькой баронессы. Теперь Нан вытянулась и казалась много старше своих пятнадцати лет.
А рядом со своим красивым, изящным кузеном она казалась совсем дурнушкой.
– Это еще кто такая? – шепнула Наташа чуть слышно на ухо Дуне, скосив глаза в сторону молодой хозяйки.
Последняя сконфузилась еще больше. Но в это время к Наташе подошел молоденький Вальтер Фукс и, поместившись между нею и Любочкой, стал усердно угощать обеих девочек.
Нан взяла первый попавшийся стул и села подле Дуни. Сохраняя на лице своем тот же обычный чопорно-невозмутимый вид светской девушки, она расспрашивала Дуню о приюте, не забывая в то же время усердно подкладывать на ее тарелку лучшие куски.
Мало-помалу Дуня перестала смущаться и, забыв о десятках чужих глаз, устремленных с "большого стола" на их скромный столик, сама разговорилась с Нан.
Вспомнили детство, эпизод с Муркой…
– Кстати, я покажу вам его! – произнесла молоденькая баронесса, и непривычная ее холодному равнодушному лицу тень упала на ее лицо.
– Мурку? Мурка здесь? Вы покажете нам Мурку? – оживленно затараторила Любочка, вслушавшись в разговор соседок.
Между тем Феничка, искоса бросая взгляды на "красавчика барончика", которого она уже втайне решила «обожать», старалась изо всех сил обратить на себя его внимание. Она то во время еды как-то особенно оттопыривала руки локтями вверх и, держа нож и вилку тремя пальцами, манерно отставляла два остальные, то жеманно поджимала губки, что, по ее мнению, было лучшим признаком хорошего тона, то потупляла глаза, словом, ломалась и жеманничала вовсю.
Начитавшись глупейших бульварных романов, Феничка изо всех сил старалась подражать их героиням, каким-то несуществующим герцогиням и маркизам, которыми кишели добываемые ею книги.
Не замечая, что гости за большим столом, едва сдерживая улыбки, смотрят во все глаза на ее ломанья, Феничка продолжала проделывать все свои манипуляции.
– Нет, мерси-с, я уже кушамши! – неожиданно выпалила она подававшему ей во второй раз жаркое лакею.
И тут же, подобрав весь соус со своей тарелки, оттопырив мизинчик правой руки до пределов возможного, на кончике ножа отправила его в рот.
– Ах, боже мой! Кто же с ножа ест! Брось, Феничка! Это варварство! – с веселым смехом шепнула ей Наташа, наблюдавшая уже несколько минут за ломавшейся старшеотделенкой.
– Не твое дело! – фыркнула таким же шепотом Феничка и преспокойно облизала лезвие ножа с обоих концов, к немалому удовольствию Наташи.
После завтрака Нан провела приюток на свою половину.
Она занимала целых четыре комнаты. У нее был прелестный будуар-гостиная с голубой шелковой мебелью, с широким трюмо во всю стену, с массой безделушек на этажерках и столах, светлая уютная спальня с белоснежной постелью, с портретом ее отца, покойного барона, на которого Нан походила как две капли воды. Портрет во весь рост, занимавший простенок между двух окон, был исполнен масляными красками. На нем был изображен высокий, худой человек в генеральском мундире с баками и усами, типичный немец, сухой и чопорный на первый взгляд, как и его дочь.
– Это отец! – произнесла Нан, подняв свои маленькие глазки к портрету, причем лицо ее чуть заалелось, и какое-то несвойственное выражение мягкости легло на ее угловатые черты. Она даже похорошела в эту минуту от озарявшего ее чувства.
– О, он был такой добрый! – прошептала она как бы про себя. Потом, словно спохватилась сразу и, придав своему лицу выражение обычной светской непроницаемости, повела приюток через небольшую классную комнату с рабочим столом и книжными шкафами в четвертую горницу – небольшой изящный кабинет.
– Мурка! – радостно в один голос вскричали Дуня и Любочка, едва только успели переступить порог этой комнаты.
Действительно, на великолепной тумбе красного дерева, сделанной в тон изящному письменному дамскому столику и мебели, на мягкой малиновой бархатной подушке важно возлежал очаровательный котяшка, успевший возмужать и растолстеть за последние четыре года.
– Мурка! Мурка! Здравствуй, миленький! Ты ведь узнал нас, правда? Да какой же ты стал большой и толстый, красивый! А шерстка-то – чистый шелк! И белая, как снежинка! Ну, теперь тебя не упрячешь, братец, в муфту! Громадный какой!
И девочки, большие и маленькие, теснились вокруг тумбы, на которой по-прежнему важно, без малейшего признака движения лежал красавец-кот. Они наперерыв гладили и ласкали очаровательное животное. Дуня и Любочка особенно нежно льнули к своему давнишнему любимцу.
Еще бы! Ведь он был их воспитанником! Они, тогда еще маленькие стрижки, так долго кормили и лелеяли его! Пока Нан не увезла к себе Мурку, спасши его от преследований Павлы Артемьевны, он принадлежал им и только им.
Добрая Нан! Несмотря на ее чопорную и сухую внешность, как она хорошо заботилась о их общем питомце! Как она откормила его!
И Дуня с Любочкой, а за ними Паланя, Феничка и Евгеша бросали благодарные взгляды на молоденькую баронессу, стоявшую тут же около их милого зверька.
Но что это сталось с ней?
Обычно бледное и без того, личико Нан стало еще бледнее. И глубокая-глубокая тоска отразилась в ее маленьких, умных и печальных глазках.








