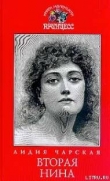Текст книги "Девочка Лида"
Автор книги: Лидия Чарская
Соавторы: Татьяна Щепкина-Куперник,Николай Вагнер,Л. Нелидова,Елена Аверьянова
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
И она не боялась бегать по большим аллеям, освещенным луной, смотреть на узоры и переплеты черных теней на земле и вдыхать пряный запах мокрого листа и молодой травы под мерный стук колотушки Арефьича. Иногда она бежала к старику и говорила:
– Арефьич, можно с тобой походить?
Чего ж, ходи, Господь с тобою! Места всем хватит! – отвечал Арефьич, и они шагали вместе, причем Лита приставала к Арефьичу с разными расспросами: его она тоже не боялась.
Арефьич рад был развлечению в свои длинные ночи и охотно рассказывал Лите все, что знал, пыхтя трубкой и ворча иногда, как старая нянька:
– А ты в воду-то не ступай, видишь – лужа?
Знал Арефьич много, жил он при рябининском доме с незапамятных времен, сперва кухонным мужиком, потом дворником и уж потом, когда ослабел для другой работы, ночным сторожем.
– По ночам-то я все равно не сплю! – объяснял он Лите. – Хоть ты мне целковый заплати – не засну, и шабаш! А попробуй уснуть – сейчас это онменя давить начнет.
– Кто он?.. – спрашивала Лита с интересом.
– Тьфу, тьфу! Не к ночи будь помянут: известно кто – анчутка!
Что такое анчутка, Лита уже смутно знала. В анчутку верил весь рябининский дом, и Марина неоднократно внушала Лите:
– Закрывай, матушка, на ночь все, что есть: и ящики, и комоды... Храни Бог бутылку открытой оставить или там банку с вареньем: сейчас анчутка влезет и все перепортит.
Таким образом Лита освоилась с этим понятием. Арефьич дополнил ее сведения рассказами о том, что надо в конюшне держать козла, а то онвсех лошадей перепортит.
В таких разговорах незаметно проходило время. Иногда они разнообразились воспоминаниями о прошлых годах, о том, как бывало весело в рябининском доме, когда барышни молодые были. Как устраивались здесь катанья с гор, гаданья зимой, летом качели, костры, поездки на лодках – во всем этом Арефьич еще принимал участие. Рассказывал он про мать Литы, Мелитину Дмитриевну, какая она была приветливая и любезная и как, бывало, всегда его звала: "Дяденька Арефьич", и никогда, чтобы криком или тычком, а все так: "Голубчик, Арефьич, пожалуйста да спасибо"...
– А тетиного жениха ты помнишь? – спросила Лита.
– Это Евлалии-то Дмитриевны? Как не помнить. Господи! Еще как обручение-то отпраздновали, пять целковых мне отвалил! Ну и молодец же был! Все, бывало, на гитаре играл и песни пел. Не по-нашему, не по-русскому больше пел, а, бывало, как запоют разом с барышней-то, с Евлалией, хоть и не понимаешь, а так жалко станет, ажно слеза прошибает. Все пели да катались. Ровно два ребенка малых. Да и то: ей-то девятнадцатый годок пошел, а ему-то, пожалуй, годика на три поболе... Да вот не судил Бог...
И опять задумывалась Лита, и сердце горело в ней жалостью к судьбе этих бедных, веселых, счастливых людей, так любивших друг друга.
Уже бледнело небо и высоко-высоко стояла луна, когда она возвращалась к себе и крепко засыпала.
Как-то раз в одну из ночей, когда луна особенно ярко светила над садом, Лита по своему обыкновению бродила по саду. Она взяла у Арефьича колотушку – она иногда забавлялась этим, пока старик курил и полудремал, сидя на лавочке под липой. Эта ночь напоминала ей Киев – так ярка была луна, так ласково голубело высоко над головой темное небо и так проплывали и таяли белые облачка с темно-золотистыми краями мимо полной луны, окруженной точно радужным сиянием.
Невольно взглядывала Лита на блестевшие голубым светом окна левой половины. Лунный свет падал на стекла, и казалось, будто за ними, за этими белыми занавесками, идет какая-то таинственная жизнь, не такая, как во всем доме.
И вдруг одна из занавесок зашевелилась.
У Литы кровь отлила от сердца – так она испугалась. Она невольно отодвинулась в тень кустов сирени, на которой уже набухли почки, и замерла, не сводя глаз с окна. Тут же она сказала себе, что это ей померещилось: ведь все давно спят... Но занавеска опять пошевелилась, затем отдернулась – и распахнулось окно.
В окне стояла женская фигура, тонкая, вся в черном. Голова ее была низко опущена и в тени, Лита видела ясно только две сложенные худые белые руки, на одной из которых блестели два золотых обручальных колечка, и этот блеск приковал к себе все внимание девочки, которая затаила дыхание и боялась шевельнуться.
"Это и есть тетя Евлалия", – подумала она.
Тетушка подалась немного вперед, разомкнув руки и взявшись ими за подоконник, слегка выставилась из окна. Она подняла голову, и луна ярко осветила ее лицо.
Это было прекрасное, тонкое, бледное лицо с казавшимися неимоверно большими темными глазами. Темные волосы, разделенные пробором на две половины, падали двумя тяжелыми косами, как на старинных картинах. Лите вдруг вспомнилась панночка из гоголевской "Майской ночи": верно, и та была такая же бледная, до прозрачности бледная, прекрасная и печальная! Глаза ее были подняты к небу, и в них точно застыли слезы. Она несколько минут, не отрываясь, смотрела на луну, потом всплеснула руками, заломила их, запрокинула голову и с тихим стоном исчезла, как видение, наполнив душу девочки восторгом и страстным сожалением. Лита бросила Арефьичу колотушку и ушла к себе, но долго не спала. И предмет ее дум, получивший внезапно облик живой, бледной красавицы, еще больше стал занимать ее воображение, и она все мечтала о том, что бы могло сделать тетю Евлалию не такой печальной.
VII
Действительно, могло показаться непонятным даже и взрослому и думающему человеку, как это Евлалия Рябинина, богатая невеста, красавица, могла так по доброй воле уйти от мира, хуже, чем в монастырь, потому что в монастыре все-таки есть и живые люди, и дело, и работа, тогда как здесь, кроме своих четырех стен и старой няньки, Евлалия не видела никого и ничего.
Многие толковали об этом, охали, ахали и наконец предоставили Евлалию ее судьбе, решив, что "бедняжка тронулась в уме", и на этом успокоились.
Однако ничего подобного не было: Евлалия совершенно не была помешанной, скорее ее можно было назвать душевнобольной, и нуждалась она в излечении, но не находила его.
Евлалия получила от жизни страшный удар в ту пору, когда она еще недостаточно окрепла, чтобы вынести его стойко и не погнуться под ним, как нежное растение под сильным порывом ветра.
Когда на ее глазах умер трагической смертью жених, за минуту до того смеявшийся и смешивший ее веселыми шутками, она этого сразу даже понять не могла от ужаса. Но когда поняла, что это – смерть, что ее жизнерадостный, милый Володя больше не существует, а кругом по-прежнему ходят люди, сияет солнце и равнодушно смотрит на землю голубое небо, она впала в безумное отчаяние. Полудетская привязанность ее к Володе, с которым они в детстве еще вместе играли, приняла теперь характер поклонения его памяти, тогда как всё и все остальные сделались для нее ужасны.
Будь в это время у нее мать или даже разумный, любящий друг, они бы, вероятно, сумели вывести ее из этого опасного состояния, пробудить в ней желание жить дальше если не для личного счастья, то хоть для других. Но кругом были невежественные, тупые женщины, умевшие только охать, причитать и заказывать панихиды по новопреставленном рабе Божьем Владимире.
Евлалия замкнулась в себе.
В безумии своего отчаяния она решила никогда больше никого не видеть и ни с кем не говорить. Сначала сестра и бабушка пробовали войти к ней и нарушить ее запрет, но она не впустила никого, кроме вынянчившей ее Антипьевны, и заявила, что больше никто ее не увидит.
Мало-помалу, видя, что проходят месяцы, а Евлалия не изменяет своего обета, женщины начали проникаться суеверным благоговением к этому "подвигу" и перестали протестовать... А тем временем одиночество стало для Евлалии привычным и необходимым; она втянулась в него, как-то замерла вся в своем бездействии. Дни, недели, годы тянулись для нее незаметно в мрачных комнатах, всегда закрытых от солнца; извне не проникал к ней шум жизни, и не было никакого толчка, чтобы вывести ее из этого оцепенения на свежий воздух, на солнечный свет.
Портреты Володи, его письма, некоторые книги, которые они читали вместе, составляли все ее общество. С няней она почти не разговаривала и никогда не спрашивала ее о домашних, как будто их не существовало.
В первое время старая Антипьевна, расчесывая темные длинные косы своей "выхоженушки", пробовала уговаривать ее, что не годится так убиваться, что горе от Бога дадено и надо его покорно терпеть. Но Евлалия выслушала ее до конца, потом своим тихим голосом, из которого как-то исчезли все ясные и радостные звуки и который звенел как надорванная струна, сказала ей спокойно:
– Няня, если ты хочешь, чтобы я тебе позволила со мной остаться, ты со мной никогда не разговаривай.
И так это сказала, что старуха побелела и заплакала... Но оставить ее совсем одну не решилась и покорилась воле своей барышни.
Так они жили рядом, почти не обмениваясь словами, и казалось, само время застыло и замерло в этих странных, точно нежилых комнатах.
VIII
Как-то Евлалия по обыкновению лежала у себя в спальне; она отвыкла двигаться и почти всегда лежала, чувствуя разбитость, слабость во всем теле.
В соседнюю комнату няня оставила дверь открытой: она отворила там окно и хотела, чтобы свежий воздух проник и в комнату Евлалии. Сама она вышла зачем-то, и в комнатах было совсем тихо.
Сквозь приотворенную дверь чуть долетал ветерок – теплый весенний ветерок, и робко пробивался луч солнца; в спальне же было совсем темно.
Евлалия лежала на кушетке неподвижно, со скрещенными на груди руками, едва отличавшимися цветом от белой блузы, так что ее можно было принять за мертвую, и прислушивалась к своим постоянным гнетущим мыслям, которые она все эти годы носила в себе.
Вдруг в полной тишине послышался посторонний звук, точно что-то упало в соседней комнате и мягко стукнулось о пол. Евлалия вздрогнула от неожиданности и испуга: это было так необычно, что она поднялась с места и открыла дверь в соседнюю комнату. Долго думать над тем, что это было, ей не пришлось – прямо перед нею на полу лежал букет цветов.
Она невольно наклонилась и подняла его с пола. Это были темные фиалки, еще влажные, чуть слышно пахнущие, перевязанные вместе с молодым папоротником и пучком белых звездочек – тоненьких, как кружево, полевых цветочков. Когда-то фиалки сеяли и сажали в рябининском саду, теперь этого не делали, но они сами разрослись, и каждую весну пробивались из земли их пахучие темно-лиловые кустики. Вид цветов пробудил в Евлалии что-то странное: она прижала к лицу их свежие лепестки, и тонкий, нежный запах показался ей таким сильным, что у нее на минуту как будто голова закружилась и забилось сердце.
Она вдруг поцеловала цветочки, как, бывало, делала когда-то, и этот прежде привычный поцелуй вернул ее к действительности.
Откуда эти цветы?.. Кто их бросил? Няня, верно?
Выбросить цветы у нее не хватило решимости, хоть ей даже досадно стало, что они на минуту развлекли ее.
Нет, она не могла их выбросить. Она налила воды в кружку и, точно конфузясь, поставила их на стол перед портретом умершего жениха.
Когда пришла няня, она сама заговорила с ней:
– Няня, ты мне бросила цветы?
– Какие цветы? – Нянька взглянула с недоумением на букет, потом догадалась: – Это, верно, барышня... То-то я видела, как они вчера в саду собирали цветы. Уж вы не сердитесь на них, ребенок ведь!
В первый раз за все это время Евлалия удивила свою няньку – она не только не рассердилась на нее за многословие, но и сама спросила:
– Кто же это?
– Покойной Мелитины Дмитриевны дочка! – ответила нянька, покрываясь коричневым румянцем от радости и неожиданности. Она хотела продолжать, но Евлалия как будто спохватилась и, круто повернув, ушла в другую комнату и заперлась.
А букеты продолжали летать в окно, и няня, видя, что барышня подбирает их и не сердится, ничего не говорила Лите, а, наоборот, поглядывала на нее с какой-то тайной надеждой.
Букеты менялись: то они были из маленьких лютиков, желтых, как солнце, то из ароматных кистей сирени, потом из душистых ночных фиалок, белых и нежных, как свечечки эльфов. Все, что мог дать расцветший старый сад, все это подбирала Лита, с любовью связывала в пучки и, улучив минуту, когда окно отворялось, подкрадывалась и бросала букет. Она и не подозревала, что в последнее время из другого окна, из щелочки в занавеске, глядели на нее темные, такие же темные, как у нее самой, глаза с выражением не то печали, не то зависти.
Евлалия теперь ждала этих букетов: они вносили разнообразие в ее затворническое существование, то разнообразие, которого, не признаваясь самой себе, она невольно жаждала. И теперь она ловила себя на мысли, что ей не безразлично, какие будут завтра цветы... И что теперь цветет... Она наконец осознала, что теперь лето на дворе, и в воображении ее вставали старый сад и веселые прежние дни.
Как-то ночью ей не спалось. Обыкновенно за стеной было тихо. И вдруг до ее слуха долетело рыдание. За стеной плакала девочка, отчаянно, горько, очевидно, сдерживая рыдания, которые вырывались с воплями и стонами наружу.
Это был памятный для Литы вечер: тетка рассердилась на нее, узнав, что она "бродит по ночам, как домовой, вместо того чтобы спать". Выдал Литу Слюзин, которого июньские белые ночи манили гулять на вольном воздухе; он подглядел, как Лита вылезала из окна, и доложил барышне. Барышня пришла в страшный гнев за такую дерзость и не только накричала на Литу, но несколько раз ударила ее.
Оскорбленная, изумленная Лита, которую дома никто пальцем не трогал, убежала к себе вся дрожа, и тут-то у нее сделался прямо взрыв бурного горя, который она не в силах была сдержать. Отчаяние было так велико, что она забыла даже обычную осторожность и приказ "не шуметь". Она рыдала, кусая подушку и умоляя в голос:
– Бабушка, милая, возьми меня к себе!
Как будто бабушка могла ее услышать!
Нет, бабушка не слыхала ее... Но зато за стеной чутко прислушивалась к рыданиям и воплям девочки бледная красавица, и в первый раз коснувшееся ее уха чужое горе будило в ней замолкшие струны и заставляло дрожать от странного, незнакомого доныне ощущения жалости и сочувствия.
Жизнь врывалась снова в мрачные стены, жизнь властно стучалась к затворнице... и никакие забитые двери не могли помешать ей чувствовать, как рядом страдает и томится юное существо с такими же глазами, как у самой Евлалии, и с такими же темными косами. Наутро она опять удивила няньку, спросив:
– Как ее зовут?
Нянька сразу поняла, о ком речь.
– Мелитиной... Литочкой, – ответила она.
– Как сестру... – прошептала Евлалия, и вдруг на ее глазах блеснули слезы – первые слезы не о своем горе.
IX
В один жаркий летний день Евлалия не получила своего букета.
Она даже сама не предполагала, что это будет для нее так чувствительно; но ей впрямь чего-то не хватало, и, главное, в нее вселилось странное беспокойство: отчего это могло случиться? Что помешало маленькой темноглазой девочке собрать свою дань немого обожания и бросить ее в заветное окно?
Евлалия невольно была встревожена, и взволнованное настроение заставляло ее особенно чутко прислушиваться ко всему, что происходило за стенами. А там что-то действительно происходило, слышались быстрые шаги, хлопанье дверями, разговоры, восклицания...
Евлалия сердилась на свое любопытство и, как бы наказывая себя за него, ни о чем не спрашивала у няни.
Два дня прошло без букетов, подъезжали к дому какие-то экипажи, выехала карета из конюшни, опять хлопали дверями, потом воцарилась тишина. Но в ней точно скрывалось что-то жуткое, беспокойное, а из-за забитой двери доносились до Евлалии то слабые стоны, то тихий, быстрый, прерывистый разговор.
В середине дня в комнату к Евлалии вошла нянька. Лицо ее было не такое, как всегда. За все эти долгие годы ничего не случалось в доме и нечему было отражаться на спокойном лице старушки. Но сейчас по этому лицу Евлалия ясно поняла, что что-то случилось. Няня забыла даже все барышнины приказы и заговорила взволнованно:
– Вот что, барышня, не уехать ли и нам?
Фраза эта была до такой степени необычна и неожиданна, что Евлалия даже растерялась и, невольно вовлеченная в разговор стремительностью нянькиного предложения, спросила изумленно:
– Куда уехать? Что ты такое говоришь?
– Да заболела Литочка. Очень, сказывают, болезнь-то прилипчивая.
– Был доктор? – сама взволновавшись до крайности, спросила Евлалия.
– Был дохтур... велел отделить ее, значит, от всех... Ну, Агния Дмитриевна так испугалась, что взяли бабушку и уехали к матери Таисии гостить. Говорят, все равно теперь весь дом в заразе.
– Да что же у нее такое?
– Дегтярик, что ли, по-ихнему. Страсть прилипчива, не дай Бог скрозь стенки пройдет... А вы-то тут рядом...
– Постой, нянька! Дифтерит... Это ужасно... Да кто же при ней остался?
– Лушку оставили, но она нейдет... Ревет, боится, говорит: ишь какие, сами наутек, а меня на смертыньку! И то: им что до девки? Унести бы свои ноги. А она говорит: я вольная, не покупная, не пойду, и кончено!
– Как же это будет, Боже мой? – вскрикнула Евлалия.
– Доктор обещался завтра с утра сиделку прислать.
– А сейчас? Если что понадобится?.. О, заячьи души! – гневно сказала Евлалия.
Все в ней дрожало. Все ее давнишнее, гнетущее, вдруг сразу уступило место новому, властному чувству – жалости к брошенному, может быть умирающему ребенку. Она крепко стиснула руки, потом быстро и решительно, как в воду бросаются, подошла к двери, ведущей в парадные комнаты, и – повернула ключ в замке.
Антипьевна обмерла и смотрела на нее, еще не соображая хорошенько, в чем дело.
Ключ, заржавевший от долгого неупотребления, несколько времени не поддавался лихорадочной руке Евлалии, и это маленькое сопротивление как будто еще более разожгло ее решимость. Он наконец повернулся со звоном, точно ключ темницы, и двери распахнулись перед Евлалией. На минуту она пошатнулась на пороге – так взволновал ее вид этой комнаты, где она не была семь лет, а все осталось по-старому. Но потом она встряхнула головой и уверенно пошла в комнату Литы.
Нянька кинулась за ней, не зная, благословлять ли ей Бога или приходить в отчаяние. Страх за жизнь своей ненаглядной взял верх, и она крикнула:
– Барышня, голубушка, что вы делаете? Да ведь прилипчиво! Сохрани Бог, заболеете!
– Ну полно, няня! Что мне в жизни? – ответила нетерпеливо Евлалия, и в эту минуту, сама того не зная, она сказала неправду: в нее уже проникло то, ради чего стоит жить и что дает желание жить, – любовь и жалость к другому человеческому существу.
Она вошла в неприютную, холодную, несмотря на жаркий день, комнату – на большой постели лежала Лита, горевшая в жару, разметавшая и сбросившая с себя одеяло. Она что-то бормотала в бреду и смотрела блестящими глазами на цветочки на обоях. Очевидно, она считала их:
– Красненький, синенький... пять, шесть, восемь, тринадцать... сбилась, опять сбилась... восемь, девять, десять...
Но, увидев тетку, она вдруг улыбнулась – не удивилась и не испугалась нисколько, как будто приход ее в эту комнату был самым простым и естественным явлением. Протянув к тетке худые, горячие руки, громко и ясно сказала:
– Милая, милая тетя Евлалия!..
Потом слабо сжала ее руки и затихла, улыбаясь и глядя на нее.
Та села рядом с ней и тоже пристально долго смотрела на больную. Ее заливала волна горячего сострадания к девочке, сердце ее билось.
"Как у нее здесь неприветливо!" – подумала она. И новые мысли забродили в голове: что-то словно упрекало Евлалию за то, что рядом с ней, среди тупых, не любящих никого женщин, томилось вот это юное создание, – томилось, как она, почти в такой же темнице, но не в добровольной, а тягостной для нуждающейся в ласке и свете детской души...
Образ милой сестры вставал перед нею, и в чертах смуглого личика она узнавала Мелитину, узнавала и себя – обе они вышли в мать.
Мелитины уже не было в живых, когда случилось несчастье, подкосившее жизнь Евлалии. Но будь Мелитина жива, она не оставила бы сестру, Евлалия понимала это. Неужели же теперь она даст погибнуть ее ребенку? Ответ был ясен: ни за что.
"Я должна быть теперь при ней... Потом я всегда могу вернуться к прежней жизни", – успокаивала себя Евлалия.
– Здесь сыро и нехорошо... – сказала она стоявшей у порога няньке. – Отнесем ее ко мне. Или, может быть, ты боишься?!. Так ступай, я и одна справлюсь.
– Ну что вы, матушка, коли вам жизни своей не жалко, так неужто ж мне, старой, себя беречь? – покорно ответила нянька.
– Поди же, приготовь у меня постель. Вынь чистое все...
Евлалия распоряжалась, как будто она никогда ничего иного не делала. Она послала няньку, а сама, оставив забывшуюся полусном девочку, вышла во двор и направилась в кухню.
Прислуга перепугалась, как при виде покойника, явившегося из гроба, и повскакала с мест. Евлалия спокойно и властно спросила:
– Кто ездил за доктором?
– Я-с... – вытянулся Слюзин, с которого от страха мгновенно даже хмель слетел.
– Куда?
– Тут недалеко... военный доктор...
– Ступайте и попросите его немедленно опять.
Ей надо было знать, что делать с ребенком.
Агния уехала, не оставив никаких распоряжений никому, кроме Лушки, а та с перепугу убежала из дома к куме, заявив, что не вернется, "хоть бы ее волоком волокли".
Доктор приехал через час и немало удивился, найдя больную в другой обстановке, а рядом с ней – вместо трех исчезнувших бесследно старух – красивую, очень бледную девушку в черном платье, которая отрекомендовалась ему теткой больной.
– Я... не знала, что племянница заболела. Меня... не было... – смущаясь, объяснила она ему. – Но теперь я останусь при ней... скажите мне все, что надо делать.
– Но... вы знаете, что болезнь очень заразительна? – осведомился доктор,
– Я не боюсь! – спокойно ответила Евлалия.
– Вот и отлично! Кто не боится, того зараза не тронет! – улыбнулся доктор, и улыбнулся он такой доброй улыбкой, что Евлалия, сама не заметив как, ответила ему тенью улыбки и подумала: "Какие у него славные глаза".
Доктор назначил лечение и прибавил:
– Сиделку-то я вам все-таки пришлю... Надо будет и ванны делать и вообще... всякую черную работу. Вы-то сами не очень здоровы. А?.. – с сомнением посмотрел он на Евлалию.
– О, я совсем здорова! – смущаясь, ответила она.
– Ну вот... значит, первым делом – компресс, ну и все, как я сказал.
– Я все помню... Так до завтра?
– Непременно-с.
Доктор уехал, а у Евлалии сразу оказались полны руки дел. Надо было посылать в аптеку, распорядиться ванной, устроить компресс, дезинфекцию. Нужно было денег: того, что нашлось у няни, не хватало.
Послали Слюзина в монастырь к Агнии с письмом, которое произвело впечатление разорвавшейся бомбы на Агнию Дмитриевну. Она, кажется, была более испугана и удивлена, чем обрадована, но махнула рукой и послала сестре денег и поклон.
– Бабушка! Слышите? Евлалия-то вышла!
– Ну, вышла и вышла... довольно уж... посидела и будет. Говорила я ей... не стоит запираться... вон погода-то какая... а она не слушала. А вышло-то по-моему.
– Да ведь заразится, боюсь!..
– Помолимся, помолимся, авось Бог и помилует, – ответила старуха. – Закажи молебен Пантелеймону Целителю.
– Денег просит... Я послала: мне что ж, мне ее не надо, у меня все ее цело... – взволнованно продолжала Агния. – Не бесприданница ведь... Да и не свои будет тратить... Из Мелитининых пойдет!.. – сообразила она. – Только бы не заразилась... Экая шальная, прости, Господи! Ведь сказал доктор, сиделку пришлет... Все не по-людски...
– Отслужи, отслужи Пантелеймону, – бормотала старуха.
X
Тем временем в рябининском доме пошло новое, не похожее на прежнее существование. Молодая жизнь боролась с опасной болезнью – боролась мучительно, задыхаясь, с бредом, горячкой и судорогами; упорно и страстно отстаивала ее Евлалия, набросившаяся на деятельность, как умиравший от голода на еду. Толстая, здоровая сиделка и Антипьевна помогали ей, и понемногу болезнь поддавалась лечению.
Изо дня в день приезжал доктор. Лицо его сначала становилось все озабоченнее и озабоченнее, потом прояснилось, и опять на нем стала появляться улыбка, которая так понравилась Евлалии.
"Говорят, по улыбке можно судить о человеке; если так, то доктор, должно быть, очень хороший человек!" – думала Евлалия.
К доктору она сразу почувствовала большое доверие и даже не рассердилась на него, когда он ей как-то сказал:
– Вам, сударыня, самой надо полечиться; извольте-ка у меня попить железа да гуляйте каждый день: ишь, сад-то у вас какой, как будто и не в Петербурге, а вы ведь совсем не гуляете.
– Почему вы думаете? – удивилась Евлалия.
– Да уж вижу... Правда... ведь? Сознайтесь-ка!
– Правда...
– Ну, то-то и есть. А вы извольте гулять, а то я вам не позволю за больной ходить!..
Евлалия должна была обещать доктору, что будет гулять, но не исполнила этого обещания. Ей как-то невозможным казалось сделать этот последний шаг к обычному порядку жизни. То, что она делала для Литы, другое дело, но для себя... Однако доктор не дал ей задумываться.
– Гуляли? – спросил он назавтра, смотря на нее пристально красивыми серыми глазами, в которых светилась мягкая, чуть насмешливая доброта.
– Нет... – опустила она голову.
– Нехорошо, нехорошо. А ну, пожалуйте-ка сюда, покажите мне ваш сад... – усмехаясь, сказал он и, растворив дверь на балкон, шутливо подал Евлалии руку.
Она повиновалась ему почти помимо воли, и, спустясь со ступенек балкона, они вышли в старый сад.
– Благодать-то какая!.. Не воздух, а мед! – сказал доктор.
Евлалия жадно вдыхала аромат сада.
Цвели липы, и их медовый запах густо насыщал все кругом. Старые деревья покрыты были золотистым налетом цветов.
Над ними гудели пчелы; в лучах солнца толклась мошкара; небо было ярко-голубое.
Молча прошли они аллею. Евлалия, как во сне, глядела на кусты красных "сердечек", на полуразвалившиеся качели, от которых остались одни столбы, и вдруг упала на скамью, закрыв лицо руками, и заплакала.
Доктор дал ей выплакаться.
Он понимал, что его "здоровая" пациентка, кажется, больше нуждается в лечении, чем больная, и что в душе у нее что-то творится. И ему было жаль молодое существо не только как врачу, но и как человеку.
Как человек он мог только догадываться о причине ее бледности и печального выражения больших глаз, но как врач он определил малокровие и решил вылечить девушку хотя бы помимо ее воли.
Профессиональное самолюбие заставило его захотеть, чтобы Евлалия стала опять сильной, здоровой и цветущей, как и должно быть в таком возрасте. А к этому прибавилась и симпатия к грустной девушке.
Доктор Зворянцев был еще молодой человек, не так давно потерявший любимую мать. С год тому назад он перевелся из провинции в Петербург, где чувствовал себя очень одиноким. Работы у него было меньше, чем в земстве, и он как-то обрадовался серьезному делу. Но его живо заинтересовала не столько маленькая пациентка, сколько эта бледная, печальная девушка, живущая уединенно в этом старом доме.
– Простите меня, доктор! – не смотря на него, прошептала Евлалия, утирая слезы, когда успокоился взрыв острого горя.
– Полно, полно, чего там! – добродушно возразил ей доктор. – Нервочки у нас пошаливают: я вас заставлю обтираться каждый день мокрой простыней, и все пройдет.
Он действительно начал следить за тем, чтобы она исполняла все его предписания, и они замечательно помогли Евлалии. То есть, в сущности, помогали не столько обтирания и прогулки, сколько наполнившаяся вдруг деятельностью жизнь, страстная нежность выздоравливающей Литы и заботливое внимание и дружеское отношение молодого доктора.
Теперь, каждый раз говоря по привычке "До завтра!", Евлалия произносила эти слова не машинально, как обычные слова прощания. За ними виднелся целый день тихого ожидания и спокойной уверенности в том, что завтра в это же время задребезжит звонок, и Антипьевна впустит его, такого сильного, красивого и спокойного, и опять он повозится с Литой, расцветавшей с его приходом, а потом поведет Евлалию в сад и заставит "делать моцион".
Теперь Евлалия больше не плакала в саду; они с доктором все больше дружились и разговаривали, как будто были знакомы друг с другом давным-давно.
Он ей рассказывал о большом городе на Волге, откуда он был родом, о своем детстве, о своей матери. Она тоже рассказала ему о себе, и наконец даже про последние семь лет...
Когда все это было высказано, она почувствовала себя совсем легко и просто с доктором.
Он задумчиво слушал ее, очевидно, сочувствуя ее горю. А потом сказал ей:
– Да, вот когда мама умерла, я, знаете, сам чуть с ума не сошел. Она для меня всем была. Но... знаете, что спасло меня от полного отчаяния?
– Что?
– Больные мои. Некогда было о себе думать... надо было лечить, ездить. Как раз в то лето холера была; так, знаете, до того доходило, что по три ночи подряд ложиться не приходилось. А как потом доберешься до постели, так мертвым сном заснешь. И вошел в колею.
– Да, у меня не было дела, – промолвила она.
– Не было, зато теперь есть – девочку-то ведь вы же не бросите? – И он пытливо взглянул ей в глаза.
Она помолчала и потом медленно и твердо сказала:
– Не брошу.
Она чувствовала действительно, что бросить Литу ей уже будет невозможно.
Выздоравливающая девочка прямо молилась на нее: вся потребность ласки и любви, бывшие в ней под гнетом, теперь проснулась, и она перенесла их на тетю Евлалию.
И Евлалия непроизвольно поддалась прелести этой робкой и горячей привязанности.
Так отрадно ей было видеть, как при ее появлении исхудавшее личико девочки все освещалось счастливой улыбкой, как тянулись к ней слабые руки и тихий голосок шептал:
– Я уж по тебе соскучилась, тетя Евлалия.
Теперь целые дни проводили они вместе: Лита в большом кресле, обложенная книжками и картинками, которые прислал ей доктор, и Евлалия рядом с ней. Читая девочке вслух и рассказывая всевозможные вещи, она сама точно возродилась. И комнаты казались совсем другими. Солнце заливало их, занавески были подняты, на столе стояли цветы, в открытые окна доносились чириканье птиц, свистки пароходов, звон посуды, смех, говор – все звуки жизни.
Антипьевна с сиделкой распивали нескончаемые чаи с вареньицем и вели уютные разговоры. Старуха словно тоже вознаграждала себя за долгое затворничество и отводила душу с сиделкой.
Когда приходил доктор, то радовались все, и Лита кричала: "Доктор, доктор, что вы так долго?"
Евлалия уже не звала его доктором, а звала Сергеем Петровичем.
За эти полтора месяца ежедневных встреч они больше освоились друг с другом, чем могли бы за годы долгого знакомства.
Все яснее становилось Евлалии, что жизнь еще может быть хороша, вернуться в свое затворничество она бы уже не могла хотя бы ради девочки, доверчиво отдавшей ей свое бесприютное сердечко.