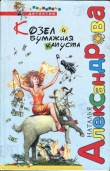Текст книги "История одной судьбы"
Автор книги: Лев Овалов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Лев Овалов
История одной судьбы
I
Что делалось на этом вокзале! Яблоку упасть было негде. Люди лежали везде: на полу, на скамейках, под скамейками. Грязь повсюду была такая, точно вокзал не подметали по крайней мере месяц. Впрочем, его действительно не подметали месяц, а то и дольше.
Но люди все-таки были довольны, над ними не капало, стены защищали от ветра и дождя, было сравнительно тепло и сухо.
Подошел еще один поезд…
Когда толпа схлынула с перрона, из вагона вышел солдат. На перроне горели фонари, но свет их плохо рассеивал темноту. Городская электростанция работала с перебоями. Вокзал освещался от собственного движка. Трудно было рассмотреть что-либо в ночном сумраке. Солдат спрыгнул на перрон и, прихрамывая, направился на вокзал.
В дверях он чуть не споткнулся, кто-то лежал у самых дверей.
– Куда прешь…
Солдат перешагнул и тут же наткнулся на кого-то еще…
В глубине зала, вдоль стены, за сдвинутыми деревянными диванами табором расположились женщины. Расположились домовито и точно надолго, расстелили на полу пальто, платки, раздели детей, подложили под головы мешки, сумки…
Солдат кое-как добрался до этого шумного женского табора, присел было на корточки, поставил чемодан, потом не выдержал, уселся прямо на пол и устало вытянул ноги, облокотясь на свой чемоданишко.
– Эх ты, мужик, куда ж ты… – не без ехидства сказала не старая еще женщина с накрашенными, несмотря на грязь, сутолоку и неустроенность, губами. – Думаешь, теплее с бабами? Титек не видал? Тут ребят кормят…
Она насмешливо, даже вызывающе взглянула на солдата и вдруг удивилась:
– Да ты никак баба…
И точно, солдат оказался женщиной. Может быть, даже не женщиной, а девушкой. Она была еще очень молода, и, хотя на лице ее лежал отпечаток безмерной усталости и даже страдания, в глазах ее теплилась такая милая, такая трогательная наивность, какая бывает обычно свойственна только детям.
Соседка с накрашенными губами подвинулась к женщине в шинели.
– Откуда едешь-то? – сочувственно спросила она. – Неужто с фронту?
– Точно, – ответила женщина хрипловатым и вместе с тем звонким, слегка вибрирующим молодым голосом.
– Домой или на побывку?
– Работать.
– Работать везде надо, – сказала соседка. – До места еще далеко?
– Приехала.
Соседка пыталась втянуть ее в беседу.
– Досталось, поди, на фронте? Сестрой была? Многих раненых вынесла?
– Санинструктором. В стрелковой роте, – устало сказала женщина. – А выносить раненых, между прочим, не мое было дело. Выносят санитары. Мое дело сразу на передовой перевязать. Пока одного потащу, десять кровью истекут…
Она замолчала и, прикрыв глаза, прикорнула у своего чемодана. Однако кругом стоял гомон… Говорили обо всем. О молоке, о детях, о жилищах. Об убитых мужьях, о неверных мужьях, просто о мужьях. Фронт откатывался все дальше на запад, сомнений в исходе войны не оставалось теперь ни у кого, и вслед за войсками тысячи людей потянулись на свои пепелища. Поэтому в разговорах мешалось все: и где бы достать гвоздей, и какая казнь ждет Гитлера, и почем на базаре лук.
Женщина закрыла глаза. Ох сколько ей пришлось повидать! Наплывали какие-то свои мысли. Наплывали, уплывали… Тело сковывала дремота. Она не знала, сколько времени провела в полудреме. Будто только зажмурилась – и опять…
– Гражданка… Или как вас там? Товарищ старшина… Ваши документы!
Перед нею стоял патруль. Лейтенант из военной комендатуры, какой-то железнодорожник, милиционер.
Время было тревожное, война еще не кончилась.
Полезла в наружный карман гимнастерки, достала документы.
– Гончарова… Анна Андреевна?… А сюда зачем прибыли?
– По вызову.
– Вот и идите в город, ночевать разрешается только транзитным пассажирам.
– Куда ж я ночью пойду?
– А вы видите, что делается на вокзале? Да и ночь на исходе. Скоро уборка…
Женщина застегнула шинель, встала.
– Куда ты, Аня?… – Соседка потянула ее за полу. – Сиди. Небось не выкинут.
– Раз не положено…
Патруль ждал. Она обдернула под ремнем шинель, подняла чемодан и пошла к выходу.
II
Сперва она как бы ослепла. Вокзал не ахти как освещен, однако все можно различить. Привокзальная площадь тонула во мраке. Небо серело лишь в вышине, по-над домами оно было черным. Черным как сажа. Перед рассветом ночь всегда особенно темна.
Анна постояла, всматриваясь в темноту. Неподалеку стояла грузовая машина, шофер отсутствовал, ушел, должно быть, спать или по делам. На площади так пустынно и тихо, что одной стоять жутковато.
Анна могла пойти только к Бубенчиковым.
Две сестры – Полина и Серафима Егоровны. Анна квартировала у них, когда училась в техникуме. Они жили недалеко от центра. Номер дома Анна забыла, но самый дом помнит хорошо. Рыжеватый, облупленный флигелек в три окна, много с ним связано воспоминаний. Больше ей негде остановиться. Егоровны любили ее. Небось не откажут, примут.
Анна ухватила чемодан поудобнее и пошла. Она хорошо знала город, но в темноте он казался ей сейчас каким-то иным. А может быть, иным он казался не потому, что стояла ночь, а потому, что много домов было разрушено, а кое-где вообще не осталось никаких домов.
Три года провела Анна в Пронске, покуда училась в техникуме. Год жила в общежитии, два – у Бубенчиковых. Она убирала дом, обстирывала старух, делилась с ними продуктами. Зато занимала отдельную комнату, легче было учиться…
Вот и Московская. На Московской – клуб железнодорожников. Все девчонки из техникума бегали сюда смотреть кинофильмы, билеты в клубе стоили дешевле, чем в городских кинотеатрах.
Из-за угла с грохотом выкатился грузовик, ослепил на мгновение Анну, осветил фарами остов трехэтажного дома и помчался к вокзалу. Задул ветер. Злобный осенний порывистый ветер. Стало совсем холодно. Неизвестно откуда появился пес. Тявкнул и исчез. Анна метнулась в сторону, но пес уже исчез. Она не боялась собак. Пожалуй, она теперь вообще уже ничего не боялась. Просто растерялась от неожиданности.
Всего четыре года прошло, а сколько пережито, сколько досталось на ее долю…
Пронск поломан, разрушен, но он снова станет таким, каким был. А ей уже не стать такой, какой она была. Ничего не поправить, ничего в ее жизни не починить.
Она шла, опустив голову, глядя не на землю, а сквозь нее. Многое утрачено… Нет Толи, нет и никогда уж не будет. Она даже не знает, где он погиб, как погиб. Плохо Женечке, плохо ей самой. Темно и худо.
Дошла до Базарной площади. Перейти, а там скоро и Палашевский…
Небо бледнело. Начинался день. Новый день. Каким-то он будет?
Вот и знакомый переулок. Анна замедлила шаги, совестилась разбудить старух спозаранок. Номер дома она забыла, но рыжеватый флигелек в три окна запомнила навсегда. Однако флигелька не было. Анна растерянно смотрела перед собой. Никакого флигелька. Голое место. Ни флигелька, ни следов от него. Никаких Егоровен. Ничего…
Переулками прошла на Советскую улицу.
Советская, 38…
Стена. Необычно белая стена, словно только что выбелена. Выбиты окна. Несколько ступенек, отделенных от дома. Ступеньки стоят на тротуаре сами по себе. За ними пролом и вороха щебенки. Какое здесь может быть учреждение?
Вот идет какой-то дядька в рыжей бекешке, с испитым желтым лицом, с брезентовым портфелем под мышкой. Портфель туго набит. Что в нем? Картошка, дровишки, книги? Да и книги, если набит ими портфель, тоже небось на растопку.
– Гражданин, не знаете, где тут сельхозуправление?
– Тут, тут. Правильно. Во дворе. Прямичком…
Она прошла в ворота. За развалинами уцелел больший деревянный особняк. С застекленными окнами. С дверью, сверкающей свежею охрой. С вывеской. С аккуратной вывеской под стеклом: «Пронское областное управление сельского хозяйства». Милости просим! Входи, Аннушка, входи, входите, Анна Андреевна, вас ждут здесь, товарищ Гончарова!
– Я Гончарова. Вот вызов…
Непрезентабельный вид у товарища Гончаровой. Шинелишка. Серая, потрепанная. Ушанка. Кирзовые сапоги. Словом, шел солдат с фронта.
– Вы – агроном?
– Агроном.
– В Пронске кончали техникум?
Кажется, ей не верили – ни в то, что она агроном, ни в то, что она училась именно здесь, в Пронске.
– Одну минуточку…
Заглянули в один шкаф, в другой, там полно всяких бумаг, папок. Не все сгорело во время войны, сохранилось еще много бумажек, целы архивы, целы люди, целы их должности, звания, права.
– Пройдите к начальнику…
Кабинетик начальника управления похож на клетушку; в старину в купеческих домах в такие клетушки запихивали приживалок да сундуки со всяким тряпьем.
Сам начальник в выцветшем кителе, лицо серое, бескровные губы жестко сжаты, большие руки широко раскинуты, словно держатся за стол.
Начальник бросил на вошедшую быстрый взгляд.
– С фронта?
– Точно.
– Где служили?
– В стрелковой роте.
Он опять бросил на нее испытующий взгляд.
– Соскучились по земле?
Анна не нашлась что сказать.
– Я тоже фронтовик, – вдруг сказал он. – Только я и на фронте копался в земле. Сапер. Командовал саперным подразделением.
Тогда Анна позволила себе поинтересоваться:
– А сюда что – отозвали?
– Да, – отрывисто сказал он. – Восстанавливать. Разорена наша область. Ни скота нет, ничего.
Анна знала его. Никогда раньше не видела, но знала. Фамилия начальника – Петухов. Это был знамени тый агроном. Не так чтобы известный повсюду, но в Пронской области знаменитый. Картошка, которую он выращивал в своем колхозе, славилась в Пронске. Ее так и называли – «петуховская». Крупная, рассыпчатая, розоватая, как боровинка. На базаре продавцы всегда заверяли покупателя, что картошка их «петуховская».
Анне не понятно, почему Петухов пошел сюда. Такому человеку не стоило сидеть за письменным столом, такой человек должен ходить по земле.
– Бывали в Суроже? – спросил он.
– Нет…
Она поняла, что Петухов пошлет ее в Сурож.
– Пошлем в Сурож, – сказал он. – Там очень плохо. Город выжжен, в колхозах пусто. В райсельхозотдел. Главным агрономом.
Он не спросил ее согласия, вообще ничего не спросил – ни кто она, ни как она, что-то оскорбительное было в его отрывистом, торопливом разговоре.
– Семья есть?
– Дочка.
Он опять сердито взглянул на Анну.
– Фронтовая?
– Нет, еще с до войны.
Она могла бы не отвечать, сказать какую-нибудь резкость – какое ему дело до ее жизни? – но почему-то решила промолчать.
Петухов опять на нее взглянул, ей показалось, что глаза его потеплели.
– А муж?
– Убит.
– С квартирами плохо в Суроже, – сказал он. – Только-только начинают строить. Но ничего, найдете.
Петухов задумчиво посмотрел в окно.
– Сходите, поговорите с Волковым, – помолчав, посоветовал он. – Познакомьтесь. Главный агроном управления. Понимающий мужик. Есть и опыт и воля… – Петухов чего-то недоговаривал. – Но не очень подчиняйтесь ему, – неожиданно сказал он. – Больше доверия. Больше доверия…
Анна не поняла, к чему относятся эти слова.
– Ну идите, – сказал он и криво усмехнулся. – Извините, не провожаю.
Анна вышла от Петухова с каким-то тягостным чувством, словно человек этот чего-то недосказал.
Она осмотрелась. На всех дверях надписи – кто где находится, какой где отдел. Нашла дверь с фамилией Волкова, постучала.
– Заходите, заходите, – услышала она звучный, ласковый голос.
Комната и попросторнее и посветлей кабинета Петухова. У стены блестел диван, обтянутый зеленым новеньким дерматином. У окна веселым часовым выпрямился длинный фикус, поблескивая чистыми глянцевыми листьями. На столе лежали образцы свеклы и аккуратные снопики льна.
Сидевший за столом человек соответствовал своему кабинету. Он был хоть и не молод, но моложав, над открытым лбом вились русые волосы, лоб широкий, белый, чистый, а пронзительные черные глаза не скрывают улыбки, готовой вот-вот появиться на сочных губах.
– Заходите, заходите, – приветливо повторил он, глядя на Анну. – Агроном Гончарова? Мне уже говорили. Познакомились с Иваном Александровичем? Замечательный человек. Суров, но в общем хороший. Надо было только сперва зайти ко мне. Он куда вас направил?
– В Сурож, – сказала Анна. – Не хвалит, правда, но в Сурож.
– Ну вот! – воскликнул Волков. – Я говорю, надо было зайти ко мне. Там ведь все еще… – Он с досады махнул рукой, вышел из-за стола, указал на диван, сел рядом с Анной. – Мы бы вам нашли место в Пронске. А теперь…
– Я не возражаю, – сказала Анна. – Люди везде живут.
– Мы переведем вас, – ласково заверил ее Волков. – Получайте подъемные, устраивайтесь. Подбросим семенного материала, дадим тракторов. Налегайте на картошечку. Люди изголодались. Будет похлебка, будет и настроение…
Своей ласковостью он сразу обезоружил Анну.
– А знаете что? – воскликнул вдруг Волков, глядя на нее влажными глазами. – Я устрою вам пару ульев!
Анна не поняла.
– Каких ульев?
– Обыкновенных, – объяснил Волков. – Лично вам пару ульев.
Анна так и не поняла.
– Зачем?
– Мед, мед! Как вы не понимаете? Будете иметь свой мед. Поставите где-нибудь в колхозе, поручите кому-нибудь и будете со своим медом. Пшеница – это еще как бог даст, а цветов…
Он так аппетитно говорил о меде, о цветах, что они невольно возникали в воображении.
Но Анна не столько поняла, сколько почувствовала, что от ульев надо отказаться.
– Спасибо, – сказала она. – Но я не возьму, не нужно. – Она смягчила отказ: – Я боюсь пчел…
Волков засмеялся:
– Что ж вы за агроном? Кто ж отказывается от меда!
Но и не настаивал. Заговорил о сурожских почвах, об удобрениях, о севообороте. Посулил помочь семенами, но много не обещал. Обещаньями не разбрасывался, был деловит, даже прижимист.
– В случае чего обращайтесь, – сказал он на прощанье. – Чем смогу – помогу.
Обеими руками пожал ее руку, и сухие тонкие пальцы Анны сомлели в его пухлых и теплых ладонях.
Анна не собиралась больше заходить к Петухову – оформила документы, получила деньги, – но оказалось, он сам просил Гончарову зайти к нему еще раз.
Она вошла. У Петухова сидели какие-то люди.
– Вы можете подождать? – спросил он.
– Пожалуйста.
Она собралась было выйти.
– Нет, нет, – остановил он ее. – Посидите здесь.
Она села у двери, прислушалась к разговору. Речь шла о сельскохозяйственной технике, о ремонте косилок, изломанных во время войны. Взгляд Анны задержался на карте области, потом скользнул по столу, на пол…
Удивилась… Не сразу сообразила – чему, но что-то поразило ее. Перевела взгляд на Петухова, потом снова поглядела под стол. Она не понимала, как сидит Петухов. Где его ноги?… Поджал под себя? Она уже не отводила взгляда от стола…
Он отпустил посетителей.
– Подсаживайтесь, – сказал он. – Познакомились с Волковым?
Что-то все-таки озадачило ее в Петухове.
– Вы что на меня смотрите? – вдруг спросил он. – Соображаете, как я обхожусь?
– То есть как обхожусь? – переспросила Анна. – Вы о чем?
– Да я же видел, как вы смотрели, – резко произнес Петухов. – А смотреть-то не на что!
– Я не смотрела, – сказала Анна.
– Смотрели, – сказал Петухов. – Это я на мине подорвался.
Она вдруг поняла… Стыдно было таращить глаза под стол! Он был без ног – этот Петухов.
– Извините, – сказала Анна.
– Ах, так вас не предупредили? – догадался он, видя ее смущение. – Да, без ног. Подорвался на мине. Еще удачно. Голова цела.
Анна видела много людей без ног, но безногого начальства видеть ей еще не случалось.
– Ну что? – быстро спросил Петухов. – Что хотите спросить?
– Но как же вы… – Неудобно спрашивать, но он сам заставлял. – Как же вы…
– У меня хорошая жена, утром привозит, а вечером увозит, – объяснил он и даже усмехнулся. – Скоро избавлю ее. Обещают протезы.
Она не знала, что сказать, и не знала, надо ли вообще что-либо говорить, молчала и смотрела себе на коленки.
– Ну, а как вы – собираетесь заводить пчел или нет? – неожиданно спросил Петухов.
– Нет, – сказала она и улыбнулась. – Нам бы картошечки…
– И правильно, – жестким голосом произнес Петухов. – Вы правильно поступаете, товарищ Гончарова. Больше доверия. Себе.
III
Сыпал мелкий сероватый снежок, когда Анна приехала в Сурож. Над городом висело низкое сумрачное небо, натоптанные тропинки расползались в грязь, до рогу то тут, то там перерезали глубокие колеи.
Домишки стояли кособокие, приземистые, бурые от дождя и непогод, располагались как-то поодиночке, каждый сам по себе, точно кто-то нарочно разбросал их подальше один от другого.
В Пронске Анна слышала, что Сурож не раз во время войны горел, что немцы его беспощадно бомбили, да и партизаны не один раз обстреливали, выбивая немцев из города.
Однако ни развалин, ни пожарищ, ни воронок уже не было. Просто пусто и голо, точно никогда и ничего не было здесь, кроме редких невзрачных домишек.
Анна нашла аптеку, свернула за угол и пошла по узкой улочке в гору.
В Пронске ей объяснили, как найти районный отдел сельского хозяйства: «От аптеки за угол и вверх»…
Вот и цель ее путешествия. Какой-то полутораэтажный дом, хоть и состоит он из двух этажей – нижний, из кирпича, глубоко вдавлен в землю. В нижних окнах герань, фуксии, столетник, занавесочки – там обитают люди, в верхних – ни цветов, ни занавесок, невеселый, водянистый блеск, там – учреждение.
К скособоченной, покрашенной суриком двери приколочена фанерная дощечка, на ней надпись: «Райсельхоз сзади».
Анна поднялась по трясущимся ступенькам, и перед нею возникла обычная канцелярия. Столы, стулья, шкафы. Счеты. Служащие. Служащие сидели за столами, писали, считали, разговаривали. В комнатах неуютно, но чисто. Не столько от стремления соблюсти чистоту, сколько от пустоты. Пусто и одиноко чувствовал себя человек в этих комнатах.
Заведовал отделом Александр Петрович Богаткин. О нем хорошо говорили в областном управлении. Старый, опытный агроном. Поможет, поддержит, посоветует.
Анна поискала глазами и не нашла кабинета заведующего. Все двери открыты, надписей нет. Богаткин сидел, вероятно, за одним из столов, но – за каким?
Она обратилась к девушке, занятой графлением бумаги.
– Товарищ Богаткин здесь?
– А где ж ему быть!
Девушка указала комнату, за порогом которой сидел товарищ Богаткин.
Он понравился Анне. Скромный человек в дешевом костюмчике, с темным галстучком, он сидел и крутил ручку арифмометра.
– Садитесь, девушка, садитесь, – сказал он. – Я сейчас.
Старомодные очки в тонкой металлической оправе не скрывали рассеянного взгляда добрых голубых глаз.
– Вы ко мне? – спросил он, не отрываясь от арифмометра, точно это не очевидно.
– Я из Пронска. Направлена к вам на должность главного агронома.
– Замечательно, – сказал Богаткин. – А то мы совсем зашились. – Он отставил от себя арифмометр. – Надеюсь, вы агроном?
– Разумеется. Кем же я могу еще быть?
– Не скажите, – возразил Богаткин. – Не всегда агрономами посылают агрономов. Тут у нас был один…
Он не стал вдаваться в подробности, кто у них был, встал, прошелся возле стола.
– Мы внесем ваш стол ко мне в кабинет, здесь теплее, – объяснил он. – Топят у нас плохо, дров мало.
Богаткин помолчал, задумчиво посмотрел в окно и вздохнул.
– Погода… – задумчиво произнес он. – Чем-то еще она нас порадует.
Анна ждала, что расскажет он о районе, но Богаткин, по-видимому, не намерен был затевать сейчас деловой разговор.
– Сегодня отдохнете, а завтра на работу.
– Можно и не отдыхать.
– Семьи у вас нет? – спросил Богаткин, как нечто само собой разумеющееся.
– Есть.
– Где ж вы поместитесь? – участливо спросил Богаткин. – У нас тут худо с жильем.
– Да уж как-нибудь. У меня только дочка, да и та еще на Кубани.
– Ну, это легче…
Он опять встал, вышел и тут же вернулся.
– Ходил узнать насчет комнаты. Есть тут одна женщина, Ксенофонтова. Сын у нее механиком в МТС работает. Сдается у нее комнатушка…
Он сам взялся проводить Анну, довел до Ксенофонтовых, можно сказать, сосватал ей комнату.
Комнатушка темная, узкая, перегородка, отделявшая ее от хозяйских комнат, не доходила до потолка, но в последнюю военную осень и такая комната была в Суроже находкой.
– Ладно, – сказала Ксенофонтова. – Верю, что агроном, хоть и не похожа на него. Больше пускаю из-за дочки, жалею детей. О плате договоримся, жадности не люблю ни в людях, ни в себе…
Она помогла Анне устроиться, поставила койку, поприветила жиличку, поделилась с ней даже бельем, и наутро Анна с успокоенным сердцем пошла из этого дома на работу.
IV
Анна понять не могла – как это получается? Не все ли равно где работать? Оказалось – не все равно.
Не так-то уж плохо было ей на Кубани, работа у нее была «под ногами не валяется», не будь она фронтовичка, не направили бы ее в плодоводческий совхоз. Ходи знай указывай, как окучивать деревья, уничтожать вредителей, убирать урожай, собирать фрукты в корзины…
Ан нет, потянуло домой. Картошка в Пронске, оказывается, вкусней, чем яблоки на Кубани. Она раньше не понимала, до чего ж дороги ей родные пронские земли, как не понимала когда-то мать, которая говорила отцу: «Вези куда хочешь, а лежать хочу в своей, в родительской, в пронской земле».
Анна аккуратно ходила в свой райсельхоз. Она быстро привыкла ко всем и во всех находила что-то хорошее. Богаткин был добрый человек, только какой-то заполошный. Его часто вызывали то в райком, то в райисполком. Прибегал оттуда – лица на нем не было, начинал на всех кричать, а больше на самого себя. И очень любил заставлять сотрудников подсчитывать будущие урожаи. Если запашем столько-то и столько-то га и засеем такими-то и такими-то культурами и если будут такие-то и такие-то климатические условия, сколько соберем с гектара? Он тонул в бумажном потоке и не пытался из него выбраться.
Девушки из отдела делились с Анной своими секретами. Рая ругала Богаткина за то, что он заставляет работать по вечерам. Зина хотела выйти замуж, но не знала за кого. Обе они очень интересовались, когда же Анна привезет в Сурож дочку.
Самым невозмутимым человеком в отделе был бухгалтер Бахрушин. Высокий, красивый, он говорил меньше всех, делал свое дело, а агронома в шинельке просто не замечал.
Богаткин сразу оценил Анну. Если требовалось подготовить решение, Богаткин сажал на проект Анну.
Она сочиняла решения, составляла таблицы, «подбивала» сводки…
Как-то попросила послать ее в какой-нибудь колхоз.
– Чего вы там не видели? – удивился Богаткин. – Они лучше нас с вами разбираются в своих делах.
И не пустил. Он уже не мог обходиться без Анны.
За несколько месяцев она постигла всю механику бумажного руководства. Писать, писать, писать. В этом заключалась работа. Не так уж важно, что писать, важно было писать. Спрашивать, запрашивать, изучать, и обязательно в письменном виде. К ним писали из области, из министерства. Они писали в область. Писали в колхозы. Нескончаемым потоком шли запросы, инструкции, циркуляры. Война не кончилась, а люди погрузились уже в писанину.
Она уставала за своим столом больше, чем если б работала в поле.
Приходила вечером домой, в глазах серым-серо, все сливалось в серый туман, да и дома было не веселее.
Ксенофонтовы были простыми людьми. Сама Евдокия Тихоновна всю жизнь работала на шпагатной фабрике. Мужа потеряла еще до войны, одна вырастила и поставила на ноги сына.
Грише Ксенофонтову всего семнадцать, но он уже два года работал на МТС. Почему-то все считали, что работает он механиком, хотя на самом деле работал токарем. Просто у него был талант к механике. Отработав свое, Гриша оставался ремонтировать тракторы, комбайны, косилки. Все, что нуждалось в ремонте. Он не получал за это никаких денег, разве что изредка его благодарил тот, за кого он оставался работать. Но Гриша и не ждал благодарности, он трудился из любви к делу.
Дома Гриша вел себя как взрослый мужчина. Возвратясь с работы, умывался, садился за стол, ждал, когда мать подаст ему ужин, потом ложился, закуривал папиросу и… засыпал.
По-детски он только вставал. Мать не могла его добудиться.
– Гриша, Гриша! Уже гудело…
Проснуться он не мог. Потом вскакивал, взглядывал на часы, совал в карман несколько холодных картофелин – и был таков!
К Анне Гриша относился так же покровительственно, как и к матери. Он был единственным мужчиною в доме.
Анна ложилась и, несмотря на усталость, подолгу не могла заснуть, до того ей было тоскливо и одиноко. Женечка далеко, и страшно привезти ребенка в это неустройство.
Вслух она вспоминала дочку редко, но Евдокия Тихоновна угадывала ее мысли.
– Чего ты томишься? – обращалась она вдруг к Анне без видимой причины. – Вези, не пропадешь, воспитала же я Гришку…
Но Анна никак не могла решиться, все ей казалось, что у тетки Женечке лучше.
Утром она опять шла в свою канцелярию и вместе с Богаткиным погружалась в поток цифр.
Оживление пришло с весной. Война близилась к концу. И – кончилась. Наши взяли Берлин. Не прошло после капитуляции немцев и нескольких дней, как все изменилось в Суроже. Везде начали строиться. Понемногу строились в течение всей зимы, но так буйно строиться начали только с мая. Новенькие срубы появлялись то тут, то там. Как грибы после дождя. Сурож оживился, повеселел. Постукивали молотки, шуршали, повизгивая, пилы. Весна пахла сладкой сырой стружкой. Анна всей грудью вдыхала этот запах.
Себе она купила новое пальто. В райпотребсоюз привезли партию верхней одежды, и Богаткин принес из райисполкома записку, чтобы Анне продали пальто прямо со склада. Она выбрала самое дорогое, мягкого синего драпа, свободного покроя, без пояса, с широкими рукавами. Там же на складе купила голубую косынку, туфли… И вдруг заметила, что на нее стали обращать внимание. Как-то почтительнее стал обращаться к ней Богаткин, начал первым здороваться Бахрушин, принялся чуть не каждый день захаживать инструктор райкома партии Сухожилов. Девушки в отделе уверяли, что Сухожилов зачастил ради Анны. Она не верила, и все же было приятно, что так говорят.
Ко всему, что касалось ее лично, Анна относилась безучастно. Так вели себя люди после тяжелых контузий. В ней была какая-то вялость, ничего не хотела она для себя. Она была ушиблена войной. Ей казалось, что после Толи у нее уже не может быть никого. И все-таки, когда с окончанием войны все вокруг ожило, и в самой Анне что-то начало пробуждаться…
Одолевали всякие мысли. Уж очень однообразно шла ее жизнь. Служа да нужа, служа да нужа, все то же и без конца. Лежишь, лежишь, а думы жалят, как комары…
С вечера Евдокия Тихоновна натапливала печь чуть не докрасна, Анну размаривало, клонило в сон, но тепло вскоре выдувало, и под тонким байковым одеялом становилось холодно и одиноко.
Женечку бы под бок, прижать, пригреть, да и самой пригреться…
Как-то живет без нее ее доченька? Не обижают ли ее?…
Вспоминалось, как рассталась, как встретилась с Женечкой…
Домик уютный, беленький, чистенький. Украинская глинобитная хатка, каких множество в кубанских станицах. Тетя Клава оказалась молодой еще женщиной, приветливой, крикливой, надоедливой.
– Ох ты, Толечка, мой дорогой! Ох ты, Нюрочка, моя дорогая! Ох ты, внучечка моя… Подумать только! Мне бы самой еще замуж, а я бабушка!
За домом рос садок. Вишни, абрикосы, груши. Вдоль плетня цвели мальвы. Войны здесь еще не было. Здесь были – мир, сад, абрикосы.
Толя оставил жену и дочку на попечение тетки. Не прошло недели, как Анну отвезли в больницу. Надо же было простудиться в июле! Воспаление легких. Всем было не до нее. Война приближалась семимильными шагами. Когда Анна вернулась к тетке, в станицу уже доносились раскаты орудийных выстрелов. Во время болезни у нее пропало молоко. Тетка кормила Женечку из бутылки. Козьим молоком. Тетка говорила, что козье полезней коровьего.
Но еще раньше, чем до станицы донесся грохот орудийных раскатов, пришли слухи о зверствах немцев. Евреи, коммунисты, офицеры… Все подлежали истреблению. Истреблению подлежали семьи коммунистов, их жены, дети, родители.
Тетка нервничала. Она хотела жить. Она еще собиралась замуж. Она с опасением посматривала на Анну. Все знали, что Анатолий – офицер, летчик, коммунист.
– Ты бы уехала, – сказала ей как-то ночью в темноте тетка. – Женю оставь, я ее выхожу.
Старики, подростки, девушки записывались в ополчение. Анна тоже записалась.
Батальон ополченцев увели в горы перекапывать дорогу, чтобы задержать продвижение немцев на Кавказ.
Горы, окопы, дороги. Началась и для Анны война. Грязь и кровь…
Анна вернулась в Белореченскую, демобилизованная после ранения, в начале 1944 года. Похудевшая, измученная, злая. Станица чернела в копоти.
Анна шла по улице с вещевым мешком на плече. Там консервы, сахар, галеты. Все для Женечки. Знакомой хаты не было. Дом сожгли. Сад вырубили. Тетка жила в землянке среди корявых пеньков, торчавших на месте грушевых деревьев.
Война сильно изменила Анну, однако тетка ее признала.
– Нюрочка, на кого ты стала похожа?!
Она действительно была не похожа на себя.
– Где Женя?
Спустилась в землянку. На деревянном топчане сидела девочка, копошась в каком-то тряпье.
Тот, кто видел в войну дистрофиков, представляет, что это такое! Мало сказать – кожа да кости. Кожа не походила на кожу. Серая, вот-вот готовая порваться, нетелесная какая-то оболочка, и палочки вместо рук и ног. Скелеты с полубезумными глазами, прячущимися в глубоких впадинах.
Дети были еще страшнее…
Из полутьмы девочка безразлично посмотрела на мать.
Анна упала. Вещевой мешок потянул ее к земляному полу. На что тут консервы, на что сахар…
– Женечка, доченька…
Захотелось сказать что-нибудь обидное Клавдии, она еще раз взглянула на Клавдию – и расхотелось говорить. Та сама была немногим лучше ребенка – такое же изможденное лицо, такие же диковатые глаза в темных впадинах.
Тетка подняла Анну.
– Э-эх, Нюра, если бы ты знала, каково нам досталось…
Анна понесла дочь в больницу.
– Не переживайте, если ребенок не выживет, – безжалостно сказал врач. – Вы молоды, будут новые дети…
– Я не выйду замуж, – упрямо произнесла Анна. – Лечите. Лечите, как только можете.
– Отблагодарим, – добавила тетка.
– Попытаемся без благодарности, – сказал врач. – Попытаемся.
У Анны брали кровь и вводили дочери…
Ходить Женя начала месяцев через пять.
На работу Анна устроилась в плодоводческий совхоз. Она брала с собой в сады Женю. Та бродила на неокрепших ножках между деревьев и грызла зеленые яблоки.
Тетка бегала к поездам. Торговать. Она торговала всем: вишнями, шелковицей, оладьями, яйцами. Купит на базаре курицу, сварит, суп сами съедят, а курицу обжарит и несет на станцию. Постепенно тетка начала поправляться. Помолодела, округлилась, стала поглядывать на мужчин.
– Ты бы, Нюра, попросила себе в совхозе квартиру, – посоветовала тетка. – Надо строиться, а без мужика не сладить.
Анна не находила себе места, все здесь напоминало Толю.
Анна писала на родину, писала знакомым, интересовалась, как идет в Пронске жизнь, и вдруг получила вызов – Пронское областное управление сельского хозяйства предлагало работу.
Ох, до чего ж соскучилась она по рассыпчатой пронской картошке и квашеной капусте!