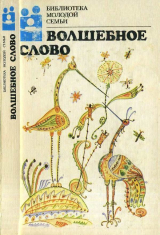
Текст книги "Волшебное слово (Сказки)"
Автор книги: Лев Толстой
Соавторы: Иван Бунин,Николай Лесков,Павел Бажов,Андрей Платонов,Владимир Одоевский,Василий Белов,Владимир Даль,Иван Франко,Борис Шергин,Орест Сомов
Жанр:
Сказки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Александр Вельтман
ПОВЕСТЬ О ЗМЕЕ ГОРЫНЫЧЕ
Емельян Герасимович… не заметил, как вышел в калитку на берег Днепра. Шел-шел по берегу и видит – сидит подле реки дедушко, белый как лунь, и удит рыбу; а подле него стоит болван каменный. Емельян Герасимович подошел к старику и произнес арабский стих, указывая пальцем на болвана.
– Ась? что делаю? – спросил старик, – да золотую рыбку-кудесницу ужу… около уды ходит, а на уду нейдет! а хитрая, хитрая, да я перехитрю ее!
Емельян Герасимович сказал:
– Гм!
– Ась? не слыхать, посадской! говори погромче; были у меня ушки смолоду, бывало, слышу, как трава растет, да пришла смерть за мной; а я и говорю ей: «Погоди, сударыня!» – «Откупись!» – говорит, и взяла за выкуп ушки, да глазок взяла, насилу умолил, чтоб хоть один оставила на время… ась? что изволишь говорить?
– Пьфу! – сказал Емельян Герасимович, осматривая кругом каменного болвана.
– А! это кто? Да это, сударь, дочь моя. Люди говорят: каменная баба, – не верь. Ей-ей, дочка! Причина такая с ней случилась! Давно, ох давно! Еще до татар. Ась? Не слыхал. Рассказать, как было? Изволь.
– Ага! га! га! – сказал Емельян Герасимович, садясь подле старика.
– Изволь слушать. Вон там за рекой Днепром, на берегу, видишь, какая нора? И взглянуть на нее страшно; там свил гнездо Змей Горыныч. По сю пору водятся там дети Горыныча, змеяты сосунки; еще не выросли, только еще жалют да кусают людей, а есть не едят. А Змей Горыныч был такой большой, что как вылезет из норы, так в головах у него, говорят, светлый день, а в хвосте темная ночь; а как сидит в норе, так по извитому хвосту можно сойти в преисподню как по лестнице. А в то время на Днепре, до самого моря, было великое царство, жили мы, славный народ, такой добрый, что никому худого слова не молвил, богу молился, посты соблюдал; приди бывало к нам в гости – вымоем, выхолим, в новое платье оденем, за браный стол усадим, запоим, закормим, да еще и спать на мягких перинах уложим; а женам и дочерям велим мух махать. Жили мы весело и богато, шесть дней на себя, а седьмой богу; да черт натрубил в уши: не давай! Возьми и седьмой на себя! Народ и послушался. Говорил нам один святой человек: «Ей, не делайте того, будете черту служить?» Так и сбылось: откуда ни возьмись Змей Горыныч приполз, захлестнул хвостом все царство и говорит: «Ну, теперь вы мои; у меня вам будет привольно: панщины и барщины у меня не будет, а будете вы платить мне оброк, только по одной красной девице с тягла». Поохал, поохал народ, да и пошел по домам. «Что ж, братцы, думаете, ведь вправду немного, только по одной. Раз в год отдал, да и прав, уж за то не будем ходить на барщину, своя воля». Ну, хорошо; вот и пришло время платить оброк. Собрался мир. «Что ж, братцы, как отдавать-то нам: старшую или младшую дочку посылать к черту, или по жеребью, или которая похуже всех?» Вот, иному жаль старшую, иному младшую, по жеребью страшно, – решили вести в оброк ту, что похуже, да не по сердцу. Ну, хорошо. Вот и я говорю жене: «Поведем Парашу», а жена говорит: «Нет, поведем Пашу». – «Не поведем Пашу, Паша работница, нам помощница!» – «А я не дам Парашу – Параша красавица!» Перебранились, подрались; да чья сила, того и воля. «Будешь делать что велят?» – «Ой, буду, буду!» – «Ну, снаряжай!» Пошла снаряжать дочку, да не Парашеньку. «Ты, – говорит, – мое дитятко, будешь жить в высоком тереме, в палатах господских!» И снарядила как невесту на свадьбу, в красный сарафанчик, на голову шитую бисером плетеную повязочку, да белое покрывало, а в руках платочек шитой золотом. Повели отцы дочерей, матери следом, так и воют; и моя воет, так и разрывается: «Ах ты, мое дитятко ненаглядное, сизая голубушка Парашенька!» Да! Парашенька! как бы не так!.. Привели к реке; за рекой Змей Горыныч из пещеры выглядывает. Поклонились мы в землю, речь заговорили:
– Привели тебе дань, Змей Горыныч, смилуйся, возьми! Счетом, по красной девице с тягла!
Змей Горыныч повысунулся из норы, встрепенулся, взмахнул перепончатыми крыльями и протянул язык мостом через Днепр. Стали отпускать первую девицу; поклонилась она в ноги отцу и матери, расцеловали ее отец и мать, оплакали, благословили; нарядная сваха взвела на язык, сдернула покрывало, расплела косы, запела свадебную песню. Потянулся мостик назад, а девица-то, грешница, потупила очи, разрумянилась, не об отце и матери, не об отческом доме думает, а об молодом муже, да об высоких палатах господских …Вдруг, хам! только ее и было. Верно вкусна была – почавкал, почавкал Змей Горыныч, пооблизался и протянул язык за другой, и другая тоже, и третья, и пятая, и десятая тоже. Пришел черед и моей дочке. Я зарыдал, мать завыла, охватила вокруг шеи и запела прощальную песню.
– Да дай ты ей поклониться в ноги отцу и матери! Отпускайте скорее с благословением! – кричит народ.
– Умру, не отдам мою Парашеньку! – кричит жена.
Взбеленился от нетерпения Змей Горыныч, как хлыснет языком поперек реки, так и рассыпал Днепр словно стекло в мелкие дребезги.
– Давай скорей! – крикнули посаженые отцы, вырвали ее из рук матери, поставили на кончик языка; сваха не успела расплести косы – потянулся язык назад; а она безгрешная была: как задумала, что расстается навеки с отцом, с матерью и с отческим домом; как капнут ее горючие слезы словно кипяток на язык Змея Горыныча, обварили, обожгли; он и рявкнул, замотал языком; а моя дочка как ахнет, да так, как стояла, держа обеими руками платочек, так со страху и окаменела. Змей Горыныч хамкнул было, да зуб не берет; как рявкнет он снова, да плюнет, и переплюнул он ее на другой берег; грохнулась она перед народом. Бросился народ: «Что такое?» И я бросился, смотрю, ан это не Парашенька, а Пашенька; упал на нее, да и облил слезами: «Родная ты моя, милая дочка, холоднее ты камня могильного!.. Погубила тебя родная мать, а не мачеха! Пусть же она смотрит на тебя, да век казнится!» И схватил я ее, понес домой, поставил ее перед крыльцом, чтоб мать век смотрела на нее да казнилась.
Змею Горынычу вместо Пашеньки поставили другую девицу; он и скушал ее со вкусом. Много было грешных красных девушек, а много и безгрешных. Грешные все пошли в утробу чертову, а безгрешные от страха окаменели; а отцы да матери разнесли назад по домам, и поставили как каменных болванов на юрах перед хатами.
Так, года три прошло ладно; отцы и матери попривыкли к горю; народ выставлял подать сполна; да вдруг настал неурожай на красных девушек, нечем платить подати. Пришли было жалиться к Змею Горынычу, а он и знать ничего не хочет: «Поем вас всех до одного», – говорит. Что делать народу: думали-думали, и пошли воровать себе жен, а в дань Змею Горынычу красных девушек. Забыли хлеб пахать, только и думаем, как бы оброк уплатить; нет веселого лица в целом царстве. Народился сын – горе, народилась дочь – другое; да уж все лучше: по крайней мере, есть чем дань платить; а недоимков накопилось много.
– Помилуй нас, Змей Горыныч, сложи недоимки.
– А вот я вам сложу! – сказал Змей Горыныч, – ступайте по домам!
Пошли по домам, – а тут же Змей Горыныч наслал экзекуцию – змеят сосунков. Расползлись по всему царству. Чем накормить их? Куда спать уложить? Молочка не хлебают, на пуховой перине жестко спать – пусти-вишь на ночлег под сердце, да дай крови пососать. Что ж делать? пришло терпеть! Так изсосали народ, что боже упаси!
Вот ехал мимо какой-то витязь в светлой броне, на белом коне. «Что вы пригорюнились?» – спрашивает. «Да вот, вашей милости, так и так!» – «А от чего бы это так?» – «Да прогневили господа бога». – «Не прогневили вы его, а сами от него отреклись; он оставил вас; а на свете жить, кому-нибудь служить: не белому дню, так черной ночи. Сами выбирали – служите черту». – «Ох, кабы кто нас помиловал!» – «Кому вас миловать, когда сами себя невзлюбили и не милуете сами себя». – «Каемся!» – «Кто кается, тот спасается, – сказал витязь. – Ступайте, зовите Змея Горыныча, пусть выходит на чистое поле, на суд божий со мной».
– Как можно! Дай бог вашей милости за доброе сердце радостно день встречать, в мире души провожать! Как можно! Он нас съест!
– В ком боязнь, в том нечистая сила, говорят; изгоните из себя духа тьмы молитвой; молитва союз с богом, союз с светом и с жизнью союз, никто не разорвет его, покуда сам человек не разрознит тела своего с духом.
– Пойдем, братцы! Благослови господи!
Пришли к берегу Днепра. Был полдень. Змей Горыныч в норе своей, уложил голову на лапы, свесил язык на сторону, пыхтит как пес утомленный. Стал народ на берегу, снял шапки, земно поклонился.
– Государь ты наш, Змей Горыныч, удостой, государь, выслушать наше челобитье. Приехал какой-то храбрый витязь во светлой броне на белом коне, лик заря, а очи небо лазоревое.
Змей Горыныч как хамкнет, повело его дугой. Испугался народ, припал на землю.
– Приехал… да и грозится извести… заступись, многомилостивый Змей Горыныч… выйди!.. Вон он на поле…
А Змей Горыныч ни слова; крутился-крутился, примолк и выглядывает украдкой из норы.
– Пожалуй, выйди, Змей Горыныч, на чистое поле!
– Что ж, братцы, он и слышать не хочет! – сказал Ратко.
– Змей Горыныч! Храбрый и младый витязь в светлой броне, на белом коне вызывает тебя на бой!
– Что ж, братцы, замолк, слышать не хочет! – сказал Живко.
– Змей Горыныч! Тебе говорим!.. Зовет на поле на суд божий!
– Молчит!
– Что ж, братцы, ведь мы не шутим, а зовем его; а он и слышать не хочет! – сказал Огнян.
– Дочерей наших поел, а ответа дать не хочет!
– Лихой пес поджал хвост!
– Тс! Что ты это, Немир!
– Что Немир, – а вот что!
И высунул Немир язык, дразнит Змея Горыныча:
– Ты, гадюка! заел у меня две дочки!.. А последнюю… нет, брат… видел?
Разгорячился Немир, схватил камень, да как пустит через Днепр, щелк прямо в бровь Змею Горынычу; ну, будет беда! Дрогнули мы, да бежать.
– Стой, братцы! Снес дурака, снесет и кулака! Вот я ему, да не в бровь, а прямо в глаз! – крикнул Ратко.
Да как свистнет камнем через Днепр и вышиб глаз Змею Горынычу. Рявкнул Змей Горыныч, и ни с места, завернул голову под перепончатое крыло.
Тут все мы поотдохнули, да по камню. Посыпались в него камни:
– Эй ты, полосатая чушка!.. Струсил!
Молчит, ни гугу.
– Что, ваше благородие, господин витязь, не вызовем на поле Змея Горыныча! Как прикажете?
– Выводите нечистую силу из гнезда на чистую воду как знаете, а мое дело выжить его с белого света, – дал ответ витязь в светлой броне, на белом коне.
– Так пойдемте, братцы, – сказал народ.
– Постойте, братцы, – сказал Славой, – его просто не выживешь: надо его выкурить, пойдем за священным чином.
А священный чин разошелся от грешного народа по пустыням и жил келейно. Умолил народ отшельников идти с ним, выкуривать Змея Горыныча. Вот и пошли все чином, кто с дубиной, а кто с кадилом, пришли на Днепр, наметали плоты, переправились. Как послышал Змей Горыныч ладон, как рявкнет, поднялся на дыбы, распахнул крылья, разинул пасть, расправил когти и потянулся на воду, на народ. Как пахнут на него ладоном, так и взмело Змея Горыныча с места, скакнул он на чистое поле, хотел лететь, а витязь расскакался, смял его под коня и пригвоздил копьем к земле. Заревел Змей Горыныч, взмутил воздух, взмел песок вихрем, поднялась страшная гроза, завились вокруг черной тучи огненные змеи, перекатился гром с конца в конец. Народ в страхе бежит домой, запирается по домам, припали все лицом к земле, молимся богу, думаем, настало светопреставленье. Вдруг гром рассыпался и все стихло, словно душа отошла. Лежим – словно умерли, никто не дохнет, сердце не колыхнется… Господи боже, чудится или нет: вот, словно певень крикнул?.. Чу, зачирикал воробей… Чу, жаворонок вспел песню… Сердце что-то радостно колотит… Глядь, а на дворе ясный день, солнце играет на небе, благовейный ветер шелестит по листьям, – так весело на душе; кажись бы, нет никакой еще радости, а сердце не нарадуется. Сошелся народ, все здравствуются, обнимаются друг с другом. «Что, батюшка, как вы?» – «Славу богу». – «Славу богу, лучше всего». И побежали все на Днепр.
– Да что ж это такое с нами было? Где Змей Горыныч? Где храбрый витязь? Ужели все это был сон?
– А дай бог, чтоб и сон был в науку, – сказал один старец-отшельник, – у божьего стада сама совесть пастырь; изведете совесть, погубите душу; а душа-то, братцы, наш дружок сердечный; расставаться с другом, расставаться с жизнью!
Вот что; и вы изгубили-было своего друга-хранителя, да шатались мертвецами по белому свету; холодом и могилой несло от вас. Ни ложь, ни ночь не приодели вас, благоуханья не умастили, вино не согрело. Высоко поднимались на хитрость, да низко падали. Только у души, братцы, неподдельные, ангельские крылья, она лишь летает по вольной воле, и не роняет кровного друга с вершины к подножью. Много было у вас красных девиц, родных дочерей, да много ли впрок пошло – доброму молодцу в жену, а малому детищу в мать? Всех поел Змей Горыныч, да только вам косточки на похороны повыклевал. Безгрешные только спаслись, – обратились в камень – берегите в память!
Народ слушал старца, да и сотворил слезную молитву. И стали мы жить мирно, радушно, шесть дней на себя, а седьмой господу богу. Колено шло за коленом. Все каменные девицы… вот и дочка моя… сначала были как живые, только что румянец не играл на щеках; а и они избавились от смерти, да не избавились от старости, сморщились, почернели, а худеть не худеют. Стоят и теперь по полям на горах, где жили отцы. Глупый народ зовет их теперь бабами; да какие ж они бабы, сроду они бабами не были, они неповинные красные девицы. Глупый народ теперь мостит мосты ими, да кругом двора вместо тыну их ставит. А я не даю своей дочки. Нет, ни за что не отдам! Изловлю золотую рыбку, так она мне ее живой сотворит. Вот что!.. Тс! молчи, молчи! вот идет к уде! Не замай! Ах ты акаянная! Сдернула червячка!.. Ступай, брат, посадской, прочь отсюда! Сделай божескую милость, ступай! Не мешай мне изловить ее!
– Ну, ну, ну! – проговорил Емельян Герасимович, отходя от старика.
Владимир Одоевский
НЕОБОЙДЕННЫЙ ДОМ
Древнее сказание о калике перехожей и о некоем старце
Посв. В. А. Жуковскому
Давным-давно, в те годы, которых и деды не запомнят, на заре ранней, утренней шла путем-дорогою калика перехожая; спешила она в Заринский монастырь на богомолье, родителей помянуть, чудотворным иконам поклониться. Недолог был путь – всего-то верст десять, да старушка-то уж не та, что бывало в молодые лета; идет-идет да приостановится: то дух занимает, то колени подгибаются. Вот слышит она, в монастыре звонят уж к заутрене. «Ахти, – сказала она, – замешкалась я, окаянная; не поспеть мне к заутрене, хоть бы бог привел часов-то не пропустить». Смотрит – а к лесу идет тропинка прямо на монастырь. «Постой-ка, – подумала старушка, – дай бог память; я, кажись, в молодые лета по той по тропинке хаживала, ведь ею вдвое ближе, чем обходом идти». И старушка своротила в лес на хожалую тропинку. Так и обдало нашу калику смолистым запахом сосен, и силы ее подкрепилися.
Красное солнышко на восходе играет по прогалинам, птицы очнулись и кормят детенышей, медвяная роса каплет с ветвей; старушка идет да идет; благовест ближе да ближе, а лес все гуще да гуще. Идет она час, идет и другой, а все не видать конца леса; вот и благовест перестал, и тени от деревьев сделались короче – а все не может старушка выйти из леса; оглядывается: спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная; ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого, а у старушки уже ноги едва двигаются и в горле пересохло; жажда томит, в глазах темнеет; но все идет она едва шаг за шагом переступает; вдруг пахнуло на нее живым дымом, а вот невдалеке и лес проредел; старушка перекрестилась, закусила стебелек щавеля, и с того у калики словно силы прибавилось. Прошла с десяток шагов – перед нею поляна; посреди поляны дубовый дом с закрытыми ставнями, тесовы ворота на запоре – и не видать ни души христианской; у ворот скамеечка; калика присела и пригорюнилась. Вот залаяла в подворотне цепная собака, калитка отворилась, и вышел малой лет пятнадцати, подстрижен в кружок, в красной рубахе, ремнем подпоясан; он искоса посмотрел на старуху, отряхнул волоса, подпер боки руками и молвил:
– А кого тебе здесь надобно, старушонка?
– Ах, родимый; никого мне на надобно; шла я на богомолье в монастырь да заблудилась и из сил выбилась; не дай умереть без покаяния, дай водицы испить.
Молодой малый поглядел в раздумье на старуху, еще раз встряхнул головою, вошел в калитку и чрез минуту возвратился; в одной руке нес он ковш с ячным квасом[56]56
Ячный квас – ячменный.
[Закрыть], в другой – краюху свежего хлеба с бузою[57]57
Буза – каменная соль.
[Закрыть].
Старушка кваску прихлебнула, хлебцем закусила и стала как встрепанная. «Спасибо тебе, добрый человек, – сказала она, – душеньку отвел. Бог тебя наградит, что старуху призрел»…
– Ты, однако же, не долго здесь калякай, – промолвил малой в красной рубахе. – Отдохнула и ступай своею дорогою; а то неравно хозяева наедут – несдобровать тебе, старушонка.
– Да кто же они такие, родимой?
– Да у нас здесь, бабушка, – отвечал малой улыбаючись, – веселы люди живут; зелено вино пьют, в зернь[58]58
Зернь – игра в кости или хлебные зерна.
[Закрыть] играют, красных девок цалуют, людей режут.
– Ах, родимый, родимый! Никола тебе навстречу – как же ты с такими людьми живешь?
– Э, бабушка, не твое дело. Ступай отсюда, пока жива; говорят тебе, наедут сюда хозяева, увидят, что чужие очи наш притон обозрили, – не спустят тебе. И я-то уж так сжалился над тобою оттого, что покойницу бабушку напомнила, которая, бывало, меня молодого на руках носила да пряником кормила… Ну, ступай же… вот этой тропинкой прямо уткнешься на монастырь.
– Иду, иду, родимый, кто бы ты ни был, спасибо тебе… награди тебя бог, вразуми тебя господь.
И опять пошла старушка путем-дорогою, идет час, идет и другой. «Не поспела к заутрене, – думает, – не поспею и к ранней обедне: авось-либо бог приведет хоть у поздней помолиться».
Вот и солнце поднялось выше, роса обсохла, по лесу подымается душистый пар донника и божьей зари, рой мошек жужжит и кружится по прогалинам. А старушка идет да идет. Благовест все ближе да ближе, а лес все гуще и гуще.
Идет она час, идет и другой; уже почти нет теней от деревьев, и нет конца леса. Оглядывается: спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная; ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. А старушка идет да идет, – вот впереди прояснилось, и лес проредел. «Слава богу, – думает, – насилу дотащилась!» Собрала последние силы… смотрит, – а пред ней опять та же поляна, а на поляне тот же дубовый дом с закрытыми ставнями, тесовы ворота на запоре – и не видать ни души христианской.
– Ах я, окаянная, опять заблудилась, опять к тому же месту пришла.
Делать нечего; старушка присела в тени и пригорюнилась; цепная собака залаяла в подворотне; калитка отворилась, и вышел парень лет тридцати пяти, в красной рубахе, ремнем подпоясан.
– А, здорово, старушонка, подобру ли, поздорову поживаешь; сколько лет, сколько зим с тобой не видались, а все я тебя тотчас узнал, ты ни на волос не переменилась… как была, так и есть!
– Не запомню, родимый, Никола тебе навстречу; а, кажись, я тебя сроду не видывала.
– Эх, старушка, ты, верно, уж из памяти начала выживать; помнишь, лет двадцать тому назад, ты к заутрене шла да заблудилась, а я еще тебя хлебом кормил да дорогу тебе показывал; я как теперь на тебя смотрю.
– Что ты, родимой, Никола тебе навстречу; была я здесь, знаю, выходил ко мне малой лет пятнадцати и, спасибо ему, хлебом накормил.
– Да то ведь я-то и был, старушонка.
– И, что ты, родимой! это было сегодня поутру, и выходил ко мне малый лет пятнадцати, а ты, бог тебя помилуй, уже на возрасте.
– И, старушка, ты уж из ума начала выживать: какое поутру, говорят тебе, уж лет двадцать тому ты сюда приходила, вот на этой скамеечке сидела: помнишь?
– Как не помнить, родимой, только, вишь ты, было это сегодня поутру, а дотолева здесь я никогда не бывала.
– Ну, я вижу, с тобой до бела света не сговоришь, совсем из памяти выжила… Посмотрю я на тебя, измучилась ты, старушонка, пот с тебя так градом и катит, дай вынесу тебе рушник обтереться.
Так промолвил парень в красной рубахе, вошел в калитку и скоро возвратился оттуда с полотенцем, вышитым красною белью.
Едва старушка взяла его в руки, как вскрикнула:
– А откуда, родимой, у тебя это полотенце?
– Откуда бы ни было, – отвечал парень сердито, – знай утирайся.
– Да ведь это полотенце-то я шила сынишке на дорогу.
– Сынишке, – повторил парень. – А какой он из себя был?
– Ах, мой сынишка славный малой… да разве ты знаешь его?
– Говорят тебе: каков он из себя был?
– Малой лет пятнадцати, светлорусый, волосы в кудряшках, в синем зипуне, в поярковой шляпе[59]59
Поярковая шляпа – сделанная из шерсти ярки (овцы по первой осенней стрижке).
[Закрыть].
– Светлорусый, волосы в кудряшках? – повторил мрачно парень в красной рубахе. – Ну, жаль, старуха, что не знал.
– Да что ж с ним сталось, родимый? – сказала старушка, испугавшись.
– Да так, ничего, – отвечал парень. – Запиши его в поминанье… его в живых больше нет.
Наша калика перехожая так и ударилась об землю и зарыдала.
– Ну, полно рюмиться-то, мертвого не воротишь.
Старушка очнулась.
– Как же ты знаешь, родимой, что его в живых не стало, полно, правда ли это?
– Еще правда ли? Еще знаешь ли? Вольно тебе было его на святость воспитать: заманили мы его сюда; видим, малой славной, думали, будет из него путь; говорим ему: будь нашего сукна епанча[60]60
Епанча – широкий плащ без рукавов.
[Закрыть], а он руками и ногами, заартачился…
– Ну, так что ж, батюшка?
– Ну, что ж? Вестимо дело, карачун[61]61
Карачун – конец, смерть.
[Закрыть] ему дали, да и пустили на Волгу окуней ловить.
Старушка снова зарыдала.
– Скажи, родимой, хоть с покаянием ли он богу душу отдал?
– Ну, вестимо нам было к нему не попа приводить, а молиться-то он молился, сердечной. Ну да полно рюмить, убирайся отсюда, не то наши наедут, и тебе то же будет, что и сынишке твоему.
– Божья воля, отец мой; покажи только дорогу, куда до пустыни дойти; сына помянуть, за тебя богу помолиться.
– За меня? Полно обманывать, я чай, проклинать меня будешь.
– Нет, родимый! что проклинать! Буду молиться о спасении грешной души твоей.
Парень задумался.
– Странна ты, старуха, – сказал он после некоторого молчания. – Сколько я душ погубил, молодых и старых, всякого пола и возраста, и рука не дрогнула, а вот каждое твое слово как ножом душу режет, и рука на тебя не поднимается… ну, убирайся отсюда, пока не осерчал, ступай этой тропинкой, так прямо и уткнешься на монастырь.
И старушка опять идет путем-дорогою, рукавом слезинки отирает.
– Наказал меня бог, – говорит, – не поспела, окаянная, ни к заутрене, ни к обедне, авось-либо бог приведет за вечерней помолиться.
Вот идет она, идет час, идет и другой; а в полях стада убрались, посередь леса птицы прикорнули, выходила туча грозовая со частым дождичком; и опять все очнулось; стада голос дали, птицы вспорхнули; вот послышался в пустыни и благовест к вечерне. Благовест все ближе да ближе, а лес все гуще да гуще.
Идет старушка час, идет и другой; вот и благовест перестал, солнце ниже спустилось, и далеко, далеко потянулася тень от деревьев, – а все не видать конца лесу. Оглядывается калика: спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная; ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. А калика идет да идет – вот впереди прояснилось, и лес проредел. «Слава богу, – говорит калика перехожая, – насилу-то дотащилась!» Собрала последние силы, смотрит – перед ней опять та же поляна, а на поляне тот же дубовый дом с закрытыми ставнями; тесовы ворота на запоре и не видать ни души христианской.
– Ах, прости господи, – сказала старушка, – опять я на то же место пришла, окаянная, а уж и сил нет больше идти; не попускает бог до пустыни дойти; буди твоя святая воля.
Старушка села под дерево и пригорюнилась.
Собака залаяла в подворотню, калитка отворилась, выходит старик лет шестидесяти, седой как лунь, на клюку опирается.
– А, старушонка, – сказал он, – подобру ли, поздорову ли ты живешь? сколько лет, сколько зим с тобой не видались. Да ты, видно, века не изживешь: какая была, так и есть, нисколько не переменилась; а ведь мы лет двадцать с тобой не видались.
– Кажись, я тебя, родимый, сроду не видывала, – отвечала старуха. – Была я здесь, и не один раз, да только сегодня поутру, да в полдень; выходил ко мне парень в красной рубахе и сказал мне горькую весточку.
– Да это я самый и был; помнишь, рушник тебе подавал; только будет тому лет десятка два и более; правда, я с той поры много переменился; кажись, и не стар я летами, а уж куда похирел; буйная молодецкая жизнь загубила; да как же ты-то нисколько не переменилась, вот как теперь на тебя смотрю?
– Ну уж я и ума не приложу, родимой; из памяти, что ли, я в самом деле выжила; знаю только то, что была я здесь поутру, а тебя сроду не видывала.
– Подлинно так, – сказал старик, – и я ничего не понимаю; что-то тут чудное деется; вот уж двадцать лет тому ты мне то же говорила; много с той поры воды утекло, много грехов я на душу свою положил! Однако нечего здесь долго толковать; наши наедут, несдобровать тебе, убирайся отсюда, покуда жива.
– Нет, родимой, уж как хочешь, не пойду я отсюда, ноги не держут.
– Что ты, неразумная; да ведь наедут товарищи – убьют тебя.
– Да будет воля божия.
– Что ж ты, небось, смерти не боишься?
– Да чего ж ее бояться? Придет час и воля божия.
– Так ты смерти не боишься, – повторил старик и задумался. – Ну, – прибавил он помолчавши, – я так смерти боюсь.
– Молись богу, родимый, Никола тебе навстречу, – так и не будешь смерти бояться.
– Мне молиться? Да неужели бог услышит мою молитву?
– Вестимо, что услышит, когда помолишься с покаянием.
– Да ты знаешь ли, старушонка, с кем ты говоришь; если б ты знала да ведала – сколько я душ погубил неповинных; нет беззакония, которого бы я не сделал; нет греха, в котором бы не окунулся, – и ты думаешь, что меня бог помилует?..
– Покайся, бог помилует.
– Поздно, старушка! уж и сна у меня нет, только заведу глаза, как и вижу – ко мне тянутся кровавые руки; вижу, как теперь тебя вижу, посинелые лица, помертвелые очи; а в ушах-то и крик, и визг, и стон, и проклятия; мне ли молиться, старушка! У господа столько и милости недостанет.
– Молись, говорю тебе, у бога милости много, и не перечесть, родимый.
Старик задумался.
– Знаешь ли, что тебе скажу? – проговорил он. – Скажу тебе правду истинну: я часто о тебе вспоминал; приходили мне на память твои речи; помнишь, как ты о младом обо мне молилась, чтобы бог вразумил меня; помнишь, как обещала молиться, когда я сына твоего убил; я ничего не запамятовал, и все мне хотелось потолковать с тобой о душе моей; ах, черна она, родимая, как смоль черная, и горюча она, как кровь теплая; ну, слушай – здесь тебе сидеть не годится, наедут, увидят; пойдем в избу, там я тебе найду укромное место.
Он подал руку старушке, она оперлась на его клюку и потащилась в, дом; в сенях старик приподнял половицу.
– Ступай вниз, – сказал он, – да держись за веревку, не то споткнешься.
Старушка сошла в подполицу, темную, темную; свет проходил только сверху в отдушины; по стенам стояли ларцы, сундуки, скрынки, баулы разного рода, всякая посуда; по стенам развешаны ножи, ружья и всякого платья несметное множество.
– Это наша кладовая, – сказал старик, – недаром она нам досталась.
Старушка творила молитву и шла далее. Прошла одну горницу, другую, третью: видит, все по порядку: в одной скарб домашний, в другой мужское платье, в третьей женское, камни самоцветные, жемчуг, серьги и ожерелья.
– Душно здесь что-то, дедушка, – сказала она.
– И мне душно, – вскричал старик. – Как подумаешь да погадаешь, что под этими платьями все были живые люди и что ни один из них своею смертью не умер, то так мороз по жилам и пробегает; все кажется, что под платьями люди шевелятся; ну да нечего делать, прошлого не воротить; садись-ка вон там в уголку на сундук; там из одушины ветерок подувает.
Старушка села, едва переводя дыхание; смотрит – над головою у ней платье камковое цареградское, сарафаны золотые, парчовые и под ними, прямо против ее глаз, жемчужные, янтарные ожерелья, монисты, а между ними на бисерной нитке крест с ладонкою.
Старушка невзвидела света, схватилась за ладонку и горько заплакала.
– Скажи, дедушка, не обманывай, откуда ты взял это ожерелье?
– А что оно, знакомо тебе, что ли? – спросил старик, задрожав.
– Как не знакомо, – сказала старушка, – это ожерелье моего ненаглядного сокровища, моей дочери.
Старик повалился ей в ноги.
– Ах, мать родная, – завопил он, – кляни меня, – нету в живых твоей дочери; не пожалел я ее красы девической; замучил я ее вот этой рукою; билась она, сердечная, как горлица; молила меня, чтоб позволил ей хоть перекреститься, – и до того я ее не допустил.
Старушка пуще заплакала.
– Ну, отпусти тебе бог, – сказала она, – много греха ты принял на свою душу.
– Где богу мне отпустить, – вопил старик в забытьи, – нету прощения грехам моим; нет мне спасения ни в сем, ни в будущем мире.
– Не бери еще нового греха на свою душу, родимый, – не мертви души отчаянием: уныние – первый грех, покайся да молись, у бога милости много!
– Что ты говоришь, мать родная, – вопил старик, – где богу простить меня – да ведь и ты не простишь меня…
– Нет, не говори этого, родимой, Никола тебе навстречу, – как не простить; много ты согрешил, последнее мое утешение отнял, – но да простит тебе бог, как я тебя прощаю… только покайся…
– И в молитвах помянешь грешного раба Федора?..
– И в молитвах помяну…
Старик пуще зарыдал.
– Нет, мать родная, уж не покину я тебя теперь, – жутко мне здесь оставаться; веди меня куда хочешь, где бы я мог тебе на свободе всю душу раскрыть, все грехи мои исповедать, наказанье принять.
– Не мое то дело, родимый; а если бог твою мысль просветил, то иди в пустынь, спроси настоятеля, он тебе укажет, что делать.
Они вышли из дома, солнце заходило, легкий ветерок повевал с востока; в пустыни слышался благовест ко всенощной. Не долго шли старик со старухой – пустынь была в полверсте, не больше, – и дорога из леса шла к ней прямая.
Божий храм сиял во всем благолепии; тысячи свеч блистали у золоченых икон; невидимый хор тихо пел славу божию; дым из кадильниц подымался ввысь светлым облаком; на паперти, в притворе стояла толпа народа; едва старушка могла пробраться в церковь. В толпе кто-то сказал ей на ухо: «Помолися о грешном рабе Федоре». Старушка перекрестилась, стала к сторонке и горячо молилась сперва о грешном рабе Федоре, потом и об убиенных им, а потом и о себе грешной, – молилася не без слез, но с верою и надеждой.
Всенощная отошла; миряне стали подходить к иконам; и старушка поднялась с места. Смотрит – перед нею идет светлорусый мужчина с виду лет пятидесяти, здоровый и свежий; за ним, видно, жена его и дети уже на возрасте; а за этою семьею – другая, женщина лет пятидесяти, с нею муж и также дети на возрасте. Сердце забилось у старушки – вспомнила она про детей. «Теперь и они были б такие»; утерла слезу рукавом, перекрестилась и пошла также к иконам прикладываться. Приложилась – вышла на паперть, – смотрит, а за нею идут обе семьи и пристально на нее смотрят; старушка обернулась – лампадою от иконы осветилось лицо ее. Светлорусый мужчина подошел к старушке, поклонился и начал было: «позволь тебя спросить, бабушка…» – да как заплачет, да как кинется ей в ноги: «Ты ли это, наша мать родная? где ты была, куда пропадала? мы уж тебя и в живых не чаяли?»








