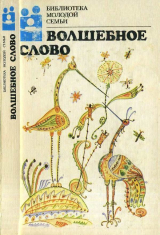
Текст книги "Волшебное слово (Сказки)"
Автор книги: Лев Толстой
Соавторы: Иван Бунин,Николай Лесков,Павел Бажов,Андрей Платонов,Владимир Одоевский,Василий Белов,Владимир Даль,Иван Франко,Борис Шергин,Орест Сомов
Жанр:
Сказки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО
Сказки

«ЭТО ЧТО ЗА НЕВИДАЛЬ…»
«Пушкин окончил свою сказку! Боже мой, что-то будет далее? Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии, огромные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены, и купол, на славу векам».
Эти строки из письма Н. В. Гоголя к В. А. Жуковскому датированы 10 сентября 1831 года, а 15 сентября в газетах появилось объявление о выходе в свет первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки». А создавались «Вечера» в то же лето 1831 года и в том же самом Царском Селе, где молодой, двадцатидвухлетний Гоголь оказался рядом с Пушкиным и Жуковским («Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я», – сообщал он другу) и где – одновременно, все трое – создавали свои сказки. Пушкин – «Сказку о царе Салтане», Жуковский – «Сказку о царе Берендее» (а в ее основе, как известно, пушкинская фольклорная запись), а Гоголь – «невидали» украинского пасичника Рудого Панько, которые тоже воспринимались современниками как сказки («На сих днях вышли Вечера на хуторе – Малороссийские народные сказки», – писал 23 сентября 1831 года Владимир Одоевский).
Среди «зодчих» этого «огромного здания» нужно назвать имена не только Пушкина, Жуковского и Гоголя, но и Ореста Сомова, Владимира Даля, Николая Языкова, Владимира Одоевского, Александра Вельтмана, Петра Ершова, стоявших у истоков создания нового жанра литературной сказки. Произошло это в самом начале 30-х годов, когда были созданы все шесть сказок Пушкина, три сказки Жуковского, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, «Малороссийские были и небылицы» Ореста Сомова, «Были и небылицы казака Луганского» (Владимира Даля), «Сказка о петухе и диком вепре» и «Жар-Птица» Николая Языкова, «Пестрые сказки» Владимира Одоевского, романы-сказки Александра Вельтмана, «Конек-Горбунок» Петра Ершова.
Все эти произведения вышли до 1835 года, когда в Копенгагене появились первый и второй выпуски «Сказок, рассказанных детям» Ханса Кристиана Андерсена.
И это не случайное совпадение, а общая закономерность развития всех национальных литератур, в каждой из которых рано или поздно появлялись свои «короли сказок». Во Франции еще в XVII веке – Шарль Перро, в Германии – братья Гримм, в Дании – Андерсен, в Норвегии – Асбьёрнсен, в Англии – Льюис Кэрролл, на Украине – Марко Вовчок, в Армении – Газарос Агаян и Ованес Туманян, в Молдавии – Ион Крянгэ, в Латвии – Карлис Скалбе и Анна Саксе, в Литве – Пятрас Цвирка. Русская литература в этом отношении не исключение, а правило. Как и все мировые литературы, она обретала национальные формы через фольклор, через обращение писателей к народному творчеству. Когда Пушкин писал в 1826 году: «С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы…», он имел в виду идеи, волновавшие в равной степени и Вальтера Скотта, первым собравшего и издавшего шотландские народные песни, и Рылеева, А. А. Бестужева, Кюхельбекера, и американского критика Джеймса Полдинга, начавшего в 1827 году дискуссию о национальном театре Нового Света. В 1841 году Белинский уже называл народность «альфой и омегой» (началом и концом) эстетики нового времени. Этот путь в народности во всех литературах начинался с народного творчества – с его собирания, издания, а затем и воплощения в литературе, с появления нового жанра литературной сказки.
Обычно, говоря о литературной сказке, мы имеем в виду только детские, наиболее известные, ставшие несомненной классикой литературы для детей. Но «Девочка Снегурочка» Владимира Даля, «Мороз Иванович» Владимира Одоевского, «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова, равно как детские сказки К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, А. М. Горького, А. Н. Толстого, – только часть того явления, которое называется литературной сказкой.
В данном случае речь пойдет о литературной сказке, связанной с фольклорными традициями. А потому в сборник не вошли многие известные авторские сказки (Мамина-Сибиряка, Паустовского, Бианки), зато в нем представлены неизвестные, незаслуженно забытые или же «отлученные» от жанра литературной сказки, восстанавливающие общую картину развития этого жанра от Гоголя, Ореста Сомова и Владимира Даля до наших дней.
С Пушкина и Жуковского начинаются традиции поэтических сказок, с Гоголя – прозаических. Перефразируя известное выражение Ф. М. Достоевского, вполне можно сказать, что русская литература вышла не только из «Шинели» Гоголя, но из его же «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Хотя как у Гоголя, так и у Пушкина, Жуковского, конечно же, были предшественники (в XVIII веке – Василий Левшин, Михаил Чулков). Выраженные ими идеи носились в воздухе. И в то самое время, когда в 1829 году молодой Гоголь еще только просил у матери «расспросить старожилов», сообщить ему «все возможные поверья и обычаи», эти украинские поверья и обычаи уже появились в свет в «Русалке» и «Оборотне» Ореста Сомова. А почти одновременно с «Былями и небылицами» Порфирия Байского (под таким псевдонимом выступил в печати Орест Сомов) и всякой «невидалью», которую «швырнул в свет какой-то пасичник» Рудый Панько, стали выходить «Были и небылицы казака Луганского» (Владимира Даля).
Более пятидесяти лет отдал Владимир Иванович Даль созданию свода «Пословиц русского народа» и «Толкового словаря» – выдающихся памятников народной языковой культуры, но в 30-е годы современники Пушкина и Гоголя знали не лексикографа и языковеда Владимира Даля, а сказочника казака Луганского. «Твоя от твоих! Сказочнику казаку Луганскому – сказочник Александр Пушкин» – с такой дарственной надписью Пушкин вручил Владимиру Далю свою «Сказку о рыбаке и рыбке».
В воспоминаниях Владимира Даля сохранились слова поэта: «Сказка сказкой, а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать – надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке… Да нет, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!»
Выучиться говорить по-русски, добиться такого же русского раздолья, как в сказке, – подобные задачи еще только ставились в литературе Пушкиным и Гоголем.
Народный язык – вот главное, что выделяет в сказке и Владимир Даль. «Не сказки сами по себе были мне нужны, – говорил он, как бы отвечая Пушкину, – а русское слово, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя было показаться в люди без особого предлога и повода – сказка послужила поводом. Я задал себе задачу познакомить земляков своих сколько-нибудь с народным языком и говором, которому открывается такой вольный простор и широкий разгул в народной сказке».
Насколько удалось Владимиру Далю выполнить эту задачу, лучше всего судить по отзывам современников. Например, Н. В. Гоголя, признававшегося: «Каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигает ближе к познанию русского быта и нашей народной жизни». О необыкновенном впечатлении, которое произвели на современников сказки казака Луганского, писал И. С. Тургенев: «Они обратили на себя всеобщее внимание читателей русским складом ума и речи, изумительным богатством чисто русских поговорок и оборотов».
Стоит только добавить, что эти сказки казака Луганского нельзя отделять от научных трудов Владимира, Даля. Сказки во многом предваряют и «Пословицы русского народа» и «Толковый словарь», в которых языковые сокровища народа собраны воедино, систематизированы, а здесь же, в сказках, они представлены в живой, естественной среде своего бытования. Владимир Даль применил в сказках принцип, который позднее ляжет в основу «Пословиц русского народа», расположенных не в обычном азбучном порядке («Этот способ, – отмечал Даль, – самый отчаянный, придуманный потому, что не за что более ухватиться»), а по смысловому значению. В «Былях и небылицах казака Луганского» пословицы и поговорки расположены тоже по смыслу, более того, Владимир Даль намеренно сталкивает внутренние противоречия пословиц, выявляя тем самым диалектическую сложность, неоднозначность народного миросозерцания.
На смысловых противоречиях пословиц и поговорок основана «Сказка о нужде, о счастии и о правде», а в «Сказке о кладах» приводятся едва ли не все пословицы, поговорки, присловья и поверья о кладах и кладоискателях. Эту сказку Владимира Даля интересно сравнить с «Заколдованным местом», завершающим вторую часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Повесть Гоголя тоже основана на народных легендах и сказках о заколдованных, «обморочных» местах.
Правда, иной раз может показаться, что Владимир Даль слишком уж перенасыщает свои сказки пословицами и поговорками, не соблюдает некой меры, а потому сказки его выглядят несколько искусственными. Но это не так. Прочитайте подлинные фольклорные записи выдающегося сказочника прошлого века Абрама Новопольцева, и вы убедитесь, что Владимир Даль воссоздавал именно реальный образ народного сказочника-балагура, скомороха. Да и самая обыденная, бытовая речь народа бывает точно так же унизана пословицами и поговорками. Вот, например, документальная запись разговора знаменитой «народной поэтессы» Ирины Федосовой со своим мужем. «Интересно, – отмечает собиратель Е. В. Барсов, – когда она ласкает своего мужа, но еще интереснее, когда она начинает бранить его: благоверный ее любит выпить: „Волыглаз (большеглазый) ты эдакой! Спородила меня мама, да не приняла яма. И черт меня понес за тебя. Почет ли в тебе, прибыль ли в тебе, разум ли в тебе? Живешь доле, греха боле. Яков! Помни, каков ты! Умрет пьяница, тридцать лет дух не выходит; не тихо мерная милостыня, не земные поклоны, ничто ему не помогает: пьянство души потопление, семейству разорение. Смотри, Яков, что гренешь, то и хлебнешь. Полно шавить (баловать): на огонь да на пропой казны не наполнишь. Нет, уж видно, с пьяным, с упрямым пива не сваришь, а сваришь, так не выпьешь: лапой гладит, а другой в щеку ладит; нет разума под кожей, не будет на коже. Вот уж торговала я в лавочке, да вышла с палочкой; за добрым мужем, как за городом, за худым мужем и огородбища нет; есть за кем реке брести да мешок нести. Из чину в чин, а домой ни с чим“».
Это, повторяю, запись самого обыкновенного бытового разговора, более того – семейной ругани. Сказочники же были подлинными художниками слова, их мастерство как раз и заключалось в том, что они не просто пересказывали известные сказочные сюжеты, а каждый раз создавали новые необыкновенные узоры, плели словесную вязь.
Сказки казака Луганского внесли в русскую литературу новый стилевой прием, с них начинается так называемая сказовая проза, которая в дальнейшем найдет блестящее воплощение в сказах Н. С. Лескова и П. П. Бажова. Владимир Даль был первым, кто привнес в литературу эту живую стихию народного языка, его «русское раздолье».
Такого рода демократизация языка неизменно влекла за собой демократизацию самой литературы – в ней появились новые фольклорные темы, сюжеты, образы героев. Немалой популярностью пользовались у читателей всевозможные переводные и отечественные «романы ужасов», среди которых был, например, «Вампир», приписываемый Байрону (он вышел в 1828 году в Москве в переводе и с комментариями П. В. Киреевского), «Искуситель» Загоскина, «Черная женщина» Греча и другие произведения так называемой «неистовой» школы европейского и русского романтизма, широко использовавшей фантастику и демонологию народных сказок, поверий, легенд. В «Русалке», «Женихе» Пушкина, в «Страшной мести» Гоголя, в «Оборотне» и «Сказке о Никите Вдовиниче» Ореста Сомова, в «Аленьком цветочке» С. Т. Аксакова нетрудно узнать черты народных «страшилок».
Литература «ужасов» довольно быстро насытила воображение. Гораздо серьезнее оказалось обращение к народной сатире. Сказки писателей приобретали порой столь острое социальное звучание, что публикация их становилась небезопасной для автора. Так произошло в 1832 году с «пятком первым» сказок казака Луганского, запрещенных и изъятых цензурой. Последовал высочайший указ «арестовать сочинителя и взять его бумаги для рассмотрения». И Владимир Даль был арестован, его рукописи изъяты «для рассмотрения».
Впрочем, многие сказки, в том числе пушкинская «Сказка о попе и о работнике его Балде», так и не опубликованная при жизни поэта, казались недопустимыми, кощунственными не только власть имущим, но и литературным эстетам, охранявшим устои «изящной» словесности. «Признаюсь откровенно, – писал в 1834 году о Владимире Дале и Александре Вельтмане О. Сеньковский (он же – Барон Брамбеус), – я не признаю изящности этой кабачной литературы, на которую наши Вальтер-Скотты так падки… Нет сомнения, что можно иногда вводить в повесть просторечие; но всему мерою должны быть разборчивый вкус и верное чувство изящного: а в этом грубом, сыромятном каляканье я не вижу даже искусства!»
Но ни Владимир Даль, ни Александр Вельтман не прислушались к советам одного из самых влиятельных литературных магнатов своего времени, они упорно продолжали вводить в свои произведения «сыромятное каляканье». В сказках-романах Александра Вельтмана «Кощей бессмертный. Былина старого времени» (1833), «Светославич, вражий питомец. Диво времен Красного Солнца Владимира» (1835) причудливо переплетались литературные и внелитературные стили, историческая действительность – с фантастикой, сказочные герои – с реальными. Александр Вельтман тоже пытался «выучиться говорить по-русски и не в сказке», расширить жанровые и стилевые возможности литературы.
Пройдут десятилетия, и те же самые «вечные» проблемы будет заново решать Лев Толстой. Уже создав «Войну и мир» и «Анну Каренину», великий писатель придет к отрицанию литературного языка. «К другому языку и приемам (он же и случился народным) влекут мечты невольные», – признается он. Н. Н. Страхов сообщит в письме к Н. Я. Данилевскому от 23 сентября 1879 года о «занятиях» Толстого в этот период духовного кризиса и исканий: «Однажды он повел меня и показал, что он делает между прочим. Он выходит на шоссе (четверть версты от дома) и сейчас же находит в нем богомолок и богомольцев. С ними начинаются разговоры и, если попадаются хорошие экземпляры и сам он в духе, он выслушивает удивительные рассказы». А заканчивается это письмо знаменательными словами: «Он стал удивительно чувствовать красоту народного языка и каждый день делает открытия новых слов и оборотов, каждый день все больше бранит наш литературный язык, называя его не русским, а испанским. Все это, уверен, даст богатые плоды».
В Записных книжках Толстого 1879 года – десятки, сотни услышанных им слов, фраз, «языковых заготовок», которые войдут потом в его произведения. Есть среди них и такая запись: «Олонецкой губернии былинщик. Пел былину Иван Грозного…» Речь идет о первом знакомстве Толстого с олонецким сказителем Василием Петровичем Щеголенком, которое произошло 5 апреля 1879 года в Москве у собирателя Е. В. Барсова. Позднее Барсов расскажет об этой встрече писателя с народным сказителем: «Просидел тогда Толстой у меня до поздней ночи. Толстой так увлекся сказами и былинами Щеголенка, что пригласил его к себе, и он, уже совсем старый, – ему тогда было под восемьдесят, – прогостил у Толстого месяца три».
В воспоминаниях сына писателя Ильи Львовича сохранилось довольно подробное описание пребывания олонецкого сказителя в Ясной Поляне. Есть в них и такая деталь: «Папа слушал его с особенным интересом, каждый день заставлял рассказывать его что-нибудь новое, и у Петровича всегда что-нибудь находилось. Он был неистощим».
Эти рассказы Щеголенка тоже сохранились в Записных книжках Толстого 1879 года, именно на их основе он начал создавать свой цикл «народных рассказов».
«Чем люди живы» – первое произведение нового цикла. В основе рассказа – легенда «Архангел», услышанная и записанная Толстым от сказителя Щеголенка. «Два старика» – рассказ из этого же цикла. И он тоже создан на основе легенды, записанной от олонецкого сказителя. «Три старца» – еще один из «народных рассказов» Толстого (их всего двадцать два). И он тоже создан по легенде, услышанной и записанной от Щеголенка.
Это «народные рассказы», написанные Толстым в 1881–1885 годах. А через четверть века он вновь вернется к своим «языковым заготовкам» и записям легенд Щеголенка. Так, уже в 1905–1906 годах появятся одни из лучших рассказов «Круга чтения» – «Корней Васильев» и «Молитва», тоже созданные на основе народных легенд, услышанных от «олонецкой губернии былинщика» В. П. Щеголенка.
«Корней Васильев» был опубликован в то самое время, когда на родину сказителя Щеголенка – в Олонецкую губернию – отправился Михаил Пришвин. «Я вышел из фольклора», – скажет он о своем пути в литературу, о путешествии на Русский Север, о записях сказок, песен, причитаний, составивших его первую книгу «В краю непуганых птиц» (1907). Этому пути он останется верен и в последующих книгах «За волшебным колобом», «Кащеева цепь», соединивших реальные и сказочные мотивы.
Из фольклора вышел и современник Пришвина Алексей Ремизов. Его первые книги «Посолонь» (1907), «Докука и балагурье» (1913) – это оригинальнейшие сказочные стилизации, в основе которых подлинные фольклорные записи.
Из фольклора вышли и такие замечательные советские писатели, как Борис Шергин, Степан Писахов, Павел Бажов, открывшие новые, еще неизведанные пласты народной культуры. Борис Шергин и Степан Писахов – «поморские узорочья» языковых сокровищ Русского Севера, Павел Бажов – самоцветы рабочего фольклора Урала. После выхода «Малахитовой шкатулки» возникла целая «школа Бажова», развивающая традиции литературных сказов. Непосредственными преемниками Павла Бажова на Урале стали С. Власова, С. Черепанов, Иван Ермаков, Евгений Пермяк, на Алтае – Александр Мисюров, на Амуре – Дмитрий Нагишкин, в Оренбуржье – В. Пистоленко, в Поволжье – Михаил Кочнев. Почти одновременно с Павлом Бажовым к сказкам обратились Алексей Толстой и И. Соколов-Микитов, создавшие свои литературные обработки сказочных сюжетов.
От фольклора неотделимо творчество наших современников Василия Шукшина, Виктора Астафьева, Василия Белова, Валентина Распутина, Дмитрия Балашова. И дело здесь не только в прямом использовании фольклорных образов, тем и сюжетов, хотя и этот традиционный путь далеко не исчерпан: «До третьих петухов» Василия Шукшина, «Бессмертный Кощей» Василия Белова – тому подтверждение. Дело в том, что литература продолжает открывать – через фольклор и благодаря фольклору – все новые животворные ключи народной культуры. А потому фольклор по-прежнему остается для литературы народознанием, народоведением (таково первичное значение самого понятия folk-lor: от английских слов «народ» и «знание»), а не просто одна из филологических дисциплин, изучение которой (крайне поверхностное) предусмотрено лишь вузовскими программами.
Такова одна из основных закономерностей развития любой национальной литературы, что, собственно, и придает каждой из них черты неповторимости, самобытности. «Литература каждого народа, – подчеркивал Ованес Туманян, – развивается, приобретает своеобразие и утверждает себя благодаря народным легендам, творениям национального духа».
Виктор КАЛУГИН



Орест Сомов
РУСАЛКА
Малороссийское предание
Давным-давно, когда еще златоглавый наш Киев был во власти поляков, жила-была там одна старушка, вдова лесничего. Маленькая хатка ее стояла в лесу, где лежит дорога к Китаевой пустыни: здесь, пополам с горем, перебивалась она трудами рук своих, вместе с шестнадцатилетнею Горпинкою[1]1
Горпинка – уменьшительное имени Горпина (Агриппина). Это имя в малороссийском наречии ближе к римскому своему корню, нежели Аграфена или Груша.
[Закрыть], дочерью и единою своею отрадою. И подлинно дочь была ей на отраду: она росла, как молодая черешня, высока и стройна; черные ее волосы, заплетенные в дрибушки, отливались как вороново крыло под разноцветными скиндячками[2]2
Дрибушки – мелкие косы; скиндячки – ленты, повязываемые на голове. (См. в «Северных цветах на 1828 год» примеч. к повести «Гайдамак»).
[Закрыть], большие глаза ее чернелись и светились тихим огнем, как два полуистухших угля, на которых еще перебегали искорки. Бела, румяна и свежа, как молодой цветок на утренней заре, она росла на беду сердцам молодецким и на зависть своим подружкам. Мать не слышала в ней души, и труженики божии, честные отцы Китаевой пустыни, умильно и приветливо глядели на нее как на будущего своего собрата райского, когда она подходила к ним под благословение.
Что же милая Горпинка (так называл ее всякий, кто знал) стала вдруг томна и задумчива? Отчего не поет она больше как вешняя птичка и не прыгает как молодая козочка? Отчего рассеянно глядит она на все вокруг себя и невпопад отвечает на вопросы? Не дурной ли ветер подул на нее, не злой ли глаз поглядел, не колдуны ли обошли?.. Нет! не дурной ветер подул, не злой глаз поглядел, и не колдуны обошли ее: в Киеве, наполненном в тогдашнее время ляхами, был из них один, по имени Казимир Чепка. Статен телом и пригож лицом, богат и хорошего рода. Казимир вел жизнь молодецкую: пил венгерское с друзьями, переведывался на саблях за гонор[3]3
За гонор по-польски значит: за честь.
[Закрыть], танцевал краковяк и мазурку с красавицами. Но в летнее время наскуча городскими потехами, часто целый день бродил по сагам[4]4
Сага – залив реки. Слово малороссийское.
[Закрыть] днепровским и по лесам вокруг Киева, стрелял крупную и мелкую дичь, какая ему попадалась. В одну из охотничьих своих прогулок встретился он с Горпинкою. Милая девушка, от природы робкая и застенчивая, не испугалась, однако ж, ни богатырского его вида, ни черных, закрученных усов, ни ружья, ни большой лягавой собаки: молодой пан ей приглянулся, она еще больше приглянулась молодому пану. Слово за слово, он стал ей напевать, что она красавица, что между городскими девушками он не знал ни одной, которая могла бы поспорить с нею в пригожестве; и мало ли чего не напевал он ей? Первые слова лести глубоко западают в сердце девичье: ему как-то верится, что все, сказанное молодым красивым мужчиною, сущая правда. Горпинка поверила словам Казимира, случайно или умышленно они стали часто встречаться в лесу, и оттого теперь милая девушка стала томна и задумчива.
В один летний вечер пришла она из лесу позже обыкновенного. Мать пожурила ее и пугала дикими зверями и недобрыми людьми. Горпинка не отвечала ни слова, села на лавке в углу и призадумалась. Долго она молчала; давно уже мать перестала делать ей выговоры и сидела, также молча, за пряжею; вдруг Горпинка, будто опомнясь и пробудясь от сна, взглянула на мать свою яркими, черными своими глазами и промолвила вполголоса:
– Матушка! У меня есть жених.
– Жених?.. Кто? – спросила старушка, придержав свое веретено и заботливо посмотрев на дочь.
– Он не из простых, матушка: он хорошего рода и богат: это молодой польский пан… – Тут она с детским простодушием рассказала матери своей все: и знакомство свое с Казимиром, и любовь свою, и льстивые его обещания, и льстивые свои надежды быть знатною паней.
– Берегись, – говорила ей старушка, сомнительно покачивая головою, – берегись лиходея; он насмеется над тобою, да тебя и покинет. Кто знает, что на душе у иноверца, у католика?..[5]5
Когда Малороссия находилась под властью поляков, тогда взаимная недоверчивость поляков и малороссиян, особливо в простом народе, была в самой сильной степени. Понятия религиозные подкрепляли сие неприязненное чувствование в тот век, не ознаменованный еще, подобно нынешнему, веротерпением. Католик – было у малороссиян бранчливое слово, сделавшееся народным. И теперь еще употребляется оно в том же смысле необразованными простолюдинами в Малороссии.
[Закрыть] А и того еще хуже (с нами сила крестная!), если в виде польского пана являлся тебе злой искуситель. Ты знаешь, что у нас в Киеве, за грехи наши, много и колдунов и ведьм[6]6
Киев, по баснословным народным преданиям, искони славился своими ведьмами и колдунами не только в Малороссии, но и по всей России.
[Закрыть]. Лукавый всегда охотнее вертится там, где люди ближе к спасенью.
Горпинка не отвечала на это, и разговор тем кончился. Милая, невинная девушка была уверена, что ее Казимир не лиходей и не лукавый искуситель, и потому она с досадою слушала речи своей матери: «Он так мил, так добр! Он непременно сдержит свое слово и теперь поехал в Польшу для того, чтоб уговорить своего отца и устроить дела свои. Можно ли, чтобы с таким лицом, с такою душою, с таким сладким, вкрадчивым голосом он мог иметь на меня недобрые замыслы? Нет! матушка на старости сделалась слишком недоверчива, как и все пожилые люди». Таким нашептыванием легковерного сердца убаюкивала себя неопытная, молодая девушка; а между тем мелькали дни, недели, месяцы – Казимир не являлся и не давал о себе вести. Прошел и год – о нем ни слуху ни духу. Горпинка почти не видела света божьего: от света померкли ясные очи, от частых вздохов теснило грудь ее девичью. Мать горевала о дочернем горе, иногда плакала, сидя одна в ветхой своей хатке за пряжею, и, покачивая головою, твердила: «Не быть добру! Это наказание божие за грехи наши и за то, что несмысленая полюбила ляха-иноверца!»
Долго тосковала Горпинка; бродила почти беспрестанно по лесу, уходила рано поутру, приходила поздно ночью, почти ничего не ела, не пила и иссохла как былинка. Знакомые о ней жалели и за глаза толковали то и другое; молодые парни перестали на нее заглядываться, а девушки ей завидовать. Услужливые старушки советовали ей идти к колдуну, который жил за Днепром, в бору, в глухом месте: он-де скажет тебе всю правду и наставит на путь, на дело! Горе придает отваги: Горпинка откинула страх и пошла.
Осенний ветер взрывал волны в Днепре и глухо ревел по бору; желтый лист, опадая с деревьев, с шелестом кружился по дороге, вечер хмурился на дождливом небе, когда Горпинка пошла к колдуну. Что сказал он ей, никто того не ведает; только мать напрасно ждала ее во всю ту ночь, напрасно ждала и на другой день, и на третий: никто не знал, что с нею сталось! Один монастырский рыболов рассказывал спустя несколько дней, что, плывя в челноке, видел молодую девушку на берегу Днепра: лицо ее было исцарапано иглами и сучьями деревьев, волосы разбиты и скиндячки оборваны; но он не посмел близко подплыть к ней из страха, что та была или бесноватая, или бродящая душа какой-нибудь умершей, тяжкой грешницы.
Бедная старушка выплакала глаза свои. Чуть свет вставала она и бродила далеко, далеко, по обоим берегам Днепра, расспрашивала у всех встречных о своей дочери, искала тела ее по песку прибрежному и каждый день с грустью и горькими слезами возвращалась домой одна-одинехонька: не было ни слуху, ни весточки о милой ее Горпинке! Она клала на себя набожные обещания, ставила из последних трудовых своих денег большие свечи преподобным угодникам печерским: сердцу ее становилось от того на время легче, но мучительная неизвестность о судьбе дочери все не прерывалась. Миновала осень, прошла и суровая зима в напрасных поисках, в слезах и молитвах. Честные отцы, черноризцы Китаевой пустыни, утешали несчастную мать и христиански жалели о заблудшей овце; но сострадание и утешительные их беседы не могли изгладить горестной утраты из материнского сердца. Настала весна; снова старуха начала бродить по берегам Днепра, и все так же напрасно. Она хотела бы собрать хоть кости бедной Горпинки, омыть их горючими слезами и прихоронить, хотя тайком, на кладбище, с православными. И этого, последнего утешения лишала ее злая доля.
Те же услужливые старушки, которые наставили дочь идти к колдуну, уговорили и мать у него искать, помощи. Кто тонет, тот и за бритву рад ухватиться, говорит пословица. Старуха подумала, подумала – и пошла в бор. Там, в страшном подземелье, жил страшный старик. Никто не знал, откуда он был родом, когда и как зашел в заднепровский бор и сколько ему лет от роду; но старожилы киевские говорили, что еще в детстве слыхали они от дедов своих об этом колдуне, которого с давних лет все называли Боровиком: иного имени ему не знали. Когда старая Фенна[7]7
Фенна – Феона, по малороссийскому выговору.
[Закрыть], мать Горпинки, пришла на то место, где, по рассказам, можно было найти его, то волосы у нее поднялись дыбом и лихорадочная дрожь ее забила… Она увидела старика, скрюченного, сморщенного, словно выходца с того света: в жаркий майский полдень лежал он на голой земле под шубами, против солнца и, казалось, не мог согреться. Около него был очерчен круг, в ногах у колдуна сидела огромная черная жаба, выпуча большие зеленые глаза; а за кругом кипел и вился клубами всякий гад: и ужи, и змеи, и ящерицы; по сучьям деревьев качались большие нетопыри, а филины, совы и девятисмерты[8]8
Девятисмерт, или сорокопуд, небольшая птичка, весьма обыкновенная в лесах Малороссии. О ней говорят, будто бы она сперва убивает восемь насекомых и съедает уже девятое; отсюда происходит имя ее – девятисмерт. Много есть и других суеверных рассказов об этой птице, которая занимает не последнее место в баснословной зоологии малороссиян.
[Закрыть] дремали по верхушкам и между листьями. Лишь только появилась старуха – вдруг жаба трижды проквакала страшным голосом, нетопыри забили крыльями, филины и совы завыли, змеи зашипели, высунув кровавые жала, и закружились быстрее прежнего. Старик приподнялся, но, увидя дряхлую, оробевшую женщину, он махнул черною ширинкою с какими-то чудными нашивками красного шелка – и мигом все исчезло с криком, визгом, вытьем и шипеньем: одна жаба не слазила с места и не сводила глаз с колдуна. «Не входи в круг, – прохрипел старик чуть слышным голосом, как будто б этот голос выходил из могилы, – и слушай: ты плачешь и тоскуешь об дочери; хотела ли бы ты ее видеть? хотела ли б быть опять с нею?»
– Ох, пан-отче![9]9
Пан-отче – звательный падеж слова пан-отец, которое малороссияне из учтивости говорят старшим летами или достоинством. В собственном смысле оно соответствует русскому выражению: государь-батюшка.
[Закрыть] как не хотеть! Это одно мое детище, как порох в глазу…
– Слушай же: я дам тебе клык черного вепря и черную свечу… – Тут он пробормотал что-то на неведомом языке, и жаба, завертев глазами, в один прыжок скакнула в подземелье, находившееся в нескольких шагах от круга, другим прыжком выскочила оттуда, держа во рту большой белый клык и черную свечу; то и другое положила она перед старухой и снова села на прежнее свое место.
– Скоро настанет зеленая неделя, – продолжал старик, – в последний день этой недели, в самый полдень, пойди в лес, отыщи там поляну между чащею; ты ее узнаешь: на ней нет ни былинки, а вокруг разрослись большие кусты папоротника. Проберись на ту поляну, очерти клыком круг около себя и в середине круга воткни черную свечу. Скоро они побегут; ты всматривайся пристально и чуть только заметишь свою дочь – схвати ее за левую руку и втащи к себе в круг. Когда же все другие пробегут, ты вынь свечу из земли и, держа ее в руке, веди дочь свою к себе в дом. Что бы она ни говорила – ты не слушай ее речей и все веди ее, держа свечу у нее над головою; и что бы после ни случилось, не сказывай своим попам да монахам, не служи ни панихид, ни молебнов и терпи год. Иначе худо тебе будет…
Старухе показалось, что в эту минуту жаба страшно на нее покосилась и захлопала уродливым своим ртом. Бедная Фенна чуть не упала от испуга. Поскорее отдала она поклон колдуну и дрожащими ногами поплелась из бора. Однако ж до чего не доведет любовь материнская! Надежда отыскать дочь свою подкрепила силы старухи и придала ей отваги.
В последний день зеленой недели, когда солнце шло на полдень, она пошла в чащу леса, отыскала там сказанную колдуном поляну, очертила около себя круг клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную свечу – и свеча сама собою загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум: с гиканьем и ауканьем, быстро как вихрь помчались через поляну несчетная вереница молодых девушек; все они были в легкой, сквозящей одежде, и на всех были большие венки, покрывавшие все волосы и даже спускавшиеся на плеча. На одних венки сии были из осоки, на других из древесных ветвей, так что казалось, будто бы у них зеленые волосы[10]10
Простой народ в Малороссии думает, что русалки суть утопленницы и удавленницы, произвольно лишившие себя жизни. Одни говорят, что у русалок зеленые волосы, другие просто наряжают их в большие зеленые венки. Сочинитель принял последнее из сих поверий, а для отличия русалок одних из них покрыл венками из осоки, других – венками из древесных ветвей. Разумеется, что первые из них утопленницы, а вторые – удавленницы. Они, по мнению малороссиян, бегают по лесам на зеленой (т. е. Троицкой) неделе, аукают, качаются на деревьях, и если поймают живого человека, то щекочут его до смерти. Посему малороссияне боятся в продолжение сей недели откликаться на лесное ауканье.
[Закрыть]. Девушки пробегали, минуя круг, но не замечая или не видя старухи; и она, откинув страх, всматривалась в лицо каждой. Смотрит – вот бежит и ее Горпинка. Старуха едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Другие, видно, не заметили того на быстром, исступленном бегу своем и, гикая и аукая, пронеслись мимо. Старая Фенна поспешно выхватила из земли пылавшую черную свечу, подняла ее над головою своей дочери – и мигом зеленый венок из осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы Горпинкиной. В кругу Горпинка стояла как оцепенелая; но едва мать вывела ее из круга, то она начала у нее проситься тихим, ласкающим голосом:








