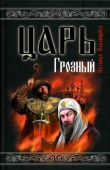Текст книги "Третий Рим. Трилогия"
Автор книги: Лев Жданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 41 страниц)
Самого восьмилетнего государя, конечно, здесь не было. Порывался он к маме, да уговаривали его: больна-де… Просит повременить!..
Когда Аграфена узнала, что сама же она Досифею, отравительницу к княгине подвела, чуть с ума не сошла мамка! Волосы на себе рвала. В ноги брату, князю Ивану, и всем боярам кинулась.
– Моя вина… Я виновата, окаянная! – заголосила она. И рассказала, как дело было.
Кинулись Досифею искать. Но в монастыре её и не видели от Светлой заутрени от самой… И словно сквозь землю баба провалилась, хотя Овчина и другие бояре всю Москву вверх дном поставили…
На другой же день, 3 апреля, почти не приходя в сознание, скончалась Елена Глинская, полонянка-литвинка, умевшая полюбить Русь и охранять её пять тревожных долгих лет, хотя и при помощи боярской. Чутьё матери помогало правительнице. А случай избавил от ужасного дела: отравиться не только самой, но отравить и всех детей своих… Сразу внести горе и смуту в юное, недавно устроенное царство Всероссийское.
Когда привели детей прощаться к умирающей матери, впервые за сутки шевельнула она рукой, словно желая благословить малюток. А слёзы, тяжёлые, редкие, медленно покатились по щекам, принявшим уже фиолетовый оттенок.
Евдокия кинулась к тётке, обхватила её тонкими ручонками, зарыдала, забилась… Так и унесли малютку…
Юрий тупо глядел на мать, на всех собравшихся вокруг… И не выпускал конца телогреи мамки Челядниной, которая привела детей.
Иван, сильно побледневший, напуганный видом больной матери, поцеловал ей руку, как ему сказали, прижался плечом к Аграфене, которая на коленях у постели Елены целовала умирающей ноги, и так и стоял… Стоял ребёнок, и смутно вспоминалась ему иная пора: зимняя ночь… Огни… Чёрные тени вокруг саней… И на каком-то странном ложе лежит человек… Отец его, князь великий… И тоже – лицо страшное… И что-то силятся сказать его глаза… Рука, тяжёлая, холодная, вот как мамина сейчас, касается волос…
И вдруг, в непонятном ему самому ужасе, ребёнок дико вскрикнул и затрепетал весь, потрясаемый приступом судороги…
Быстро схватила на руки мамка выкормыша и помчалась, в кроватку уложила, чёрным прикрыла, все лампады зажгла… Крест с мощами, которым отец, умирая, благословлял на царство Ваню, в изголовье кроватки поставила. А сама кинулась к иконам и, до крови ударяясь лбом о помост, громко стала взывать:
– Прости, Господи! Помилуй, Господи!.. Отпусти прегрешения все, вольные и невольные… Спаси, защити и помилуй…
А над телом усопшей княгини чёрный клир собирался отходную петь…
Только колокола кремлёвские не отозвались сейчас же на печаль в доме царском – ликующий пасхальный перезвон, дрожа в весеннем воздухе, словно твердил:
– Нет смерти в мире… Только жизнь вечная под разными видами… И самая смерть ведёт к жизни вечной!..
Глава VIГОДА 7046-й (1538), 10 АПРЕЛЯ – 7051-й (1543), 9 СЕНТЯБРЯ
Тяжёлое время настало для малютки-господаря московского.
Семь дней только минуло, как мать у него так безвременно умерла, а уж «большие бояре», враги Овчины, недруги Глинских и всей дружины прежней великокняжеской, свою власть-силу стали показывать.
Утром, 10 апреля, спал ещё Иван, когда почувствовал, что будит его мамка ближняя, Аграфена.
Это очень понравилось ребёнку. Хоть и ласков был к мальчику дядька, приставленный с пяти лет, по обычаю, смотреть за царём, но, конечно, ребёнок пестунью свою любил несравненно больше.
И теперь, в полусне, почуяв её руки у себя на голове, заслышав её голос, он, не раскрывая глаз, притянул мамку за шею, нашёл её ухо и капризным тоном забормотал:
– Грунька, злая… Не буди… Спать хочу! Не встану вот и не встану… Рано, поди…
И, оттолкнув Челяднину, он снова готовился уснуть.
– Ой, проснись, государь! – тревожно, но тихим, сдержанным голосом заговорила Аграфена… – Коли ты нас оставишь – кто же защитит? Я ли тебя грудью своей не питала, не выкормила?!
Иван сразу вскричал:
– Обидеть! Тебя? Кто хочет? Кто смеет? Да я голову велю срубить… Я сам…
И он неодетый, на кроватке, встал во весь рост, стиснув зубы, сверкая тёмными живыми глазами, словно волчонок, у которого берут матку-кормилицу…
– Ой, вели… Ой, покрой, заступись за нас… За Ваню, за брата моего любезного… Сам же жалуешь его, Ванюшка… Как отец он любит тебя… А его в ночи пришли, схватили… В каменный мешок вкинули, что под двором твоим новым… Там хотят голодом уморить…
Хотя мальчик и не понял весь ужас того, что говорила мамка, но суть ясна: обидели лучшего человека после мамы и мамки Аграфены; куда-то увели князя Овчину-Телепнева.
Ребёнок задыхался от негодования и злости, вдруг стихийно проснувшейся в груди.
– Кто смел?! Кто посмел?! – только и мог выговорить он.
– Посмели, Ванюшка! Птенчик, государь князь милостивый… Люди смелые, могучие… Да тише ты говори. Прокралась я к тебе… Ведь и меня хотят взять от тебя… сослать, в монастырь заточить, а то и совсем покончить, как с братцем, князем Иваном Феодорычем.
Тут мальчик даже и сказать ничего не смог. Отнять у него Аграфену? Да разве это мыслимо? Или он не царь? Не читал сам все указы, какие от его имени писались, его печатью скреплялись?! Не ему послы и воеводы и бояре главные руку целуют, на жалованье благодарят?! Не он – царь всея Руси? Юн он ещё, правда, но он самодержец. И мама-покойница, и все толковали ему это. Маму смерть взяла. Смерть сильнее государей. А из людей, из русских и чужих даже, кто посмеет не послушать его?..
И, топнув босой ногой, властно выкрикнул ребёнок:
– Пусть попробуют!.. Пусть посмеют взять тебя!
– Шуйские ли испужаются?! – зашептала Челяднина. – Да Палецкие, да Вельяминовы, да Бельские… Мало ли их, крамольников!.. И брата, и меня, вишь, винят… Поклёп взводят: будто мы на здоровье матушки твоей усопшей помышляли… Да если бы знали они?.. Да мне всё одно, что на себя руку поднять, то и на неё было бы… Ещё тяжелей… Спаси, не дай в обиду!..
– Да не плачь ты, матушка. Говорю: не дам!.. Стой, кто там идёт?.. Много их! – чутко насторожась, произнёс почему-то оробевший ребёнок.
Челяднина вся так и задрожала.
– За мной, ох, за мной это они, злодеи… Проведали, где я… На тебя последняя надежда… Спаси, не дай… Выручи!..
И, рыдая, припала она, словно к подножью креста, к ногам Ивана.
Правда, вошли бояре: Бельский да Шуйский, победоносный воевода Василий Васильевич, былой последний «волестель» вольного, вечевого Новгорода, пока не «добыл» его себе, не покорил покойный Василий, великий князь. За дверьми – звон оружия слышен… Алебарды поблескивают, пищали дулом о дуло задевают, звенят.
Хотя вошли «большие бояре» без доклада, без обычного сказу за дверью, всё же низко поклонились ребёнку.
– Челом бьём тебе, государь, великий князь. Каков царь в здоровье своём?
Не отвечая на здорованье, мальчик нахмурился.
– А что же вы, бояре, без зову, без докладу пришли? Не бывало так ещё… Что надо? Рано… спать я хочу.
– Спи, государь. А у нас дело неотложное. Вот, её нам и надобно лишь! – указывая на Аграфену, отвечал Василий Васильевич Шуйский.
– Её? Зачем? Кто смеет?! Не троньте её… Моя мамушка, и ничья больше! – начиная дрожать, звонким рвущимся голоском выкрикнул ребёнок.
– Да ты не тревожься, государь! – выступая вперёд, мягко, вкрадчиво стал уговаривать Иван Шуйский мальчика. – Твоя она мамушка, и будет так. Сама же похвалялась, что знает бабу, которая твою усопшую родительницу испортила! Помяни Господи душу княгинюшки… Так, теперь на очи надо их для правды друг дружке поставить… Для твоей же пользы государевой, по царскому твоему велению и по Судебнику…
Мальчик уже знал, что Судебник нечто важное в государстве, чему и властитель порой покоряться должен. Но слёзы и растерянный, напуганный вид мамки лишали его всякого соображения.
Обхватив её руками, он решительно сказал:
– Не дам! Сюда эту бабу ведите… Пусть здесь судят…
– И того нельзя, невозможно никак, господине. У владыки-митрополита, на его очах суд идёт… И дойти там должен до конца… Отпусти мамушку на малый час… Она ведь не ребёнок малый, поймёт, что волей-неволей, а надо идти… сама поймёт… Пусти её…
– Нет, не пущу! – крикнул ещё громче мальчик.
– Не пускай, не давай!.. – взмолилась, рыдая, Челяднина.
Но одним сильным движением оторвал Шуйский Василий рыдающую женщину от ребёнка и отшвырнул её к двери… Там уж ждали, подхватили, мгновенно увели её… Ушли и бояре, пропустив к ребёнку Анну Глинскую, бабушку его. Стояла она до сих пор за дверьми, в смертельной тревоге, но не смела войти…
Долго старалась привести в себя исступлённо рыдающего и вздрагивающего всем телом внучка старуха… Так и заснул он опять на своей постельке, обессилев от слёз, от судорожных рыданий.
А Челяднину и Ивана Овчину настигла их злая судьба. Первую быстро постригли и заключили в далёкий, суровый по уставу, Каргопольский монастырь. Второго же забыли в том каменном мешке, куда посадили боярина, сведя несчастного чуть не с самого трона… И вспомнил о нём только Бог: на десятый день послал за душой Ивана вестника своего… Умер голодной смертью всевластный фаворит Елены… С искусанными, изгрызенными до костей руками вынут был труп конюшего, первого боярина московского, из тёмной глубины каменного мешка…
После описанного здесь пережитого отроком-царём тяжёлого мгновенья настало некоторое затишье, хотя сравнительно и очень краткое… Да и то тоскливо тянулись теперь дни Ивана Васильевича. Главный боярин, Василий Шуйский, и дядьку прежнего согнал от царя, своего человека приставил к ребёнку… Чтобы доносил тот: кто и с чем помимо Шуйских к государю заявляется?
Ничего не сказал на это притихший, напуганный мальчик. Молчал, думал больше, глядя в цветные оконницы дворца на проходящий и мимо едущий вольный торговый и ратный люд. Все они, верил Иван, голову за него сложат… Но как добраться туда, на эту площадь людную?.. Как сказать?.. И ребёнок в голове складывал свои жалобы… Речи целые вспоминал, что говорили ему и мать-покойница, и Овчина, и Аграфена, все, словом, кто толковал ему о величии его царском. И что теперь сталось?! На советах дворцовых домашних и в большой думе, где сажали его на место царское во время приёмов посольских пышных, он уж привык молчать. Но раньше мама слово скажет… Ваня Телепнев… Все люди, любившие его… И верил Иван каждому их слову… А теперь?.. Нет, никому не верит он… А сидит молчит. Не знает, как самому речь начать. Запугали его. Вчера вон играл он в опочивальне великого князя покойного с братом Юрой и с Евдокией… Свободно, светло там… И Шуйский Иван дочь проведать сюда же пришёл. Разлёгся на лавке… И его нога на кровати, на отцовой, на царской… А раньше самые важные бояре, входя сюда, и стояли-то голову спустя, вот как в церкви стоят… А Тучков-боярин, из князей Курбских… Скарб мамушкин, княгини Елены, для чего-то перебирали они с Шуйскими… «Надо решить, – говорят, – что куда? В большую ли казну либо в малую?.. Или в терему, в похоронки…» Раскидали охабни, душегреи её, в которых ещё так недавно, балуя ребёнка, царица сына кутала. И Тучков-боярин швыряет милые вещи концом сапога. «Это, – говорит, – старье… Хлам… нам не надобно!» Кому «нам»? Мамины были вещи, значит, его теперь, царя Ивана, они!..
Думает ребёнок о том, что видит, и молчит.
Повадился он в Чудов монастырь, в митрополичьи покои ходить. Сперва к Даниилу, а потом и к заместителю его, к Иоасафу… Тихо там, хорошо, лучше, чем во дворце теперь великокняжеском, стало… Ни Шуйских, ни Тучковых, ни Бельских, никого из обидчиков здесь не видать.
А если и приходят, так чинно, тихо себя ведут, вот как при матушке, при великой княгине, покойнице… Как, верно, и при отце Ивана себя вели… Что же, если мал он ещё, так и не царь?.. Неправда… Он им всем владыка!
Рад малютка, что принимает его ласково Иоасаф. Спросит обычно Ивана после взаимных приветов:
– Что, государь, как наставник твой и духовник, отец протопоп благовещенский, доволен ли тобою? А, Ваня? К Слову Божию прилежен ли? Скажи, чадо.
– Прилежен, святый отче! – отвечает мальчик, бойко глядя доброму владыке в глаза. А глаза у того ясные и окружены морщинками. Но это нравится Ивану.
Что ещё особенно нравится здесь ему, это столбцы писаных хартий и стопки книг, которые везде по келье у владыки разложены. Поглядит, поглядит царь да и скажет:
– Благослови, владыко, книжки почитать…
– Бог благословит… Да разберёшь ли ты только книги мои? Ну, скажем, Библия… Апостол… А то ведь и эллинская премудрость попадается… Непристойного не поймёшь ты, мал ещё, государь… А и пристойного, гляди, не поймёшь…
– Пойму, отче! – бойко отвечает Иван, не робеющий, не глядящий здесь волком, не молчаливый мальчик, а ребёнок, каким надо быть в девять лет… – Всё пойму… Особливо скажи: что про царей где есть? Всё мне про царей знать хочется…
– Да что же тебе?..
– Да все… Как жили… воевали… людей судили… Как их люди слушали… А они карали за непокорство, за невежество…
– Ого-го! Вон оно куды пошло… Ну, читай… Вот «Книга Царств»… А то – Титуса Ливиуса на нашу речь перетолковано… Читай, поучайся…
И жадно, целыми часами читает мальчик… Про Александра Македонского, про Августа, про Юлия Цезаря… Про судей еврейских и царей, перед которыми трепетали, которых все боялись. Читает Иван, благо правители-бояре и не заботятся: где и что государь?
– А не поздно ли? Шёл бы домой… С братом побыл бы, с сестрицей Дунюшкой…
Покорно встаёт, прощается мальчик. А сам говорит:
– Святой владыка, скучно мне с ними!.. Девчонка сестра… И роду не нашего… Шуйских она… А брат?.. Какой-то он… И не пойму я… Есть бы ему только да рюмить, чуть что… А я бы, кабы воля моя, умер бы, а не заплакал… Иной раз и сам не рад, что плакать приходится…
Гладит его по голове старец и говорит:
– Терпи, Ваня… Всем нам плакать приходится здесь на земли… Сам Господь Бог, Христос Спаситель мира здесь во плоти терпел, не слёзы – кровь из глаз лил… Терпи, дитятко… Иди с Богом!.. Бог защитит тебя!..
Благословит и отпустит.
И легче на душе сделается у мальчика… Словно просветлеет там…
А во дворец вернётся – снова душа замутится, закипит досада, обида в груди. Уж, наверное, кто-нибудь чем-нибудь да затронет всё самое дорогое ребёнку… В памяти у него столько злобы, обиды и горя, что до веку не забыть… И опять сожмёт губы, замолчит, волчонком ходит и глядит девятилетний великий князь московский, Иван Васильевич. Так и прозвали «волчонком» его, кто смел это слово сказать. А Иоасаф по уходе ребёнка-царя сидит и думает:
«Чудное дитя государь наш малолетний… Чует детская душа, что невзгода и на него, и на Русь пришла… Да что поделаешь?.. Как оборонять и царя, и землю? Он мал, бояре сильны и грозны… Потерпеть ещё надо… Эхе-хе… Да, надо, надо терпеть, пока Бог грехам терпит… Вот хоть бы насчёт силы боярской, сдаётся, скорпии сами себя с хвоста грызть починают… Вишь, как нужно было им Овчину да со всеми его присными убрать, так Шуйские и Бельских наперёд поставили… Из тюрем, из неволи их повыпускали… Мол, всё пополам!.. А как медведя-то свалили, пришла пора шкуру делить, гляди, сами зубы друг на дружку оскалили… Боярам Бельским одоление Господь бы послал. Всё же люди, не хищные враны, как эти Шуйские… Василий Шуйский погрознее, да стар и хвор… А Иван – та гадина опасная, хитрая… Ну, да что там?! Что было, то видели; что будет, поглядим ещё… На всё воля Господня…»
Вздохнул и за книги свои принялся.
Старик ясно видел, в чём горе для Руси.
Из двух союзников, какими явились оба знатнейших рода Бельских и Шуйских, каждый пожелал прочнее в свои руки власть забрать, если не совсем, то хоть до того времени, когда государю пятнадцать лет стукнет и, согласно завещанию родительскому, снимается тогда с него опека боярская, сам володеть всем начнёт, как предки правили…
А для укрепления власти один прямой путь: везде и всюду своих насажать, земель побольше, угодий, денег да почёту тем доставить, кто и мечом, и словом в трудную годину подсобит, выручит…
Шуйские своих тянут, Бельские – своих…
Сперва Шуйские одолели. Но году не прошло, как умер Василий, старший, воинственный брат, герой литовского похода: от гнева ярого ударом скончался старик.
Иван ему наследовал, как глава партии. Тут и окрепли Бельские, Патрикеевых к себе, Сицкого прилучили. Тучковы с ними же… И стали везде своих сажать.
Было начало смуты ещё в 1538 году при Данииле-митрополите положено. Собрались, сговорились тогда Шуйские… Напали на Бельских с дружиною… Кого по тюрьмам рассадили, кого в деревню выслали… А дьяка Мишурина, ближнего слугу покойного царя Василия, прямо, без приказу государева, нагим раздели и голову прочь! – тут же у тюрем, где Бельский был засажен. Даниила на житие в дальний монастырь выслали, а на его место Иоасафа поставили.
Но мы уже видели, что думал год спустя в 1539 году митрополит Иоасаф, хотя и поставленный Шуйскими, однако не любивший их.
Летом же 1540 года, то есть ещё год спустя, когда десятилетний царь пришёл в один из больших праздников с митрополитом здороваться, тот ему и сказал, подавая какую-то бумагу:
– Прочти, государь… Что молвишь?
Прочёл Иван, заблистали глаза. Уж многое он ясно понимать стал, не по годам даже.
– Бельского на волю пустить? Господи! Да конечно! Всё же я обиды такой от него, как от Шуйских, не знал и не видел… Да как Шуйские? Разве позволят? Вон дядя Иван и меня самого было раз чуть не прибил… Никого близко заступиться не было… Так он…
– Ничего, государь. Теперь на них, на Шуйских, всё! Каждому они, – простым и вельможным людям, – всем больно солоно достались. Подписывай с Богом… Найдём, как сделать…
Подписал Иван, отдал и от радости дважды руку пастырю облобызал.
– Праздник для меня нынче истинный…
– Вижу!.. Не заросли плевелами семена добрые в сердце твоём, чадо! Бог помилует тебя за это!
И Бельский неожиданно был освобождён.
Зашипел от злости Шуйский. Но дознался, что тут митрополитова рука, отступился. Даже на совет государев ездить перестал. Дальше вести борьбу духу не хватило. Далеко ему до покойного дяди, Василия Шуйского.
А у царя и рады, что не видно злого гордеца…
Скоро новая беда постигла Шуйского с присными.
Прибежали к нему приспешники из дворцовых, продажные души, да и говорят:
– Плохо дело твоё, боярин! Чего только бояре Бельские и Захарьины и Патрикеевы задумали да у царя молодого выпросили! Андрею, князю удельному Старицкому, жене его, тётке твоей, сыну их Владимиру – всем темницу раскрыли. На ихнем дворе старом, в Кремле, на воле жить всем государь повелел… Только не отъезжать никуда да на светлые очи царёвы покуда не показываться.
Потемнел Шуйский, а сам криво так улыбается.
– Ничего. Ещё поглядим-посмотрим, чья возьмёт. У отца моего кобылка была, без меры ела и пила, пока не лопнула. На свою голову литовский волчонок волю забирает да врагов своих лютых на волю пускает. Что дальше… поглядим!..
А дальше – больше пошло.
С митрополитом, с боярами заглянул Иван в одну из мрачнейших тюремных келий особой, крепкой палаты, где много-много лет в тяжёлых оковах сидел Димитрий, удельный князь Угличский. Юношей посадили князя. А теперь дряхлый старец угасает в тюрьме…
Таков уж обычай был у московских великих князей в годы возвышения Русского царства: как воцарялся новый князь, так дядьёв, братьев, всех ближайших соперников, всех родных, которые могли бы за престол в спор вступить, скорее таких по тюрьмам да в схиму сбывали…
Сжалось сердце у мальчика, когда он увидел дряхлого князя Димитрия, родича своего. Волосами узник оброс… Борода как у лесного отшельника. От воздуха спёртого, тяжкого жёлтый лицом старик, как остов, худ и страшен.
Сказали ему, кто пришёл. Совсем отвыкший от мира и от людей, полуодичалый старец поднялся и, гремя цепями, отвесил поклон юному великому князю.
Вздрогнул от звука этих цепей мальчик. Сам быстро-быстро Бельскому зашептал:
– Снять… снять с него эти цепи скорей. Прошу тебя, князь.
Дал знак боярин, живо расклепали наручники, ножные кандалы сняли.
Старик стоит, не шевельнётся. Словно и не ему милость оказана.
– Что мне сделать? Как порадовать его? – шепчет снова царь-мальчик боярину.
– Сам подумай… Его спроси…
– Да, да. Князь Димитрий, чего хочешь? На волю? Или чего? Скажи… Я всё сделаю…
– Ты кого… спра… шиваешь? – с трудом, отвыкнув почти от членораздельной речи, зашамкал старик. – Димитрия, князя Угличского? Так нету его… Давно помер… А мне, рабу Божию, ничего не требуется. Смерти жду… Скорее бы пришла… Да вот разве Псалтырь новый… Затрепал я свой… Хоть и так весь знаю, да всё лучше бы… А больше ничего… Жизни не вернёшь мне… А без неё и свобода мне ни к чему… Я здесь прижился…
И умолк. Снова стоит, словно мощи живые…
Вышли тихо все, как из склепа могильного, из кельи той тюремной…
Послал Иван старцу лучший, любимый Псалтырь свой и другие книги божественные… И от стола посылал блюда. Но сравнительная свобода и радость, после полувека страданий, словно подкосили последние силы старика, и он тихо угас, всё время почему-то твердя:
– Не столько радости будет о девяноста девяти праведниках, сколько об одном раскаявшемся грешнике.
И так затих.
Но ещё это не всё. По дальнейшему «печалованию», по просьбам Иоасафа, дозволил царь дяде Андрею с женой и детьми на святой Рождественский вечер во дворец прибыть, за стол его с собой посадил. И здесь великую милость явил.
После трапезы подозвал дядю и говорит:
– По доводу святого отца митрополита, с решения царской думы нашей и нашим хотением, возвращаются тебе, государь дядя наш, князь Андрей Иванович Старицкий, все уделы твои, как дедом Иваном ещё было жаловано. Отпускаются вины и измены прошлые, а напредки тебе нам верой и правдой служить, как крест целовал.
Сказал, а сам горит, лицом зарделся весь, исподлобья глядит, в лица окружающих всматривается: так ли, хорошо ли, складно ли сказал, всё ли упомнил, что митрополит да бояре ему сказывали? И видит: ропот хороший крутом пошёл… Старики – головами кивают. Молодые – между собой перешёптываются… Значит, всё хорошо. От восторга даже слёзы невольные выступили на глазах у самолюбивого, чуткого мальчика.
И всё-таки хорошо пошло, да недолго, жаль. Году не прошло, а 3 января 1542 года гроза нагрянула, всё от того же повета, от двора Шуйского. Извёлся князь Иван Шуйский, думу думаючи. Сердце одна мысль только и жжёт: растёт, крепнет царь Иван. Говор про дела ребёнка милосердного в народе пошёл. Раньше словно и не знали на Руси об Иване Четвёртом, царе-отроке. А теперь, где тот ни появится, толпа собирается… Здравствуют, «многая лета» кричат… Ещё два-три года так пойдёт, и с волчонком вовеки не справиться… Бельские совсем одолеют, хоть на Литву всему роду Шуйских уходить… Не может быть этого.
Решился тут Иван Шуйский на последнее. Из Владимира, где жил после опалы князь, засновали гонцы. И в Москву скачут к заговорщикам-боярам, к друзьям Шуйских, к недовольным новыми порядками… И в Новгород, в прежнюю вотчину Шуйских, в былой вольный город вечевой вестники поскакали…
Все новгородцы на клич сошлись. В ночь со второго на третье января Шуйские в Москву прибыли, в город проникли. И триста человек с ними дружины, сильной, на всё готовой, оружием увешанной…
Сторожа во дворе Бельского кто спал, кто подкуплен был, других сразу захватили: крикнуть, тревогу поднять не дали.
Проснулся, вскочил Бельский, когда уж в соседней горнице шаги раздались.
– Кто там? Ты, Алексеич? – спрашивает.
Думает: дворецкий по делу какому спешному. А уж полночь пробило давно.
– Василич, а не Алексеич! – вбегая со своими приспешниками, крикнул Шуйский.
Опомниться Бельский не успел, к оружью не поспел кинуться, как уж связан был, кое-как одет, в телегу брошен и вон из Москвы с рассветом вывезен. В заточение далеко увезли его, в крепость на Белоозеро… А потом, чтоб совсем спокойно спать, поехали в мае туда трое холопей Шуйского и удушили князя. На сеновале спрятался он было… Здесь и нашли его, в сено сунули головой, сами навалились сверху, пока не задохнулся несчастный. Князя Петра Щенятева и Сицкого, вдохновителей Бельского, тоже забрали, по городам рассадили.
В испуге вскочил юный царь Иван, крепко спавший давно, когда влетел к нему бледный, окровавленный весь Щенятев. А за ним и новгородские буяны, пьяные, срамные, с криком да гомоном, в шапках, к Ивану в покой ворвались… Не было достаточно стражи во дворце.
– Стойте, холопы… Что вы?! Как вы смеете! – крикнул было царь.
– Ишь ты: холопы!.. Как поёт! Тоже приказывает! Молод ещё. А мы и сами с усами, гляди: нос не оброс!
И с глумлением, с прибаутками потащили вон Щенятева. Часу не прошло, вбежал сам митрополит Иоасаф, очевидно, не зная, что здесь произошло.
– К тебе прибегаю, государь!.. К владыке земному… Агаряне нечестивые в Чудовом обложили меня. Я в Троицкое подворье… Там запрусь, думаю. Да ведь черно от силы от ихней идумейской, диавольской!.. И сам антихрист, Шуйский Иван, ведёт… Спаси, государь… Стражу кликни…
Но стража ни к чему не послужила. Малое число людей Бельский ставил во дворце, опасаясь дать отроку Ивану в руки много ратных людей. Теперь сам поплатился за это.
Вторично с криком и гомоном ворвалась буйная, дикая, полупьяная ватага в покои царя.
Во главе – Шуйский Иван.
– Как посмел ты без приказу моего с Владимира съехать? – перепуганный насмерть, но бодрясь ещё, спросил строго юный великий князь и выступил вперёд…
Толпа назад подалась. Иоасаф в это время успел через другую дверь вон убежать и кинуться в Троицкое подворье.
Шуйский на слова царя грубо оттолкнул его от себя и крикнул:
– Молчи, литовское отродье… Волчонок молодой… Иоасафа лучше головой нам выдай! Изменник он земле, и сместить его надобно, иного пастыря стаду дать…
Вне себя от обиды, от грубого толчка, мальчик остервенел… С пеной у рта схватил со стола у постели тяжёлую книгу с застёжками в кожаном переплёте и ударил ею обидчика.
Шуйский успел уклониться… Слегка только поцарапало висок ему углом… Ещё грубее и более злобно схватил боярин мальчика и швырнул его на кровать. Падая, тот ударился головой о край деревянной стенки… Весь вытянулся, затрепетал, и сильнейший, ещё небывалый с мальчиком, припадок судорог тут же начался…
– Ну, ладно, оздоровеешь… – крикнул бездушный крамольник и кинулся со всеми по следам Иоасафа, к Троицкому подворью…
Совсем дикая сцена разыгралась там.
Новгородцы не только ругали, поносили старца, но и удары стали ему наносить…
– Братья! Отчичи! – вне себя крикнул троицкий игумен Алексей. – Какой грех творите, подумайте… Именем святителя Сергия молю и заклинаю вас: не касайтесь главы священной…
– Главы?! Да мы и не по главе можем! – глумливо заголосили злодеи. Но всё-таки сдержались.
В Кирилловом Белоозёрском монастыре заключили Шуйские Иоасафа, а на митрополичье место посадили «старателя своего», – новогородского же архиепископа Макария, давнего друга царя Василия.
Главное было сделано: власть вернулась в руки Шуйских. С ними ликовали и Палецкие, и Кубенские. Но душа заговора, князь Иван, не пожал плода от злодеяний своих: через год его не стало. Отравили, говорят…
На первое место стали Иван да Андрей Михайловичи Шуйские да Шуйский-Скопин, князь Феодор Иванович…
Год прошёл ещё.
С той ужасной ночи и после сильного припадка падучей круто опять изменился великий князь. Замолк, побледнел, осунулся… Не слышно стало смеха частого, который так и звенел раньше в каждой горнице, где Иван с братом играл либо с ребятами голоусыми. Это все были дети бояр и дворян значительных, которые наверху, в царских покоях воспитывались, как сверстники отрока-царя.
Отстал от игр Иван. Читает только по-старому много; ещё больше прежнего.
Из «верхних» ребят любимец у него объявился, старше его года на три-четыре, Фёдор, сын Семена Воронцова.
Испорченный средой дворцовых рынд, заменявших пажей при московском дворе, Воронцов рано дал волю своим похотям и сумел пробудить их в царе.
Конечно, зло скоро было замечено. Но Шуйским казалось, что это даже к лучшему. Надо было охладить народное расположение к нему.
И сначала Воронцова терпели, позволили развращённому мальчугану портить сверстника-государя своего.
Иван позабыл и любимые книги, и прежние забавы, словно совсем отупел; только и делал, что по углам сидел да секретничал с Воронцовым, в сад уходил с ним, в аллеи тёмные… У себя в опочивальне оставлял, «для охраны», как он говорил, «если опять нездоровье с ним случится». А припадки стали всё чаще повторяться…
Скоро враги Шуйских с присными своими стали подумывать, что можно сделать через Федю. Через отца Воронцова, падкого на подкуп, стали они сына его учить, как надо вооружать Ивана-царя против правителей.
– Знаешь, Ваня, – мягким голосом, с ленивою, томною манерою стал нашёптывать как-то вечером Воронцов Ивану, – Шуйские-то всю казну отца твоего себе перетаскали… И сейчас не столько добытку в твою казну идёт, сколько к их рукам прилипает. Ты бы отца моего к казне большой приставил… Вот тогда заживём мы с тобой…
– Ну, что ты?! Не видал разве, миленький, как они со мной? Не чинятся ничуть… Словно они государи, а я ихний вотчинник.
– Да сам виноват!.. Пригрозить не умеешь.
– Чем грозить-то?
– Вот на! Да откуда сила у них? – повторяя натверженный отцом урок, заговорил Фёдор, и по виду, и по речи похожий не на юношу, а на переодетую девочку. – В чём сила, знаешь ли? В имени твоём царёвом!.. Напиши на лоскутке бумаги имя своё… Да хоть мне или отцу моему в руки дай… Я любому воеводе прикажу перехватить их да удавить… Нынче же… А то скажи им раньше: «Мол, если не сделаете по-моему, на площадь выйду… На Лобном месте стану, клич кликну: «Народ православный, люди московские!.. Кто заступится за меня, спасёт от боярского своеволия?..» И струсят они тут же! Уж помяни моё слово!..
– Хорошо, Федя. Хорошо, миленький!.. – пообещал царь-мальчик другу и скрепил поцелуем обещание.
Всё исполнил, всё повторил при первом же случае Иван, что Федя ему говорил. Дело было в Столовой палате, на обычном совете государевом 9 сентября 1543 года.
Нахмурились Шуйские, зароптали Куренские, Пронские, Басманов Михаил с ними и Федька Головин.
– Что за речи негожие? Откуда их взял ты, государь, не потаи!..
– Ниоткуда не взял! – упрямо хмурясь, ответил государь. – Сам я так надумал, решил… Сам так и сделаю… Пиши, дьяк!.. – обратился он к дьяку палатному.
Тот, не зная, что делать – писать или нет? – переводил глаза с Шуйских на Ивана и обратно.
Андрей Шуйский, теперь первый в роду, только бровью повёл – и дьяк застыл в своей прежней бесстрастной позе, словно и не слыхал слова царского.
– Пиши, говорю, собака! – крикнул, бледнея, отрок.
– Потерпи малость, государь… Всё будет написано и сделано. Да обсудить же малость дай… Не простая вещь… Вишь, Воронца Сеньку к большой казне приставить… Волка овечье стадо стеречи… Не изменишь ли волю свою государскую?