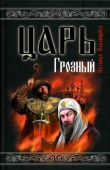Текст книги "Третий Рим. Трилогия"
Автор книги: Лев Жданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 41 страниц)
ГОД 7038-й (1530), 25 АВГУСТА
Весёлый, радостный перезвон так и стоит над Москвой златоглавою, словно в Светлое Христово Воскресенье! Не успеют затихнуть колокола в одном месте, как в ином, тем на смену, начинают заливаться другие…
А самый большой, соборный «боец-колокол» без устали так и гудит, словно шмель между пчёлами, пуская свою басовую ноту: дон-дон… дон-дон!
И в его гуденье вплетается малиновый перезвон монастырских, небольших, но серебристых колоколов: динь-диль-динь! Динь-диль-динь! Динь-диль-динь-диль, динь-диль-динь!..
О чём говорят, о чём поют-заливаются колокола, эти спутники жизни людской, христианской?
Отчего толпы московского люду, хоть и не праздник, но запирают лавки, покидают торжища, бросают все дела и работы и бегут, валом валят туда, к Кремлю, из которого подан был первый сигнал к необычайному благовесту?..
Радость великая для Москвы, для всей земли Русской: у государя, великого князя Василия, и молодой княгини Елены, роду Глинских, – сын родился.
– Да сын ли? – спрашивает на бегу немолодой посадский другого из толпы, который тоже спешит к Кремлю, уже на ходу надевая на себя кафтан понаряднее.
– Сын, сын, Кириллыч! Уж так было сказано. Да нешто по звону не слышишь, что сын?.. Ведь вон и старец блаженный, юродивый Христа ради-для, прорицал нашей княгинюшке: «Родится у тебя сын – Тит, широкий ум!..» Конечно! Сын!.. И Тита нынче память аккурат, угодника… Двадцать пятое августа…
– Слава Те, Господи. Не сиротеет земля!..
И оба бегут дальше, а сзади ещё и ещё катятся и набегают народные волны… И все не с горы, а в гору катятся… туда, к высоким теремам кремлёвским.
– Слышь! – орёт один парень другому. – Поторапливай! Столы от князя ставить будут… Место бы получше захватить!..
И все бегут… И женщины, и дети, и старухи… Иные падают от усталости, но опять подымаются и мчатся вперёд.
А из Москвы гонцы скачут… Боярам-наместникам, разным воеводам и тиунам весть подавать, кого следует, светских людей и пастырей духовных, на крестины звать… Радость великая совершилася! Долгожданный наследник дарован великому князю и всей земле. И попутные жители, селяне и горожане, которым, мимо проносясь, развещали желанную весть гонцы, – все от радости обнимались и целовались по-братски; без праздника – пир и праздник снаряжали. Всем близка была радость княжая, долгожданная.
Ведь шутка ли, четыре бесконечных года ждать пришлось.
Царь Василий – совсем угрюмый, словно ночь, тёмен ходил. И подумывать даже стал:
«Неужто права была Соломония: я виной в бесплодии её? Али сбылось её слово – проклятие страшное, какое в злобе она изрекла?! Ведь до чего озлилась баба!..»
Вспомнил он, какую кашу сумела заварить разведённая за бесплодие жена, едва привезли её в монастырь.
Не успел князь обвенчаться с Еленой, как слух повсюду прошёл: тяжела-де разведённая княгиня… И должна родить на скорях. Выходит: не ради бесплодия постриг и сослал её государь, а просто прельщённый молодой литвинкой полонённой.
– Кто слышал о том? – спросил Василий у Шигони, который поспешил известить повелителя о новой клевете вражьей.
– Кто слыхать мог? Сама старица София двум жёнкам знатным толковала про то: Юрьевой жене, когда та приехала навестить по старой дружбе княгиню…
– Юрьева жена? И мне ни слова? Плетьми её, сороку стрекотливую… Нынче же… Будет знать, как языком трепать, а мне и не доводить ничего… А ещё?
– Ещё постельничего твоего Якова жёнке, Аринке Мазуровой, княгиня говорила. Те дома потолковали… От слуг да мамок и говор пошёл.
– Обеих баб подальше убрать… Чтобы не слыхал я о них.
Приказал Василий и сам задумался.
Шигоня стоял и ждал.
– Как полагаешь: правда ли? – спросил Василий.
– Чтобы прямая правда была – не думаю. А только тоже слышал я: в злобе сказывала княгиня: «Хошь от клятого самого, да будет мой сын у князя великого». Чтобы потом чего не было, теперь поразведать бы надо, княже!
– Конечно. Потату пошли… да Рака, Феодорика. Он же и по лекарской части силён. Пусть доведаются. И если супруга моя строптивая в самом деле чадо мне теперь подкинуть сбирается, на срам миру всему да на смуту… так…
– Не тревожься, государь. Не будет того, чего тебе невместно или ненадобно! – многозначительно произнёс боярин, поклонился и вышел.
Поехали княжеские доведчики. В монастыре их уже ждали, словно уведомленные о наряженном следствии.
Дверь в келию старицы Софии оказалась запертой. Мать игуменья, позванная на допрос, и все сёстры согласно показали.
– Мало мы вхожи к старице Софии. Своя челядь у неё и девки свои же. А сказывали, правда, что лежала, болезновала княгиня. И младенчик теперь объявился у ней, и будто Георгием крестили его.
Силой взломали двери посланные, вошли к Соломонии, приказав с места никому не трогаться! Через четверть часа вышли бояре оттуда.
Крики и проклятия постриженной неслись за ними вслед. Но её держали и не пускали из кельи два пристава, приехавшие с Потатой и Раком.
– Ничего нет. Всё – одно злосшивательство хитрое, государю на досаду. А правда, не в своём уме словно старица наша! – сказал Потата игуменье. – Пошли-ка двух сестёр поздоровее. Пусть в постели её подержат, как связана она лежит… Пока припадок пройдёт. Мы ж князю всё донесём, что видели.
Сёстры пошли к несчастной, а княжие посланцы уехали.
В обширном помещении, отведённом постриженной Соломонии, царил беспорядок, словно борьба происходила большая или шарили, искали здесь чего.
Но ребёнка какого-нибудь или следов его нигде не видно, как ни шнырют монашенки.
Говор не смолк, но надвое теперь пошёл.
Одни клялись: был младенец да людьми Василия, князя великого, увезён и загублен. Другие душу в заклад ставили, что и не было ничего, и быть не могло.
Вспомнил всё это теперь Василий, один знавший истину, и вздохнул.
Третий год шёл к концу после второго брака – а всё праздной ходила Елена, новая княгиня великая.
Чего-чего ни делал Василий. И лекаря восточного звал, травами и разными зельями тот пользовал его и рыбий камень пить давал… И к ворожеям, к наговорницам, презрев запрет христианский, ездил и ходил тёмною ночью государь, таясь от людей… Ничего не помогало.
Смотрели княгиню знахари и знахарки много раз – и все говорили:
– Здорова княгиня и плодородна!
– Значит, я виной… За мои грехи старые род мой без потомства останется, пересечься должен? Не хочу я! Не бывать этому!
И странные мысли порою западали в голову полубольному князю, который только и старался, что подобрее выглядеть при красавице – молодой жене.
Нередко с завистью посматривал он на любимца, постельничего своего, на молодого богатыря Ваньку Овчину, князя Телепнева-Оболенского. Кроткий, тихий и незлобивый, хотя и храбрый в бою, Иван не одному князю был близок и мил. Отличала его и молодая великая княгиня. При виде боярина вспыхивало побледнелое, прекрасное личико литвинки, снова огнём загорались её потухшие, усталые, печальные глаза, звенел порою прежде весёлый, детски беззаботный смех, который всегда так пленял Василия, ещё когда он спознавался с девушкой.
Замечал всё это муж. Больно ему было, и ничего не мог сказать. Княгиня держала себя, как и надо быть госпоже с любимым слугой мужниным. Овчина обожал молодую княгиню чисто, по-юношески, даже не скрывая этого. И был с нею так почтителен, как больше требовать нельзя.
И, покачивая седеющей головой, высокий станом, но исхудалый от болезни, согнувшийся, Василий думал про себя:
«Да, пара он ей! Не тебе, старому, чета. Да вот не судил им Бог».
И, по какому-то странному случаю, даже тени ревности не шевелилось в сердце старого, «грозного», как порой прозывали его, великого князя.
Между тем вешние светлые зори сменялись знойными, тёмными, летними ночами. Шли месяцы, годы. Три их ровно прошло. Всё остаётся бездетной Елена. И стала она ездить по разным ключам чудотворным, воду пить… По местам святым, по монастырям, которые славились чудотворными иконами, мощами святых целителей или живыми молитвенниками-схимниками, известными жизнью строгой, святой и непорочной; всюду бывала. И молила там княгиня за себя и за мужа… Просила даровать ей чадо. Вклады богатые делала и поминки давала… Нищих кормила, оделяла… Всё напрасно!..
В этих поездках порой сопровождал её сам Василий, а за недосугом посылал провожатым кого-нибудь из приближённых, чаще всего – кроткого и преданного Овчину; сестра же его была в приближенье у Елены. Искренно расположенная к брату, Елена старалась приласкать и отличить во всём его сестру Аграфену, жену боярина Челяднина.
Однажды государь сказал Елене:
– Что бы ты не съездила к святому Пафнутию? Далеконько, правда… Да ведь и матери ж моей, сказывают, святитель в таком деле помог.
– На край света поеду, лишь бы в угоду тебе, государь! – отозвалась Елена.
Сборы были недолгие. Несмотря на конец сентября, погода стояла чудная. И вскоре по дороге в боровской Пафнутьев монастырь выступил длинный поезд, центром которого являлась колымага Елены.
Сам Василий, за недосугом, поехать не мог, а послал с ней князя Михаила Глинского, дядю её, да Ивана Овчину с людьми.
Вся поездка прошла, как миг один, как сон для княгини молодой и для её телохранителя верного. Вокруг, не считая челяди, все люди близкие, родные, её дядя, его сестра… Этикет, все разряды и чины – забыты… Осеннее ясное небо над головой. Сжатые нивы желтеют по сторонам… Золотятся рощи берёзовые, покрытые пожелтелым осенним покровом… Дрожит багряными листами осина по перелескам… Тянут стаи птиц на юг…
– Туда бы и мне за ними! – вырвалось как-то у княгини, заглядевшейся ввысь. – Они пролетят над Литвою далёкой, над родиной моей…
– Да разве так уже плохо тебе с нами здесь, княгинюшка светлая? – отозвался Иван, ехавший поручь колымаги и не сводивший глаз со своей госпожи.
Елена взглянула на него, покраснела отчего-то и невнятно промолвила:
– Нет. Сейчас – хорошо!
* * *
Прибыли наконец в обитель.
Приняли их честь честью. Княгиня отдохнуть пошла. Князь Глинский и Овчина, по зову настоятеля, явились на трапезу.
Тут, конечно, зашла речь о цели приезда великой княгини.
– Пафнутий – святитель, скоропомощник во всём! Он исполнит желание князево! – отозвался убеждённым голосом настоятель, отец Илларий.
– Верим, отче!.. Всё от Бога. Он всё посылает… – подтвердил князь Михаил Львович Глинский. – А, кстати, скажу, что мне на Литве ещё, на родине прилучилось одного разу. На полеванье я был… Молодым ещё… С хортами выезжаю… Доезжачих два, не то три – разъехались по следам… Я поотстал. Жду пока что. Спешился, на траву прилёг да лежу себе. А так, по дороге, что лесом шла, двое плетутся… Крестьяне простые. Муж и жена, видно… Поклон, вестимо, отдали. Он – мужик как мужик. Худой, долговязый… Видно, немало лямку на веку потянул. А баба – красавица писаная. Прямо – крулева. Ответил я им на привет и пытаю: кто? да откуда? Назвали они себя. «А идём, – говорят, – из монастыря ближнего. Там, в кляшторе в самом, икона чудотворная… На второй, – говорит мужик, – я жене женат… И добыток немалый имею… Три хутора у меня. А детей нет. Сколько лет копил да трудился, и всё придётся не то чужим людям покидать, не то родичам, что хуже мне чужих… Вот и молю Бога, не даст ли утешения: дитя не пошлёт ли?»
Поглядел я на него, на неё… Она, словно вишня, рдеет. Глаз не видно, до того ресницы густы да тяжелы опущенные. Ну, говорю: дай тебе Бог! А жене твоей – особенно… «Да, – говорит, – что женино, то и моё будет. Слышь, пан: очень ты от сердца мне пожелал. Не сбудется ли слово твоё? Возьми, для счастья, хоть на короткий срок работницей жену мою себе на двор… Не корысти ради прошу. И не возьмём мы ничего с тебя… Позволь только, пан».
Подумал, подумал я и пытаю её: «Пойдёшь ли на короткое время со мной? Поживёшь ли на дворе моём?» Совсем сгорела от сорому, бедная. Глянула быстро на меня, словно стрелой уколола, да и шепчет губами коралловыми: «Воля, – говорит, – мужняя и твоя. Возьмёшь – пойду!»
Только мне и нужно было. Вскочил я на коня, взял её на седло, назвал себя и говорю: «Ну, приятель, раньше чем через месяц – и глаз ко мне не кажи. Не пущу своей работницы». Дал шпоры коню и поскакал. Через месяц, по уговору, явился мужик, взял жену… Справлялся я потом: чудный хлопец, сын у него. Всё меня холоп вспоминает, за доброе пожеланье благодарит…
И густым раскатистым смехом заключил свой рассказ вельможный князь.
– Всё бывает… Всё от Бога! – кивая задумчиво головой, проговорил игумен.
А Овчина сидел, погруженный так глубоко в какие-то размышления, что и не слышал, как кончилась трапеза, и опомнился только, когда ему сказали, что молиться надо.
Настала ночь. Горячо помолившись, Елена сидела у окна отведённой ей кельи, выходившего прямо в тенистый, чудно возделанный монастырский сад. И дивилась: отчего он так пуст? Отчего ни монахов, ни послушников не видно здесь в такую тёплую, дивную, осеннюю ночь? Но потом она вспомнила, что двух-трёх часов не пройдёт после минувшей долгой, утомительной церковной службы, и снова выйдут из своих келий разбуженные братья, и снова потянутся под звуки колокола в ту же душную церковь, на новое долгое, утомительное бдение… Но показалось ей или кто-то ходит в саду?..
Нет, не ошиблась она… Сердце подсказало ей: это он. Ему тоже не спится. И скользит он тихо-тихо по аллеям тёмного монастырского сада, желая хоть на окно поглядеть, за которыми спит она, госпожа и властительница души его.
– Ты, Ваня? – почему-то тихо спрашивает она.
– Княгинюшка светлая… Ты сама… не спишь?.. – смешавшись почему-то, еле может выговорить этот могучий, статный витязь, сейчас робеющий, словно ребёнок.
– Не сплю… Мои все заснули… Крепко… Не бойся… С дороги – умаялись… Подойди, поговорим…
И он подошёл… И долго, до зари румяной толковали они…
Только когда к заутрене в колокол ударили, едва оторвался, отошёл Овчина от кельи княгининой и долго всё оглядывался на окно юной, тоскующей госпожи своей…
Утром княгиня Елена все святыни обошла монастырские, везде приложилась… Схимник, старец Савватий, благословил её на чадородие и просфорой одарил…
Ещё три чудные ночи провела Елена здесь, коротая их с Овчиною…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Весела и радостна приехала княгиня домой…
Все хорошие приметы да пророчества ей были по пути.
А месяца через два и князь великий Василий Иванович расцвёл, словно моложе лет на тридцать стал. Великую тайну, зардевшись, поведала ему княгиня. А Челяднина, её приближённая, подтвердила…
А через девять месяцев, 25 августа 1530 года, весело зазвонили все колокола московские, оповещая мир о радости великокняжеской, о рождении первенца, наречённого по деду Иваном, четвёртым в роду князей московских.
Забыл государь всю немочь, за последнее время одолевшую его, и крамолу боярскую, которая нет-нет да и подымет голову, словно василиск-змея из-под пяты… И всё нелады и прорухи на литовской, на татарской границе… Всё забыл, ходит светел, радостен… Богатыми дарами одарил, кого только мог… Мамкой княжичу назначил всё ту же Аграфену… Крестины справил – миру на удивленье. Быки целые жареные на площадях для народа стояли, вина и мёду бочки были выкачены из погребов… А в княжеском дворце дым коромыслом две недели шёл…
Любимые монахи из Иосифовой Волоколамской обители Кассиан Босый и Даниил Переяславский были восприемниками княжича от купели, отцами его духовными назначены и приняли с рук на руки на убрус белый от самого митрополита.
И не только люди, сама земля Русская приняла, казалось, участие в великом событии: в позднюю осеннюю пору грозы пронеслись над Русью надо всей… Земля во многих местах колебалась именно в тот день и час, как родился великий княжич Иван Васильевич.
– Грозный будет волостель! – толковали при этом, покачивая головой, старые люди. А молодые веселились и радовались.
И немолчно звенел-разносился малиновый звон над Москвой златоглавою.
Глава IIIГОД 7041-й (1533), 22 СЕНТЯБРЯ – 4 ДЕКАБРЯ
Тихим осенним утром 22 сентября выехал из Москвы государь, великий князь Василий Иванович к Волоку-Ламскому, в гости к Шигоне, да в монастыри заглянуть в попутные, да поохотиться.
Чует Василий, что засиделся в душных покоях кремлёвских, теремных, натрудил голову думами государскими, счетами да расчётами, заботами хозяйственными и семейными. Николка Люев да Феофил-фрязин, оба лекаря царских, одно говорят:
– Обветриться бы надо, государь…
Кроме челяди охотничьей, ловчих, сокольничих, псарей и выжлятников, много бояр ближних и воевод поехало на охоту с царём.
И оба брата царские тут же: Андрей да Юрий Ивановичи, хотя последнему что-то не доверяет старший брат.
Из бояр – Иван Васильевич Шуйский, Дмитрий Феодорович Бельский, князь Михаил Львович Глинский, Годунов и многие другие; блестящей вереницей, кто верхом, кто в колымагах и каптанках, едут в царском поезде.
Из молодых бояр здесь скачут на аргамаках, кроме неизменного Овчины, два князя Димитрия – Курлятев и Палецкий; Кубенский князь Иван; Феодор Мстиславский, племянник государя, и другие. Иван Юрьевич Шигоня, с братом Михайлой, тоже в поезде и прихватили трёх дьяков про всякий случай: Циплятева Елизара, Ракова и Афанасия Курицына, кроме двух ближних дьяков царских Григория Никитича Путятина и Феодора Мишурина и стряпчего Якова Мансурова. Да всех не перечесть.
Государыня Елена с трёхлетним Ваней и годовалым Юрой в крытом возке большом едут. Боярыни ближние с ними: Анастасия Мстиславская, Елена да Аграфена Челяднины, золовка да невестка; Федосья Шигонина, Аграфена Шуйская, сама княгиня Анна Глинская, матушка Елены. И веселы, рады всё, что из душных светлиц своих вырвались: так и стрекочут всю дорогу.
Погостив деньков пять у Троицы, к Волоку тронулись. Государь – всё верхом больше. А на левом бедре у него давно уже зыблется опухоль подкожная, холодная пока, не болезненная. И вот до села Озерицкого ещё не доехали, как беда, стряслась. Седлом, что ли, растравило болячку, но появилось в середине у неё пятнышко небольшое, багровое. Болеть – не болит, но разбитым стал чувствовать себя Василий. Миновали Нахабино, Покровское-Фунниково. Царь уж, гляди, и с коня слез, с царицей едет.
В Покровском – Покров Богородицы справляли, задержались дня на три. На Волок на Ламский совсем нездоров приехал Василий. В пятницу еле сидел на пиру у Шигони. В субботу, 4-го, едва и в мыльню сходил помыться, попариться: не легче ли станет? Стол уж в постельных хоромах накрыли больному царю. За два денька отлежался, поправился. Чудное выпало утро во вторник. Не выдержал Василий.
– Федю Нагова позвать мне! Бориса Васильева Дятлова! Ловчим велеть изготовиться. В поле сегодня хочу пуститься!..
Лекари царские, оба, так руками и всплеснули.
– Государь!.. – начал было Люев.
– Ладно, знаю… Лучше мне сейчас! А погода, гляди, какова? Без лекарства поправлюсь, гляди. Вам бы небось не хотелось? На что вы мне оба тогда?.. Ну, не мешайте…
Подали коней, загремели рога, и пустились в поле все, на Колпь, на село, где охота большая.
– Что, государь, али неможется? – спросил у Василия князь Мстиславский, скакавший за дядею-царём, видя, как морщился тот на скаку.
– Что-то оно не того. А терпеть всё же можно…
– А не вернуться ли нам на Волок, государь?
– Ну, вот, была нужда! – ответил Василий. – Стоило из ворот выехать, чтоб от угла да назад повертать. Хорошо полеванье! Ехали ни по што, приехали ни с чем. Таков ли я? – сам знаешь. Что в большом, что в малом – люблю дело до конца довести… Да и хворь-то пустая: нога болит! Давно она у меня, лихо бы ей – знать себя давала. Подурит да и перестанет. Ведь своя, не удельная! – пошутил князь.
И поехали дальше. Любит на кречетов царь поглядеть.
К полудню в Колпь все вернулись. Столы уже накрыты. Почти и есть царь не стал. А всё же дал знать брату Андрею, чтобы поспешил и тот сюда. После обеда псовая охота началась.
Трёх вёрст от Колпи не отъехали, с царём что-то неладное случилось.
– Федя… Андрей! – громко стал звать вдруг Василий племянника и брата.
Напуганные, те подскакали вплотную и еле поддержали Василия, который в беспамятстве уже валился с лошади.
На землю положили попону, сверху покрыли своими кафтанами, уложили бережно Василия.
– Княже, что с тобой?.. – тревожно спросил его Мстиславский, как только сомлевший князь раскрыл глаза.
– Сам не знаю… Что-то сердце замутилось… И в ногу в недужную ударило… Погляди: что с ней?.. Стой… Не трожь… Больно!.. – вдруг крикнул он, едва Мстиславский взялся за сапог, желая разуть князя.
– Как же быть, княже?.. Сам велишь поглядеть…
– Да, правда. Ну, делай, как знаешь. Потерплю…
Но Мстиславский догадался: обнажил свой охотничий нож, запустил конец его осторожно за голенище княжого сапога, провёл книзу, распорол кожу – и сапог сам свалился с больной, распухшей и посиневшей ноги.
Всех сразу так и поразил тяжёлый запах, пахнувший им в лицо.
Взрезав также мехом подбитый чулок, надетый на Василии, разрезав платье исподнее, Мстиславский с ужасом увидал, что опухоль на бедре, утром ещё покрытая воспалённой кожей, теперь прорвалась в середине, где было видно небольшую, словно железом калёным выжженную в теле, круглую язвочку. Скрывая охвативший его ужас, Мстиславский быстро прикрыл кое-как ногу князя и, поднявшись с земли, сказал:
– Оно пустое, княже: прорвало там… А всё бы домой тебе скорей поспешить. Да не к Волоку, а на Москву… Залечить надо, худа бы не было… Больные ведь давно ноги твои.
– Домой?.. К Волоку – можно, пожалуй… Только как же?.. Трудно мне… на коня сесть… Как быть?..
– Ну, вот пустое… Сейчас всё наладим!..
И правда, пяти минут не прошло, как на древках двух рогатин прикрепили хорошее рядно, которое нашлось в тороках; на рядно положены были попоны мягкие, князя уложили осторожно на эти широкие, удобные носилки, и весь поезд быстро двинулся в путь, стараясь не потревожить как-нибудь больного государя.
Вершники и доезжачие посменно – четверо враз – носилки несли так бережно, ступали так легко и невалко, что Василий, едва миновала дурнота, даже заснул, убаюканный колыханьем, словно младенец в люльке.
В испуге навстречу носилкам вышла Елена.
– Что было? Что с государем случилось?..
– Пустое, голубица моя! – предупреждая других, заговорил быстро Василий. – Ногу, вишь, ушиб, в яму оступился с конём… Жилу растянул… Через день всё пройдёт.
Успокоилась Елена. Василия в его опочивальню отнесли. Осмотрели врачи язву вечером, ничего не сказали.
– Утром, при свете поглядим, государь.
Утром долго глядели, рассматривали и Люев, и Феофил.
Лица вытянутые у обоих.
– Плохо, что ли? Правду говорите.
– Плохо – нельзя сказать. Долго затянется.
– Что же делать? Недельки через три в Москву надо ворочаться. Хоть к той поре оздороветь бы.
Качают головами…
– Ну, четыре-пять недель…
Молчат и головами качают…
– А! Домовой бы вас придушил, леший бы унёс с глаз моих, и навечно! Онемели вы обое или злить меня сговорились? Так глядите!..
И он протянул руку за посохом, часто гулявшим по спинам не только лекарей-басурманов, но и первых бояр и князей…
– Государь, не гневись… Послушай! – заговорил более смелый Люев. – Мудрёный ты вопрос задал. Мы знаем, что болезнь, вот как твоя, и на полгода затянуться может, и в месяц её выгнать удаётся… А если мы скажем, срок назначим и ошибёмся, ты же нам верить перестанешь. Без веры – куда трудней будет лечить тебя… Сам ведаешь…
– Сам понимаю я, что шуты вы гороховые, а не лекаря учёные. Попам вера нужна! А с вас будет и знания… Ну, да шут с вами… И то, обозлить вас, так вы мне такого поднесёте, что кишки все вымотает!.. Тьфу! И я дурак, связался с басурманами, да ещё с лекарями. Вон у нас: лекарь да аптекарь хитрей цыгана да жида почитаются. Нешто вы правду скажете? Лечите уж, как знаете сами… Не обижу…
– А ещё, государь: княгиню-государыню тебе лучше на Москву отправить вперёд… Ты заметил: дух нехороший от язвы. И всё тяжеле он будет… пока мы не вылечим тебя. Хорошо ли, чтобы государыня… С царевичами?.. Лучше, право, не быть им при тебе…
– Сам понимаю… Сам о том думал…
И, подготовив понемногу Елену, он через две недели отослал её с детьми на Москву, в сопровождении части своей свиты…
К этому времени язва, раньше сухая, стала выделять больные ткани… Окружность её росла хотя медленно, но неудержимо.
Больше и спрашивать не стал Василий: опасно ли он болен? Аппетит пропал… Силы тают с каждым днём. А нелюбимый брат Юрий так и вьётся у постели.
Не выдержал Василий.
– Ты бы, брате, к Дмитрову, к уделу своему поспешал. Давно, гляди, не был там…
– Да я так думал, брат-государь, болен ты…
– Что ж, ты лечить меня станешь али залечивать? Так вон у меня своих таких двое! – указал на лекарей государь. – Морить – куды горазды!..
– Шутить всё изволишь, брате-государь… Ин не стану супротивничать, поеду, коли не хочешь видеть меня. Благослови, брат-государь, в путь-дорогу.
– Бог благословит.
Юрий уехал. Вздохнул свободнее Василий.
Сейчас же тайком, чтобы жена не знала даже, послал Мансурова и Путятю Меньшого в Москву.
– Вот ключи… В подвале, в Архангельском соборе, сундук железный… Протопоп Иван знает. А в сундуке – ларец… А в ларце – духовные грамоты отца и деда нашего… Привезите… Видно, пора и свою писать, как по старине полагается…
* * *
Когда привезли грамоты, долго толковал со своими советниками тайными Василий. Была написана и его духовная. Подписал её царь. Пришлось звать свидетелей для подписи. Бельский, Шигоня, Шуйский и Кубенский подписались и крест целовали на том, что до сроку никому ни слова не проронят о грамоте.
14 ноября ночью, в тревоге, заглянул к больному другой брат, Андрей, с которым всегда был дружен Василий.
– Не спишь, государь? Слышу: читают тебе псалмы божественные… Я и заглянул…
– Рад, рад… Не спится теперь по ночам. Днём – всё так вот и спал бы. А ночью – душно, тяжко. Грудь совсем заложило… Плохо лечат, проклятые…
– А ты бы других…
– И то. Вон, за гетманом Яном послал. Он казак. А у них тайные есть зелья разные… Пусть попользует! Он много народу на Москве выпользовал. Да что ты такой, словно напуган?
– Чудо творится, брате… Дождь огненный с неба.
– Что ты?.. Где? В какой стороне? Как бы лесов да деревень не пожгло… Убытки, гляди, будут какие?!
– Нет, брат-государь, не то чтобы огонь простой… Звёзды с неба так и сыплются…
– А! Ну, это не опасно… И много?
– Видимо-невидимо. Да вот, взгляни, пожалуй, государь.
Андрей поднял занавес у окна, оттолкнул тяжёлый ставень и указал больному брату рукой на тёмно-синее ночное небо.
Было новолуние. Звёзды, не затемняемые месяцем, ярко сияли, переливаясь мерцающим блеском в прохладном, влажном воздухе. Левей от окна, в южной части неба происходило нечто удивительное. Падали звёзды. Не изредка, как это бывает всегда, а блестящим частым огненным дождём…
– В глазах начинало рябить и пестреть, если долго, не отрываясь, глядеть на восхитительное зрелище…
Долго смотрел Василий, то прищуривая, то снова широко раскрывая глаза.
– Пятница нынче?..
– Так, государь.
– Завтра – Димитриевская суббота… Понял, понял…
– Что понял, брат-государь?
– Большая звезда скоро с земной вершины скатится… Туда, в бездны… Помилуй мя, Господи, по великой милости Твоей…
– Э, брат-государь, пустое! Оздоровеешь скоро, вот увидишь.
– Ладно. И то хорошо. Прикрой ставень… Полы-то спусти оконные… Зябну я все… Ну, с Богом, ступай спать, Андрейко. Може, и я усну.
И Андрей вышел из опочивальни.
Словно напророчил облегчение брату Андрей.
Наутро громадный стержень вышел из раны у Василия. Князь ожил, повеселел, стал надеяться на выздоровление. Лекарь-казак, гетман Ян, приехав, мазями своими опухоль согнал с больной ноги. Не лежит она больше такая неподвижная, огромная, как прежде, словно бревно, мешая дышать, не давая сделать ни малейшего движения. Однако части распада остались в ране и вызвали новую беду. Появился антонов огонь… Опухоль, ещё не совсем удалённая мазями, медленно начала распадаться. Язва стала широкой, чёрной, страшной… Настоящая «гагрина» (гангрена) с омертвелыми краями, покрытыми серым налётом. И воздух в покоях наполнен от неё тяжёлым запахом тления!..
– На Москву, на Москву скорее! – молит теперь Василий.
Ясно: спасенья нет!..
* * *
Медленно движется печальный поезд. Василий в каптанке едет, уложенный на мягкой постели. Повернуться он сам не может. Курлятев и Палецкий едут с государем, помогают ему.
Везде по пути рыдают люди, узнав, кто этот умирающий боярин, которого везут на Москву.
Скорей бы можно добраться туда, да приходится остановки частые и долгие делать. Дороги ещё не установились. Как осторожно ни едут кони, а всё потряхивает больного. И он мучительно страдает.
Только 21 ноября к Воробьёвым горам дотащились. Здесь два дня пришлось переждать. Митрополит Даниил к государю пожаловал помолиться за его здоровье и дать своё благословение… И владыка Вассиан Топорков Коломенский, друг царя… И попы, и бояре: Шуйские, Воронцов Михаил, Пётр Головин, казначей верный царский… Слёзы, рыдания раздаются… Лекари прямо всех попросили уйти и не тревожить больного.
Но сам Василий удержал главных бояр.
– Мост на реке строить велите… Тута вот, прямо у спуска с гор с Воробьёвых… К завтрему ночью чтобы и готов был… Ночью я в Кремль проеду, чтобы не знал никто… Народу тьма кругом, послы у нас ждут чужеземные… Негоже будет, если днём поплетёмся… Дела у нас теперь с чужими государями немалые… Посланцы-то ихние, поганцы, – что вороньё, сразу учуют: плох старый государь! Ваня мой – мал… И подумают: самая пора пришла поживиться на Руси… Сейчас своим государям отпишут: «Собирайте ратных людей. Помирает старый государь. Легко можно у малолетки и у вдовицы-государыни из вотчины чего оттягать!..» Знаю я их… Да и свои люди не должны в гнусе таком видеть меня… Так пригоняйте, чтобы нам в глухую ночь, в самую полночь Москву миновать, до Кремля доехать…
Закипела работа на реке. Лед ещё не окреп. Рубят его, наскоро сваи, как раз против спуска с горы, вбивают в дно речное, балки кладут, доски стелют… Хоть и не в субботу ночью, но к воскресенью на рассвете мост был готов.
– Так, с Богом, везите меня! – приказал Василий, когда ему доложили о том.
Скользит с горы тяжёлая каптанка, влекомая гусем восьмёркой крупных, сытых коней, по два в ряд. Передовые вершники туго держат вожжи. Рынды царские, молодые парни, боярские дети и княжата голоусые, по десять человек с каждой стороны у каптанки идут, поддерживают в опасных местах, на поворотах и косогорах. Двое на передке каптанки уселись на всякий случай. Заартачится первая пара коней – удержать бы их было кому, окроме вершников…
Всё шибче и шибче по раскату скользят полозья, как ни сдерживают возницы могучих лошадей. Те уж совсем на задние ноги осели, хвостами снег метут… фыркают, головами мотают. Дивятся, что им ходу не дают… Вот – последний перевал. Там и на мост надо въезжать… Дорога здесь поровнее… Шибче пошли кони, завизжали, заскрипели полозья по цельному, плотному снегу…