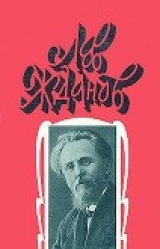
Текст книги "Русь на переломе. Отрок-властелин. Венчанные затворницы"
Автор книги: Лев Жданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
РОЖДЕНИЕ ПЕТРА
(Год 1672-й)
Незаметно проносятся дни, если нет ни печалей особых, ни радостей в жизни человека.
Вот уж и середина августа 1671 года. Больше полугода прошло со дня женитьбы царя.
Спокоен, доволен он, радостен. Особых забот ни в семье, ни по царству нет никаких. Но если начать припоминать, – никак не вспомнишь: что позавчера было, что – неделю тому назад? Должно быть, то же, что и сегодня, что и завтра будет… Сон, трапеза, молитва, советы с боярами, доклады по делам царства, отдых на половине у царицы, ее умные, живые, ласковые речи, милые, шаловливые выходки порою, которыми, как лучом, скрашивается серая, скучная жизнь теремов…
И затихает на покое душа, а в то же время что-то словно плачет в ней, жалуется, просит дела, борьбы, трудной работы…
Правда, начал Алексей тягаться с одним «супостатом», да – женщина это, боярыня Феодосия Морозова.
Помня ее обиду в день свадьбы, поджигаемый разными дворцовыми переносчиками и переносчицами, царь решил обуздать боярыню, которая не только явно осуждает всякие новшества, самые разумные, самые невинные, какие допускаются во дворце, но дает приют и оказывает помощь всем «ревнителям древлего благочестия», называя царя и всех, кто принял новые уставы патриарха Никона, – «еретиками», сынами антихриста и диавола.
– Ох, тяжело ей пратися, боротися со мною, – заметил нахмурясь царь, услышав все, что ему донесли о боярыне. – Один кто из нас – именно одолеет. Да – не она же, так уповаю…
И – обрушился всей силой на благочестивую, желающую по-своему жить и верить хорошую женщину. Даже пытать ее приказал, если не уступит, не примет того же символа веры, того же крестного перстосложения, какого держится царь, царица и все, кто с ними…
Но плохо удается затея царю. Пытки терпит Морозова, корит царя в нечестии, в бессердечии – и не сдается. Да если бы и сдалась – чести и утехи мало: с противником-мужчиной и почетней было бы и приятнее бороться и победить. А какая радость, если даже удастся смирить «бабу», хотя бы и такую жестоковыйную, как Федосья Прокопьевна, которая почет и блага мира по доброй воле меняет на дыбу, на пытки, на кнут палача, на великий подвиг мученичества ради имени Христова.
И несмотря на отсутствие особых забот и печалей, хмуро лицо царя.
12 августа, по привычке, рано встал Алексей. Отстоял заутреню, принял доклады очередные: начальника дворцовой стражи и дворецкого. Теперь сидит в своем кабинете с Матвеевым и слушает доклад о том, что творится в чужих краях, в иных землях.
Тут же карта лежит небольшая развернута, и широко образованный Матвеев, везде почти побывавший, все видевший – свои сообщения и соображения сопровождает указаниями на разные места в этой карте, обводя границы стран и городов, о которых идет речь.
Указывает и говорит он царю:
– Своего будто бы наследия давнего король французский домогаться стал. И того ради за реку великую, за Рейн выступить мыслит, приморскую низменную страну, Нидерландами именуемую, воевать задумал. Благо некому в сей час супротив силы его французской большую силу-рать выставить. Это – одно, государь, о чем наши люди верные знать дают… А другое – и на Восходе солнца крутая каша закипать собирается. Слышь, против круля Яна-Казмира султан турецкий сильное войско тоже готовит. Вишь, словно бы все Подолье и с Каменцом-городком к нему отойти должно… Ну, тут уж, милостивец, коли правду не крыть, – и нашего ложка медку положена. Думается: как ударит султан на круля, – мы поспеем и от Польши своего кой-чего, из старых пожитков оттягать. Попомним им походы наши… Да и на московском берегу на Украине – не так тесно станет. Казаки скорей на неверных насунутся, ничем на своих православных, на проезжий торговый люд. А то и от своих, и от татар проезду, проходу не стало за рубеж за восточный ни нашим, московским, ни иноземным торговцам. Торгу нет – и денег нет в казне твоей царской, государь.
– Твоя правда, Матвеич. Мало стало казны… А надо ее, ох, как много надо… С деньгами – чево сделать нельзя. А без них…
– Без них, вестимо, государь, и царю, что псарю, – все едино плохо. Да, никто, как Бог. Возьмем свое, милостивец…
– Давай Бог… Только, хто возьмет-то? Не я, Артамоныч, уж што себя тешить. Годы уходят, силы уходят… Не вернутся походы наши польские… Видно, скоро и Богу отчет давать придется… Уж разве, после меня хто…
– И что за нерадостные мысли, государь. «Молодому» грех бы и толковать такое. Женился давно ли? А тут и помирать собираешься, государь! Али, храни, Боже, чем молодая не угодила? Так, не по воле, верь, государь. Знаю я великую государыню, Наталью Кирилловну… Она…
– Да не о ней речь… О сыновьях, о царевичах думаю… Федя, вот. Сядет он на престол на царский… Сам говоришь: годы настают тяжелые, неспокойные. А он… Видишь, знаешь Федю… Дай Бог того не растерять, што оставлю ему в наследье, не то – приумножить земли да славы царской… Ваня… Тот и овсе скорбен умом и телом хворый… За што, подумаешь, так покарал Господь меня. У инова… Вот, погляди в окно, на паперти, насупротив: нищенка дремлет… А ребеночек – словно яблочко налитое у ей… у нищей… А у меня… у царя…
Он не договорил, умолк.
– Дак што же, – осторожно, после молчания, заговорил Матвеев. – Сынки, царевичи, правду молвить, не больно штобы крепеньки, – дай им, Господь, многа лета… Так за то ж царевны твои, государь, – словно маков цвет цветут. И разумом все вышли, особливо царевна свет Софья Алексеевна. Мала еще, а сколь разумна. Не мимо имячко дано: София, сиречи – Премудрая… Так и будет, гляди…
– Царевны… Нет у нас давно такого свычаю, што-бы царевне наследье отцово, трон Московский оставить можно было. И думать нечего. Другая дума была моя…
Алексей не докончил, замолчал.
Матвеев давно догадался, что угнетает царя. Он ждал, что от Натальи судьба пошлет ему хорошего сына, достойного наследника престола. И ожиданье, доходящее до лихорадочного нетерпения, смущало обычно безмятежную душу Тишайшего царя.
После небольшого молчания Матвеев снова осторожно, как будто против воли понижая голос, заговорил:
– Не посетуй, поизволь выслушать, государь. Коли слово мое не по нраву тебе придется, – твори уж что хочешь со мною… Как еще был я в чужих краях, и у английского владыки, и у австрийского императора… Везде таких прорицателей видел али слышал, что ученые мужи разные – по звездам глядят и наперед видят: чево ждать государю али бо – государыне вскорости надо? Как скажут сии звездочеты, астерологусы именуемые, – так и бывает… И у нас свой, почитай, такой же объявился… Знаешь, государь, навещаю я наставника многочтимого, слугу твоего верного, Симеона Полоцкого. Не раз и о том речь у нас шла, что кручинен ты бываешь, государь. И чем кручинен, и то мы обсуждали. Уж, прости, все говорю. Повинную голову, знаешь: меч не рубит… И собирался Симеон сам по звездам честь про твое царское величество и про царицу нашу многолюбезную… Как уж издавна навык мудрых мних тот в науке высокой, мало кому и ведомой… Да ты не тревожь души своей, государь. Не от лукавого, от Бога это познание. И не через что, чрез звезды Божии познание дается человеку. Не волшба, не изменение жребия, а только прозорливость некая дается, как бы сквозь туман земной – вперед провидеть можно… Нет греха в деле сем…
– Вестимо, греха нет. Отец Симеон – строгой жизни монах, богобоязный. Хто не знает тово. А, правда твоя: сметил ты, что жутко мне стало. Не от чево инова, от слабосердия нашего. Страшно, коли што худое узнаешь, чево избыть неможно, а еще долго ждать приходится… Видно, Бог добро творил, что не позволил человекам наперед узнать всю судьбу свою… И жить бы тогда, гляди, мало хто захотел… Вот о чем я ни раскидываю в уме, чево не жду?.. И по царству, и в своем дому… А знай я, что ни земли не приумножу, ни доживу: в детях видеть утехи да радости… Может, и отчаяние овладело бы мною, рабом недостойным… И роптать стал бы на Господа али и хуже што… Все надежда держит… Здеся – на луччее… А на небеси – и вовсе награды ждем, блаженства вечного… Вот и живешь, и не хуже становишься, а все на луччее тянет… Премудрость Божия… А… а все же…
– Охота, поди, и вперед заглянуть: хоть малость, хоть про самое главное… Это молвить хотел, государь? Вестимо… Да то хоть вспомни: на войне. Думается, што наш верх будет. Войска у нас и припасу больше… И место наше – поспособнее, ничем у врагов… Ударить легче на них… А все же: лазы посылаешь, доводцев ищешь: вернее бы узнать… Можно ли одолеть врага. И где к нему подойтить способнее, куды ударить лучче?.. Да, и при всем том, бывает, Господь не захочет: Давид Голиафа побивает, а не Голиаф пастушонка малова… Так и в жизни. Все пораздумаешь, обсудишь ладком… А на верняк – лучче бы знать: как оно сложится напредки?.. И сил, гляди, не стал бы тратить попусту. Инако бы все наладил… Так уж и скажу я тебе прямо, государь… Не раз бывал при том, как Симеон по звездам судьбу царства чел… Нечево греха таить: много и горя впереди сулит вещее небо… А много и свету и радости… И славы много, и крепости царству и роду твоему царствующему…
– Дай Бог, дай Бог… Што там о себе! Вижу, не такова бы теперь царя земле надобно… Старое – изживать люди стали. Чево бы нового, луччаво им надобе… Я-то чую… А помочь – мало могу… Мешать только не стану, уж николи… Помнишь, толковали мы и с тобою не раз, как ты из чужих краев домой поворачивал: хорошо бы и нам на Руссии заморские порядки завести, жизнь чистую, веселую, учливую. Не топором бы, не петлей – науками бы всех к покорности привести, чтобы дружней и светлее по царству жилось, чтобы сильные – бедных не ярмили, чтобы бесхлебицы не было, и пути везде устроить торговые, и людям и царству на пользу… Как бы сила наша земская поразвернулась… О чем царь Иван Василич еще говаривал, – и то повершилось бы. От Теплого окиана – до Карпат и от Белого моря – до Середьземного легла бы держава наша руссийская… Не то, как Олег, на короткий час – на веки вечные щит словенский висел бы на вратах святого града Константинова… Штобы… Э, да мало ль о чем хозяину в дому думается, коли заботы спать не дают… Так и мне на моем хозяйстве на царском… Думать-то легко… А на дело – силы не хватает… Да… чево греха таить: и разум не мой тут надобен… Вот кабы такую голову, как у деда, у Ивана Васильича… И то – бояре много ль сделать ему дали?.. Пока с ими возился – многое по царству упустил, так и не наверстал. Детям, слышь, заповедал. Читал ты, поди, завет его посмертный… Все там означено… А только много, гляди, лет, и не сто и не двести пройдет, покуль оно сбудется… Да, пусть бы сбылося… Аминь…
– Аминь, государь…
И оба в тихой молитве осенили себя широким крестом.
Вошел сенной истопник с докладом:
– Преподобный отче Симеон пожаловал, челом бьет, очи твои, государь великий, видеть милости просит.
И, по знаку Алексея раскрыв дверь, впустил в покой Симеона Полоцкого.
– Вот, слышь, про волка помин, а волк под овин, – с ласковой улыбкой, после поклона монаха подходя к нему под благословение, сказал Алексей. – Садись, гость будешь. Што, али про детей сдоложить пришел, как обычно?.. Али – дело какое? Сказывай. Мы и то, слышь, поминали тебя, вот, ты лих к порогу шел…
– Уж и то хвалю Господа: не по заслугам моим любовь царскую и ласку Он мне посылает… Нехай буде похвалено Имя Его… А прийшов я и доклад сделаць, шо усе идет помалу у нас. Учатся их царские вельмочности преотлично и цветут, яко крины райские, на многи лета… Так, шобы порадувать их малые душки, охота пришла мне, старому греховоднику, комедийное действо наладиць ново. Та не здесь, не в теремах, как уж то бувало с твоего произволеня, царь великий, а хочем ту лышень пробу сотворить… А саму гру – в саде в твоем зеленом наладиць… Из священной гистории, из Завету Древнего будет зрелище, рекомое «Ангели в гостех у Авраама». Как подозволишь, царю: можно ли? Там – и палатку-скинию раскинути можно. Дни – ясные, теплые Бог дае. И очень приютно буде.
– А чево же не мочно. Делай, твори, как знаешь, отче. Худа не было и не буде от поучений от твоих и от затей позорищных. Вон, Артамон мне сказывал: у английских владык да у цезаря австрийского – императора целы стайки есть таких лицедеев, што ничем иным и не заняты, только разные действа представляют, людям на поучение и на забаву. Нам – еще не пора эти новины заводить. Патриарх, гляди, и бояре иные с боярынями старозаветными и-и, какой язык подымут… А для себя, из Завета из Святого – отчего не представити действа занятного. Крепче в памяти станет деткам… и поймут, гляди, больше из этого, ничем толковать им дела те мудреные…
– Шо и казать… Все как день ясный видно, когда во образе покажешь децку притчу али сказание какое. И сам, государь, бачив: сколько ден царевичи с царевнами о наших поучительных действах речи вели, поглядевши прежние игры феатральные…
– Видел, видел. Ничево в том дурно не вижу. Делай как знаешь.
– А еще не дозволишь: единаво из трех ангиолов дщери твоей царевне Софии изобразить чи можна? Дуже вона з ангиолом сходна, дай ей, Пане Боже, много лет и здравия.
Тонкая лесть, похвала ребенку – сильно тронула отца.
– Ох, затейник, отче… Што надумал… Ну, да уж и отказу тебе от меня нет. Твори все, как лучче, как сам знаешь. Еще чево нет ли? Сказывай заодно.
– Та, якобы и не мае ничего больше, великий царю, чем бы докучати тоби. Милостьми, як дождем, посыпаешь раба твоего недостойного… По доброти твоей нехай и тебе, царю преславный, добро буде…
– Спаси, Бог, и тебя, отче… А… а вот… – после небольшого молчания заговорил как-то опасливо, нерешительно Алексей, – наслышан я от Артамона: горазд ты больно, отче, звезды чести дал испытывать… А того нам и не сказывал. Напрасно. Разумею же я, нет тут никакова лиха. Божье дело. И многие монахи, наши и инославные, тем делом займовались… Не худо бы и нам о державе нашей, как и другие государи, проведать што-либо, чево Господь сподобит… А, как полагаешь, отче Симеоне?
Осторожный, умный монах, очевидно, догадался, о чем толковал перед его приходом царь с Матвеевым. Он сразу поднял на Алексея свои блестящие глаза, которые до того держал смиренно опущенными к земле и как будто старался проникнуть ими в тайники души собеседника.
– Не дарма сказано: Господь умудряет сердце помазанника Своего, государь. Ты б неначе в мою душу глянув, прознав, с чем прихожу я ныне к цару и владыке моему… Много ночей смотрел я по звездам, много дней разбирал книги, где вся наука небесная означена… И составил нынче пред утром лишь гороскопум, иначе – «зрак судьбы человеческой» про твое царско здоровье и про супругу твою, про царицу-государыню, про света нашего ясного… Вот лист сей…
Полоцкий вынул из рукава рясы спрятанный там лист, свернутый трубкой, перевязанный шелковым шнурком.
И, откинув свою привычную уклончивость и осторожность, свою придворную мягкость и сладковатый тон, Полоцкий продолжал решительным, почти суровым тоном провидца-наставника.
– Не зменяется рок, якой положон есть и рабам последним, и великим государям от Царя царствующих. Но дает Он прозревати на пользу человекам во тьму грядущу. И знамения свои чудесно посылае. Було такое знамение и в сей ночи. Звезда дуже свитла просияла близько од Марса, планеты рекомые. Зародилась нынче душа великая, царская на земле. Тебе сына подаст Бог скорее, ничем рок минет единый… И благодатна царица твоя, бо просветлого царевича подаст миру, роду вашему на славу, отцу-матери на радость, земле – на великую корысть и возвышение царства. Займет он трон отца своего и деда присноблаженного и на ем, яко на камени дивном, оснуется навеки царская держава твоя и род весь ваш державный… Камень крепкий, в основу дома, тако буде и той царевич о укрепление царства… Когда же воссядет на престол у те его лита – подобного иому посередь царей и крулей не буде, разве Александра и Соломона помянута. Усех он бывших в Руссии владык славою превзойти мусит и делами и разумом. И вящшими похвалами мает бути восхвален. И победоносец чудовый имает бути. Падут многии от лица его, соседи враждующие смирит, толикие светлые победы содеяв, колико ни един от предков ваших, государей благочестивых, не мог содеяти.
Страх от него буде на многих, страны дальние и ближние протечет; но однако – своей земли многое нестроительство ему помехою буде. Но той владыка – злых поистреблявши, добрым защитой и воздателем буде, возлюбив истину на земли… Трудолюбием украсится и многие пути на воде и на суше проложит, создав многие новые строительства повсюду. Насадит людское жительство и благочестие духовное и светское, где и не було ничего, в тех же местах и сам упокоится. Немало иного поробит светлого и преславного. И все то на звездах, аки в зерцале, читахом. И то неложное звездное предвозвещение вашему царскому величеству я зде написах и во утверждение истины – подписався. Приими, благочестивый, пресветлый царь. Се труд мой, се дух мой. Да сбудется. Аминь.
– Аминь…
– Аминь, воистину да сбудется, Господи, – за Симеоном и Матвеевым повторил глубоко взволнованный Алексей. – Верится мне, отче, что тако все и поисполнится. Верую, сам не ведаю почему, как в души моей спасение от крови пречистой Христовой… Камень великий спал с души; исповедуюсь тебе, отче. Молил Господа о сыне подобном, как ты прорицаешь… И ждать не смел, что подаст Творец по прошению моему, раба недостойного, многогрешного… Ныне верую… И не посетуй, отче… Еще един вопрос вопрошу тебя. О сыне моем, о великом царе видел столь многое… О моем житье – неужели ничего не было показано? Или нерадостное видел што и говорить не дерзаешь? Говори все. Знаю, ждать ежечасно горя – удел царей, как и всей живой твари…
– Не покривлю душою, государь… Не видел. Звезду следил новую. Твоей – не имел часу проследити.
– Может, хоть то поведаешь: лет жития моего – много ли еще осталось? Поспею ли сам такова наследника чудесного выпестовать, на ноги поставить… Говори, молю тя, Симеоне… Не опасайся… Лучче мне знать то, чем не знать и помереть наглой, незапной смертию негаданной.
– И того по звездам не означилось… – снова почему-то опуская глаза и принимая обычный, смиренно-ласковый вид, ответил Симеон.
Но, заметя, как омрачилось лицо царя, поспешно добавил:
– Можно б нам инако про то вызнать, шо тоби потребно, великий государь.
– Ну, как же? Сделай, скажи, научи… Охота великая мне знать: много ли еще проживу на белом свету? И быть тому не можно, чтобы ты не сведал того, если судьбу царей и царств открыл Господь взору твоему, отче.
Столько глубокой веры прозвучало в словах Алексея, что Матвеев невольно с особенным вниманием поглядел на белоруса-монаха. А сам Полоцкий почувствовал и радость и опасение при мысли: сколько можно сделать, располагая таким доверием царя? Но, в то же время, как осторожно надо поступать, чтобы не потерять этой веры, не уронить себя, не вызвать гнева и мести за осквернение такого чистого, благоговейного чувства.
– Шо сам знаю, то и тебе открою, государь, – медленно, словно взвешивая каждое слово, заговорил Полоцкий. – Не на едных звездах начертаны судьбы твари Божией… И на себе носит каждый знаки различные. Наипаче – на руцех, на дланях своих. Вот сии черты, как на долонь поглянешь, на шуйцу на свою, – предрекают немало…
И монах повернул свою левую руку кверху ладонью. Нежная, выхоленная, как у женщины, ладонь была по краям резко очерчена розовой полосой: кровь просвечивала сквозь тонкую кожу. Вся ладонь была изборождена ясно проведенными, ровными, хотя и неглубокими, но очень явственными линиями.
– Знаю, слыхал, не раз слыхивал: есть наука такая тайная: по руке честь. И опаска брала: не грех ли тем займоваться, думалось?
– В чем грих? Заклятья, колдування, волхвованья – то грех. А в тайны Божии умом проникать – немае гриха, государь, а ниякого. Вот, гляди: ровно бы литера мыслете идет чрезо всю долонь. И у мене… и у тебе, господине, и у него… Три черты явно видимых. Однаковы оне, но и разноту имеет у кожного из нас кожная та черта. Моя – узкая и внятная. У Артамона у боярина – погрубите и не такая ровная. Твоя черта, государь, – пошире наших, ровненько бежит, только не такая явственная. Вестимо: руки твои державные не утруждены, как наши, рабов твоих. Вот, и поглаже она… Верхня линья – то сердечный шлях. Шо до души касаемо – по ней читать можно. Второй шлях вдолжь первого идет, середний самый – для розума. Чем тверже розум и больше воли над человеком мает, тем длиныне той шлях середний. А нижний шлях, шо средний перехрещивает и до верхнего дойшов, – то про жизни долготу пророчит. Шо длиннейш он, то и життя больше человеку суждено от Бога…
– Што длиннее?.. А, глянь, у меня не больно долга дорожка эта, нижняя… Гляди…
Симеон, давно вглядевшийся в руку царя, быстро возразил.
– Не скажи так, государь. Глянь, кругом твоя дорожка по низу большой палец обегла… Сие место – алтарь богини Венус зовомое есть. И, правда, ровно поломана под алтарем тим дорожка життя твоего, государь, но знову идет по руке, ось куды зайшла… далеко. Будет тебе помеха в житье твоем. Может, припадок какой, а може, и хвороба есть затаенная, давняя. И от нее – урон будет твоей царской милости… Не скоро… годам к пяти на десять, як не болий. А избудешь ту напасть, и-и сколь долго, может, годов девяносто и сто прожиты мусишь, государь.
Омрачившееся было лицо Алексея снова посветлело.
– Куды столько… Надоест… А што ты сказал… о хвори тайной, многолетней… Правда твоя… Знаю: точит меня какая-то язва. И лекари мои то же толкуют. Да помочь не сила их. Вон, Федя оттого слабый, бают… А Ваня – и вовсе головкой плох… Все от хвори от моей…
– Бог даст, все минет… Пустое толкуют лекари… Вон, дочки ж у тебя… Особливо Софья-царевна. Золото, не девчиночка… Не сумуй, государь. Все от Бога…
– Верное слово твое… Ну, не станем об этом… Далей… Что еще скажешь?
– Да, все вже й сказав, царю мий милостивый. От, ще шлях Сатурноса. Се доля наша… И по ней тоже видно: перебудешь яку-то годину тяжку… Ровно бы от недругов нападение – и тогда на многи лета во славе и покое пребудешь…
– Недруги… Какие же недруги?.. Не можно узнать? Иноземные али свои?.. Погляди, пораздумайся, отче…
– Да… шо сказати… – медленно, словно не решаясь ответить, заговорил монах: – Так воно показует, шо не чужие… Давние, близкие, сказаты треба, люди – на вражду повернут. Станут новых твоих близких от тебя отгоняти… И на тебя взметутся, и на кровь твою… Поверишь им – и сам сгибнешь, и все семя твое. На поверишь предателям – тоже бида будет, да избыть ту биду можна буде… Так тут видно, если только не замело мне очи чим…
– Нет, нет, отче… Што ты духом чуешь, – я умом не единожды смекал своим… Хоть и не умудрил меня Господь больного много. Вестимо, не пройдет оно так, што позамыслил я новины на Руси завести… Вон, за Никона – сколько недругов у меня объявилось… За женитьбу мою, гляди – и вдвое… Ну, да, Бог – мой покров единый… Стой, пожди малость… Артамон, скажи, там бы Наташе поведали: сюда прошу ее. Вышла бы на часок… Порадуй ее, отче: скажи все про сына про тово, коим мою душу столь порадовал, сердце мое без меры возвеселил… Гляди и царица тебе, как я же, уверует. В любви и у нее станешь, как и у меня же, Симеоне.
– Не в тим думка моя, – скромно отозвался монах. – Бог глаголет в звездах в своих, в созданиях земных. Я, раб Божий, смиренный инок, глаголю по завету Божию, во славу Его, хоть бы не то милость, а и гнев царский постиг меня, недостойного.
– Да, вижу, понимаю… Иди же, Артамон, зови скорее…
– Сам я поведаю, коли поизволишь, государь. Живее то сбудется.
– И то, и то… Поди, поторопи царицу. Пусть сердце ее возликует… А она што-то за эти деньки приуныла, видел я…
Артамон Сергеевич поклонился и вышел.
Царь, развернув свиток монаха, остановил глаза на астрономическом чертеже, под которым дальше затейливой вязью шло предсказание, гороскоп царевича, который должен скоро явиться в семье царской.
– А – што сей за чертеж, отче?
– То – начертание планидное и звездное, яко было минулой ночью. От тут Марс, шо воинскими подвигами людские души вдохновляет. На выйшем пути своем он стоит. Супроти Соньця. А ось – и звезда неведома, внове сияюща. Твоего царевича нерожденного звезда. А тут – иные планиды…
И Симеон стал излагать Алексею расположение звезд на ночном небе, какое он наблюдал накануне, объясняя попутно возможно понятнее: какое влияние имеет каждое сочетание созвездий и на судьбу живущих, и на тех людей, которые зарождаются под известной планетой или звездой.
Четверти часа не прошло, как явилась царица в сопровождении Матвеева, своих боярынь и молодого постельничего царского, его двоюродного брата по матери, Тихона Стрешнева, с которым особенно подружилась Наталья за веселый нрав и находчивость юноши.
Алексей ласково встретил жену, поцеловал ее, спросил о здоровье.
– Давно ли не видались, государь, – што мне деется? Спаси тя, Христос, а мне и все ладно. Пошто звать изволил? Торопит дядя. А чего для – и не скажет, ишь, скрытный… Вон, Тиша – тот лучче. Што ни спроси – все скажет.
– Ой, гляди, не все, государыня-сестрица. Инова не то тебе, и попу на духу не скажу, – отшутился Стрешнев.
Но царь, хотя и ласково, однако серьезно прервал разговор:
– Великое дело объявить тебе надо, друг Наташенька. По то и призвал тебя. Вот послухай, ясенка, што отец Симеон тобе поведает. Писанье свое прочтет.
– И то – слушаю, государь. Люблю сама отца честного послухать. А тут, слышь, великое дело. Мне, слышь, уж и не терпится. Поведай скорее, Симеонушка, отец честной.
И, усевшись поудобнее в кресло рядом с Алексеем, она приготовилась слушать.
По мере того, как читал Симеон свой гороскоп, – целый ряд ощущений промелькнул на открытом выразительном лице Натальи. Сперва оно зарделось, как огнем, румянцем стыдливости. Речь шла о ее будущем ребенке.
Молодая супруга, хотя и воспитанная в патриархальной русской среде, где дети считаются благословением Божиим, все же чувствовала невольное стеснение от мысли, что и она станет матерью. Но сейчас же ею, овладела мощь, уверенность, какою дышало каждое слово монаха. Она так же безраздумно поверила в правдивость предсказаний, как поверил им царь. И ярким, счастливым огнем загорелись глаза царицы. Какая-то сладкая, еще неведомая ей доселе гордость, смешанная с умилением, наполнила всю ее душу.
«Весть благая подана мне… Яко от архангела Деве Марии», – невольно промелькнуло в уме у начитанной в духовных книгах Натальи.
И, отчего-то побледнев, потупя глаза, стоящие восторгом и слегка расширенные, словно от тайного испуга, ей самой непонятного, дослушала царица до конца чтение гороскопа.
– Вот, слышь, што буде, – нарушая наступившее молчание, заговорил негромко царь. И так сказал, как будто уж видел исполненными все предсказания Симеона.
– Да буди воля Божия, – негромко отозвалась Наталья также голосом, полным веры и радости…
– Аминь, – эхом отдалось из уст всех свидетелей этой важной, загадочной минуты.
Даже беззаботный Стрешнев, привязавшийся к Наталье сильнее, чем к родной сестре, не сводивший с нее глаз и вовсе не расположенный к мистическим настроениям, заразился общим чувством предвидения чего-то большого, непонятного и важного, и сидел тихий, настороженный.
Всем так и казалось, что вот-вот распахнутся небольшие двери в покое, откинется завеса – и войдет сама Судьба, пронесется перед их испуганными глазами и тоже негромко, но внятно пророкочет:
– Аминь… Да будет тако…
– А вот што, отче честной… Не поволишь ли и царице моей што пооткрыть, на руку глядючи… Вот, как мне тута. Слышь, Наташа, друг ты мой сердечный, прямо сказать: чудеса творит наш Симеон. И таил сколь долго дар такой дивный, от Господа данный. Слышь, по руке – все тебе скажет: што буде вперед, чево ждать, чево стеречися надобе… Вот, покажи ему ладонь…
Наталья, знакомая с хиромантией по рассказам в доме Матвеева, протянула охотно и без страха руку.
Среди боярынь, провожавших царицу, послышались опасливые вздохи и невольное перешептывание.
– Не треба страху даватись, госпожи почестнии, чада мои духовнии. Не от себе, от Бога буду глаголати. Творит Господь дела свои – нашими устами и руками человеческими… А тебя, пресветлая царица, государыня великая, просю шуйцу открыта, не десницу твою благодатную. По шуйце, иже от сердечной области прямо исходит, – легше можно все пизнаты…
Наталья послушно перенесла расшитый платочек из левой руки в правую, исполняя слова гадателя. И рука, и вся она слегка дрожали от ожидания чего-то неведомого, непонятного…
Слегка касаясь пальцами словно выточенной из белого и розового перламутра руки Натальи, теплой и влажной в ладони, монах стал вглядываться в тонкие, гармоничные линии, проведенные природой по этой атласистой, молодой, упругой коже.
– Уси счастливи знаки маешь на руки, государыня моя, светлейшая господыня и души утеха. Но не утаю: скорби немало познати мусишь. И при рождении первенца своего державного, Богом избранного на благо своих народув. Но вси муки минут, и слиду не будзе их. И других чад без скорби иметь будешь… Долго на их удачу радовати сердце свое станешь… А какая кручина коли настанет неминуча для цебе и для чад твоих, – тою избудешь, аки орлица ухитивши, грудью застоявши орлятув своих… Помни слово это, благоверная царица, кеды прийдзе час горький… Храни дух бодрый: не сгибнешь ни от чего злего. Мирно покончишь дни жития твоего преславного. В Бозе почиешь и во славе великой. Так здесь все означено…
И бережно опустил он руку Натальи, теперь бессильно упавшую вдоль тела царицы, на широкие складки домашней телогреи, которая была на ней.
– Аминь, – среди общей тишины прозвучало горячее желание Алексея. – Так пусть да буде по воле Божией.
И не хотелось бы ему отрываться от жены, от этого угла, где сейчас произошло так много важного и загадочного для доверчивого Алексея.
Не хотелось бы нарушать настроения минуты, прекрасной и пугающей в одно и то же время.
Но явился Голохвастов с докладом, что собрались некоторые бояре на малый совет к царю. Пришлось проститься с женой, отпустить всех и идти в палату, где ждали опять споры и разговоры с лукавыми, изворотливыми, жадными слугами-боярами, где надо было разбираться в мелких, сложных, но все-таки неотложных делах и вопросах по управлению землей, всем царством.
Только отпуская Симеона, царь несколько раз повторил:
– Гляди, не знал я, какой ты… Теперя уж – изволь к нам поближе быти… И к трапезе нашей царской без зову жалуй, прошу тебя… Й всегда… Особливо, в часы павечерние, как покончу я все дела особливые… Гляди же, не забывай…
И с неохотой вышел к ожидающим его боярам.
Загадка – вся жизнь человеческая. И сама она – полна загадок.







