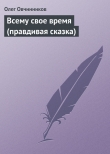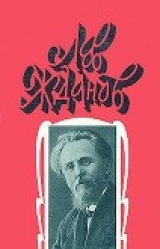
Текст книги "Русь на переломе. Отрок-властелин. Венчанные затворницы"
Автор книги: Лев Жданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Слушает Федор умную, ловкую речь боярина, который, словно в книге, читает в мыслях у царевича, – а сам юноша видит перед собой совсем не те лица, которые вокруг, слышит в душе иные звуки, любуется картиной, которая в прошлом сентябре, всего год и пять месяцев тому назад, проносилась у него перед глазами.
В день Нового года, 1 сентября, царевич выстоял с государем долгую службу у Нерукотворенного Спаса на Сенях, и оба вышли в Переднюю палату.
Дядьки вели царевича, одетого в лучший его наряд. Бояре и думные люди стояли в Палате густой толпой. Посидев немного, царь помолился и объявил:
– Приспел час сына нашего, благоверного царевича и великого князя Федора Алексеевича Всемогущему Господу Богу дать в послужение, ввести его во святую соборную и апостольскую церковь и объявить его богомольцам нашим, святейшему отцу патриарху, всему освященному собору, вам, боярам, окольничим, думным людям и всем чинам Московского государства!
Как один человек, как колосья от ветра склонились все, кто здесь был в Палате, приветствуя царевича, объявленного отныне совершеннолетним, и прокатились под сводами громкие приветственные крики:
– Жив буди на многая лета царевич Федор! Да живет!.. Здрав буди и долголетен!..
Отсюда в торжественном шествии, со всеми боярами прошел царевич с отцом снова в церковь Спаса, там взяли Нерукотворенный образ, перешли в Успенский собор, который весь был залит огоньками лампад и ослопных свечей, в паникадилах и в свещниках перед образами.
Патриарх, окруженный главнейшим духовенством, всеми десятью митрополитами, ждал появления царя со старшим сыном.
Им навстречу грянули мощные звуки: вся патриаршая стая певчих, заливаясь, выводила:
– Многа-а-ая лета… Многая ле-е-ета… Многая ле-ета-аа-а!
И окна дрожали от сильных голосов, огни колыхались над оплывающим воском престольных свечей.
Федор с отцом заняли свое, царское, место. Против них – патриарх.
И по два в ряд потянулись князья московской церкви, митрополиты, архиепископы, архимандриты, игумены, протопопы, трижды кланялись царю с царевичем, потом патриарху.
Медленно сошел со своего престола старец патриарх. Ему навстречу двинулись и Федор с Алексеем.
Взявши слабой рукой золотую кадильницу, патриарх стал кадить сперва святым иконам, потом – государю и царевичу, окадил и «стряпню государеву», то есть шапку и посох, которые держал оружничий царский.
Весь остальной духовный высший чин также кадил после патриарха.
А певчие – заливались, выводили сильными, красивыми голосами красивые, торжественные напевы избранных псалмов. Потом загудел густой бас протодьякона, читающего пророчества – паремии от Исайи, полные глубокого, затаенного смысла.
От этого аромата кадил, от жару в храме, от напевов – голова кружилась с непривычки у Федора, душа замирала и уносилась куда-то за пределы земли…
А вдали реяло что-то прекрасное и пугающее: царский трон, власть над всей обширной землей, над несколькими царствами и народами…
Кончилось водоосвящение.
Патриарх произнес обычное краткое приветствие Царю и нареченному царевичу, с этой минуты признанному старшим в роде после царя.
Снова грянуло многолетие всему царскому роду.
И заговорил сам Федор.
Заранее заучил он, что нужно сказать. Несложных несколько фраз. Благодарность отцу за наречение свое, пожелание здравия на многие лета… Почти – молитва.
Но Федор сам не помнит, как сказал свою первую речь, произнесенную здесь, во храме, среди торжественной обстановки, перед святынями икон, перед лицом всей земли, представленной и этим знатнейшим духовенством, и боярами, и военачальниками, стоящими поодаль толпой, сверкающей сталью и золотом доспехов…
С ласковой улыбкой слушал отец невнятный лепет смущенного сына, привлек его к себе и поцеловал в голову.
– Да живет государь, великий князь Алексей Михайлович на многие лета!.. Княжичу великому и царевичу-государю Федору Алексеевичу многие лета! – возгласили тут же бояре и воеводы, обступая обоих густою толпой, осыпая дарами царевича.
– И вам желаю здравия и многолетия, бояре и синклиты мои честные, – ответил на клики государь.
В пояс поклонился им и духовенству Федор, тоже бормоча свое «здорованье»…
И опять длинным, сверкающим на солнце шествием, цепью парчовых облачений, воинских нарядов и золотых хоругвий, через Благовещенскую паперть потянулись все из храма в Кремлевский дворец.
Тут был пир устроен. Много, даров роздал государь от своего имени и от имени царевича.
С той поры, хотя и не было объявлено всенародно, но все знали, что старший царевич Федор – будущий наследник трона.
Так велось искони, за редкими исключениями…
Так неужели же все это был сон?.. Другой перешел дорогу. Тому, другому, – пока ребенку – и блеск, и власть, и величие царское…
А Федору – долгие годы унизительной, темной жизни… Унижение перед младшим братом. Или – муки заточения, быстрая, насильственная смерть… Смерть, когда жизнь так манит… Когда он и не успел еще пожить… Насладиться этой неведомой, но, наверное, прекрасной заманчивой жизнью…
Порою, в минуты страданий от внутренних недугов, разрушающих хрупкое тело юноши, Федор помышлял уйти от мира, укрыться в какой-нибудь тихой обители и там, дальше от людей, ближе к Богу – замаливать свои и чужие грехи, ждать смерти, которая будет уж тем хороша, что избавит от нестерпимых, продолжительных мучений…
Но проходила черная полоса, царевичу становилось лучше, и благодаря помощи врачей, и при содействии собственных молодых сил. Тогда снова в нем просыпалась жгучая жажда жизни, удовольствий, даже – греха… Всего, всего, только бы не умереть, не изведав этой земной радости…
Нерешительный от природы, ослабленный болезнью, живущий различными порывами, которые сменялись причудливой чередой, Федор оставался всегда чутким и чистым по душе. В нем глохли телесные силы, но ум работал сильно, и чувство справедливости, свойственное людям, лишенным сильных страстей, преобладало почти надо всеми другими инстинктами.
Поэтому и сейчас, слушая речи окружающих, он отдавал должное доводам каждого из говорящих, сам переживал немало, но в то же время, словно со стороны, глядел на себя и на свои чувства и не знал, что предпринять, на что ему решиться?
Преступного, конечно, ничего не мог бы сделать царевич. Но тут снова возник для него вопрос: все ли преступно, что люди заклеймили этим именем? И не является ли порою преступление тем же подвигом, если оно совершено на гибель своей души, но для спасения ближних?..
Вот, именно теперь и надо подумать об этом. Надо решить. Губя свою душу, не спасает ли он весь род матери своей, всех сестер и брата Ивана? Не спасает ли землю от междуусобья? Если будет объявлен царем он, старший сын, тогда скорее всего кончина отца пройдет без особой смуты, хотя Матвеев и его сторонники любимы народом и имеют много приверженцев.
Все понимал Федор. Но ясное представление о многом и не дает ему решимости остановиться на чем-нибудь одном, проявить свою волю и сказать: «Я хочу именно этого, хотя бы оно было и не совсем правильно»…
И долго сидит в молчаливом раздумье царевич.
А кругом в тревоге сидят молодые и старые, бородатые бояре, сидят сестра и лукавая старуха Хитрово, «составщица дворовая», испытанная заговорщица, стоят стрельцы – и все ждут: как решит, что скажет этот бледный, болезненный, робкий юноша, почти мальчик?..
Без него, без этого знамени им нельзя выступить, как бы ни велика была земская и стрельцовская сила, стоящая за их спиной.
Только именем Федора и во имя Федора может быть совершен желанный переворот, который принесет царевичу внешний блеск власти, а им – подлинную силу ее…
Все видят тяжелое состояние души царевича. Но каждый толкует его по-своему и боится первый слово сказать, чтобы этим неудачным, быть может, словом не испортить всего дела, кинув подозрение или чрезмерный страх в робкую душу слабого юноши.
Чувствуя на себе все эти лихорадочно, трепетно горящие глаза, полные немого ожидания и вопроса, Федор окончательно смутился. Краска кинулась ему в лицо. Из бледного оно стало багровым, а на глазах показались даже две слезинки.
Закусив губу, он вдруг обратился к Ивану Языкову, молодому, красивому боярину незнатного рода, который успел выдвинуться в качестве судьи Дворцового приказа и особенно нравился Федору своей честной прямотой, соединенной с такой мягкостью, что самые резкие укоризны не обижали людей, когда их произносил Языков.
– Ну, ты, Ваня… Што ты бы сказал?.. Ишь, молчишь все. Видишь, дело какое… Вот и скажи, как тут быть?.. По-твоему как?..
– А, что же я скажу?.. По-моему-то выйдет одно, а по-твоему – иное. Вон, люди похитрей меня толковали. И дело им видно больше, ничем мне. А ты же ни на то, ни на другое не пристал, царевич. Ишь, душа больно робеет у тебя, когда надо повершить што-либонь… Какие же советы мои и к чему?.. А, вот, одно скажу: зовет родитель-государь. Идти надо. Воля его отцовская и царская. Это – первое. В другое: с опаской идти надо. Правда, сам ты зла не мыслишь… А все быть может… Береженого, сказывают, и Бог бережет. А в третье, – вон, поди, и в голову тебе не западет николи какое супротивство родителю оказать, али бо ему поруху какую, здравию ево, али части учинить… Стало – и греха тут нету, коли сын к родителю заявился да обое они толковать о чем станут. А придете вы обое на то, на што буде воля Божия. Вот дума какая моя. И тем оно добро, што тебе, государь, в сей час и повершать ничево не надобно. Што буде, то буде, волею Господней, не нашим людским хотением…
Слушая искреннюю речь Языкова, все просветлели. У Федора тоже прояснилось лицо, и он закивал утвердительно головой.
– Так, так, Иванушко… По всяк час ты прав… Уж и умен же ты…
– Дураком николи не звали, а и больно в умных не слыву. Так, што на уме, то и на языке у меня, как у пьяного, – шуткой ответил Языков.
Гул одобрений был ему наградой со стороны всех сидящих в покое.
– Вестимо, царевич, как не пойти, коли родитель позвал, – авторитетно заговорил молчавший до сих пор дядька Федора, осторожный и болезненно честолюбивый боярин Федор Куракин.
– Уж тут дело чистое, – громко, решительно заговорил опять Петр Толстой, видя, что все улаживается. – Проводим к государю царевича. Их царская воля. На чем их милости решат, на том и мы пристанем… Наше дело холопское, не так ли, бояре, и вы, люди ратные?..
Говорит, а сам переглядывается со всеми. И без слов эти немые взгляды досказали все, чего не высказал Толстой.
– Вестимо: их царская воля. Мы – рабы…
– Как они, государи?.. А надоть же и потолковать родителю с сыном со старшим!
– Господня воля во всех делах людских, а в царственном коловороте наипаче, – подтвердил и протопоп Василий.
– Иди со Господом, дитятко мое… Да хранит тебя Спас Милостивый, – осеняя питомца крестом, сказала боярыня Хитрово.
Софья, вставшая вместе с другими, отдала поясной поклон брату:
– В добрый час, братец, желанный мой… Уж и так бы я пошла с вами, да боюся забранит батюшка, што не в свои дела мешаюсь… Небось, как постригать меня велит мачеха, то мое дело буде… А тута…
– Ну, буде, Софьюшка… Не печаль царевича, – вмешалась Хитрово. – Видишь? идет он к царю… Нешто же допустит брат сестер постригать без воли ихней?.. Все обладится, верь ты мне…
И обе женщины остались одни в покое, откуда с говором вышли за царевичем все, кто был на совещанье.
Не успели они скрыться за дверьми, как Софья с тревогой обратилась к старухе боярыне:
– Ох, мать моя, боязно, как бы тамо чево не вышло, што и не ждали, и не чаяли? Ишь, Дуровой какой братец у меня. Хто ему што скажет, он на то и пристает. Ровно вертун на крыше. А тамо…
– Тамо будет, как нам надо!.. Вон, Петра Толстой парень не промах… Языков-то спроста уговорил царевича к государю идти… А Толстой и смекнул: туды бы привели без помехи царевича. Тамо все буде, как по писаному… Верь ты мне, старухе…
– Дай, Боже!.. Уж только бы нам мачеху мою ей всей роденькой ихней сократить. Господи, сорочку последнюю отдала бы на нищих да на масло… Пойду Господа помолю, Матерь Ево Пречистую: дали бы нам на врагов одоление… Мир тобе, матка, Анна Петровна, родимая…
И, поцеловав Хитрово, царевна ушла на свою половину.
Старуха знала, что говорила Софье.
Петр Севастьяныч Хитрово, постельничий Алексея, как раз заступил на свое дежурство, когда теплые сени и два небольших покоя перед опочивальней больного стали наполняться толпой бояр, дворян и стрелецких голов с царевичем Федором и Богданом Хитрово во главе.
Раньше здесь уже дожидался Юрий Долгорукий и с ним еще несколько бояр, чтобы получить вести о здоровье царя.
Их удивило, что царевич явился в сопровождении такой большой свиты, к тому же состоящей из лиц, не причисленных к дворне Федора.
Ответив на поклон Долгорукого и бояр, вставших при появлении царевича, Федор приказал Петру Хитрово:
– Повести батюшку-государя, по зову и приказу ево царскому пришел-де я видеть очи ево светлые. Ежели не почивает, лих, государь.
– Прокинуться изволил, а то почивал ево царская милость, – ответил Петр Хитрово, отдав низкий поклон царевичу. – Сдоложу сей миг… И о тебе, князь, – обратился он к Долгорукому. – И о вас, князья-бояре, – отдавая поклон дяде, Богдану Хитрово, и другим вельможам, вошедшим за царевичем в этот покой. – А ты, отец протопоп, може, один к государю войти пожелаешь? О тебе – чево царю и сказывать? Без доводу вхож, чай, – с новым поклоном обратился он к протопопу Василию.
– Вестимо, чадо мое. Отцу ли духовному можно претити к государю внити, егда возжелает.
И первым, следом за спальником, прошел духовник Алексея к нему в опочивальню.
– Поизволь войтить, царевич, к царю-государю. А и вас всех, князья и бояре, жалует царь милостью, зовет пред очи свои, – объявил через несколько минут тот же Петр Хитрово, появляясь на пороге и пропуская царевича первым в опочивальню. После других проскользнул туда же и думный дьяк Титов, в широких карманах которого всегда находился особый «каламарь», длинный ящичек со всеми принадлежностями для письма и куски хартии разной величины.
Сейчас же почти этот покой, опустелый после ухода бояр, наполнился всеми, кто оставался в соседней горнице и в сенях.
Кой-кто стал заглядывать в опочивальню через полураскрытую дверь и прислушиваться, что там происходит, сообщая негромко обо всем тем, кто стоял подальше.
Алексей, после сна чувствуя себе особенно бодро, полусидел на постели, обложенный подушками. Ноги и все исхудалое тело его почти тонуло в мягкой пуховой перине, под складками одеяла, подбитого «черевами» соболиными: только плечи и голова выделялись среди белоснежной груды подушек.
Печи были жарко истоплены в опочивальне. И царь расстегнул даже косой ворот рубахи, из-под которой выдавались костлявые очертания плеча и сильно исхудалая шея.
Очевидно, духовник успел ему сказать несколько слов о причине прихода думных бояр и вельмож. Сказал и о стрельцах, головы которых ждали в соседнем покое.
Кивнув слегка головой на обилие низкие поклоны, ответив слабым голосом на приветствия вошедших и сына, Алексей, передохнув, заговорил:
– Вот оно и ладно, што ты, сыне, не один пожаловал. Словно Господь надоумил тебя. И всех, хто с тобою. За недолгие дни хвори нашей, как слышно, многие толки негожие пошли по Москве. Люди, слышь, только что не замутилися. Забота всех взяла: хто сядет царем, егда час воли Божией приспеет для нас?..
– И, батюшко государь, о чем молвить изволишь, – не подымая глаз, рвущимся голосом заговорил Федор, пока больной делал невольную передышку. – Подаст Господь тебе еще здравия и сил на многи лета, нам, детям твоим, на радость, земле на славу… Што и поминать о смерти? Поживешь, гляди. Вон, Бог дал, лучче ж тебе стало…
– Так оно так. Да, слышь, сыне, на Бога надейся, сам свое дело верши. Так старые люди толкуют. А ты, голубь, млад. еще… Слушай, што скажу. Ответ дашь, коли што спрошу. Не забывай, как смолоду учили тебя… Вот, и волим мы пообъявить ныне приказ наш о царстве и о всем доме нашем, и о добре, какое припасено, родовое и царское.
– Слышь, отче, – обратился он к Василию протопопу, – добудь ключи из-под изголовья. Ларец вон там невелик в укладке кованой, што в углу стоит. Добудь ево… Сюды поставь, на стол, поближе к царевичу. А другой бы хто сходил, позвал бы к нам боярина Артамона… Да царицу с царевичем Петром… Пусть бы и они послушали, о чем тута речь буде.
И, совсем тяжело дыша, очевидно, утомленный от долгой речи и напряжения, Алексей, побледнев, откинулся совсем на подушки, среди которых был усажен.
Федор, присевший на скамье, недалеко от постели, приподнялся и стал вглядываться с тревогой в лицо отца. Минутное оживление прошло. Глаза были закрыты. Под ними собрались большие мешки и обозначились черные круги.
За несколько дней болезни в темных волосах царя, изредка подернутых, как искрами, седыми волосами, проступили теперь белые пряди и полосы седины.
До боли острая, неясная тревога сжала сердце царевичу. Что это за таинственный недуг, налетевший так быстро и так сильно в короткое время подточивший крепкого до этих пор отца? Уж, не порча ли? Кому же было надо это сделать…
И невольно сорвалась с его уст робкая просьба:
– Батюшко государь, лекаря б тоже твоево сюды… На всяк случай…
Алексей только молча кивнул головой и протянул руку к столу, где стояло питье, приготовленное Гаденом.
Петр Хитрово, стоящий у постели и предупрежденный прежним дежурным, взял флакон, налил в кубок, из кубка отлил себе в ладонь, выпил и с поклоном подал больному. Остатки, недопитые Алексеем, тоже выпил Хитрово.
– Иди, – снова, очевидно, получив силы после приема лекарства, приказал ему царь. – Зови, ково сказано…
– Исполню, государь. Да, слышь, молвить дозволь: на богомолье царица выехать изволила, и с царевичем. Боярин Матвеев с ею же, в провожатых, – не совсем решительно солгал он. – А лекаря я мигом… Еще ково поизволишь?..
– А далеко ль молиться царица пошла? Чай, не за сто верст. Тута ж, на Москве… Вот и пошли за ей – пока мы тут што, она и приспеет, – тревожно вглядываясь сперва в спальника, потом во всех окружающих, приказал Алексей.
– Надо быть, государь, куды за город снарядилась государыня, как стрельцовский полк перед поездом для охраны шел, – вмешался почтительно Богдан Хитрово. – У тетки я был в покоях, оттуда видно было, как перед теремом царицыным поезд собирался… Да, слышь, Петруша, – обратился он к племяннику своему. – Чай, знают теремные боярыни, куда царица путь держать изволит? Поди, и догонить можно, повестить, што государь-де просит пожаловать на обратно.
– Да, да… Послать, догнать надо… Пусть поворотит, – торопливо подтвердил царь.
Петр Хитрово, провожаемый дядей, который на ходу ему что-то еще толковал негромко, вышел в небольшую дверь, которая вела во внутренние дворцовые покои. Здесь, как и во всех переходах, кроме дежурных сенных истопников и придверника, стоял стрелецкий караул.
– Слышьте, – приказал им строго Хитрово, – царский приказ вам грозный: ни единой живой души не допускать в опочивальню этими дверьми! Хто бы ни был… Слышите? Казни лютой всякого предадут, хто ослушается приказу.
– Как прикажешь, господине, – отозвались караульные.
– А лекаря царскаво Данилку тож не пущать? – нерешительно спросил придверник. – Он то и знай я энти двери ходит-выходит. Слышь, кругом больно далеко ему бегать. А порою надобно поскореича… Так он, слышь, баял.
– Ну, потолкуй еще… Сказано: живой души не пущать. Так и знай…
И Хитрово пошел дальше по переходу.
В опочивальне царя между тем настало короткое молчание.
Щелкнул и зазвенел мелодично замок в укладке, на которую царь указал протопопу, и сама отскочила тяжелая крышка, очевидно, подпираемая сильной пружиной. Протопоп взял небольшой резной ларец, стоящий в сундуке поверх всего, и перенес его к постели, на стол, как указал Алексей.
В той же связке оказался небольшой, замысловатый ключик, которым и открыли ларец.
В нем лежал большой свиток, духовное завещание царя, составляемое обыкновенно заблаговременно, на всякий случай, по готовым образцам прежних царских «приказов», но с изменениями, касающимися раздела городов, усадеб, поместий и имущества царского соответственно числу наследников.
– Читай уж пока, што там по первоначалу. Гляди, и подойдет царица, – сказал Алексей думному дьяку Титову, который уж оказался около стола, как будто для того он и явился сюда за всеми.
– Приступим со Господом, – как бы благословляя на зачатие дела, провозгласил протопоп Василий.
– Господи, благослови, – осеняя себя крестом, эхом откликнулся Титов и привычным тягучим голосом начал читать обычную вступительную формулу завещания, а потом – и статьи его, одну за другою.
Окружающие почти не слушали распоряжений, касающихся раздела родовых имуществ романовских. Они напряженно ждали главного, ради чего пришли сюда.
Вдруг показался снова Петр Хитрово и прошел поближе к постели, ожидая, пока царь прикажет ему говорить.
Дав знак Титову подождать, Алексей вопросительно поглядел на спальника.
– Ну, што?..
– В три либо в четыре места собиралася государыня царица. Я уж двоих гонцов погонил… Они уж по пути допытаются: в какой край поезд повернул из ворот из городских? А лекаря и во дворце, видно, нету… На дом за им тоже послано. Гляди, не замешкается, придет.
– Домой, – покачивая поникшей от слабости головой, повторил Алексей. – Быть тово не может… Может, стомился от бессонья. Спит где в покое… Ступай, пусть поискали бы. Сил мне надо ноне… А, чую, плохо мне сызнова… Неможется, совсем сил не стает…
– Батюшко родимый, може уйти бы нам, – быстро вступился Федор. – В иной час дочтем, как одужаешь, а ныне…
– И-и, где там… Може, последний мой и час пришел… Што откладывать… Немочно тому быть. Сиди, слушай… А ты, Петруша, сам ли лекаря погляди али спосылай ково… Лих, поживее. Да свету нам… Ишь, темно стало…
Правда, зимний короткий день стал быстро догорать, и вечерние тени уже ложились по углам комнаты, плохо освещаемой небольшими оконцами с частым переплетом.
Хитрово с помощью придверника быстро зажег несколько многосвещников, стоящих на столах, опустил на окнах занавески – и сразу неверный дневной свет сменился вечерним, более ровным освещением.
Спальник вышел, а Титов, придвинув поближе один из двух канделябров, зажженных на столе, где лежала хартия, поправил большие свои очки и стал продолжать свое однообразное чтение:
«А царства все мои и великие княжества, все государство и земли, и власть самодержавную, и короны все, и кресты дедовские и прадедовские, скипетр и державу, бармы и шапку Мономахову завещаю…» – прочел он, наконец, – и сразу все словно вздрогнули, какой-то неопределенный звук, словно полувздох-полувозглас вырвался из груди почти у каждого из слушателей.
Даже Федор, растерянный, словно подавленный видом больного отца, как-то насторожился, и внутренний испуг великого ожидания мелькнул у него в широко раскрытых глазах.
– «И Царство Казанское, и Астраханское, и Касимовское, и Ливонские земли, Кабардинские, Черкасские и Польские пределы, вновь покоренные, и Украинские земли казаческие и всю Великую и Малую, Белую и Порубежную Русь, все то завещаю и приказываю я…» Тут умышленно или случайно, но голос чтеца прервался, словно бы он не ясно разбирал: что дальше на писано в рукописи?
– Што встрял?
– Читай, слышь!..
– Читай же!..
Эти возгласы почти против воли вырвались у большинства слушателей.
– «Приказываю я, – снова повторил дьяк и повел дальше своим однозвучным голосом, словно и не слышал окриков, – сыну моему старейшему, царевичу Алексию».
Дочел и остановился теперь как следует, окидывая взором всех, словно желая видеть: какое впечатление произведет это имя покойного царевича, помещенное в завещании, составленном, очевидно, лет семь тому назад, когда царевич был еще жив.
Досадливое разочарование ясно отразилось у всех на лице. Только Алексей, знавший, что написано, остался спокоен, и что-то вроде удовольствия промелькнуло на лице у царевича. Он и хотел и боялся услышать имя свое или брата Петра. После этого, он знал, начнутся толки, может быть, споры и вражда, словом, все, чего он так боялся, чего не любил.
А тут оказалось совсем иное. Еще никто не вписан в завещание, если не считать умершего брата. Значит…
Но дальше додумать Федор не успел. Мелькнуло у него в сознании, что дело еще не устроено. Свара и смута – так же неизбежны, как и прежде, если только больной отец, жалея себя, не предоставит окружающим решить: кому быть наследником престола? Но сейчас же, как бы прочитав его мысли, заговорил Алексей, и внимание юноши приковалось к отцу.
– Недужен я. На одре лежу на смертном, быть может. Слушай же, сын мой, Федор. И вы все, бояре и воеводы мои, синклиты и советники. Как клялися мне и записи давали на послушание и службу верную царю своему и всему роду ево… Вот воля моя какова.
Снова остановился для передышки больной. Предупреждая то, что может дальше сказать Алексей, Богдан Хитрово хотел было возвысить голос, что-то сказать, но Долгорукий и Федор и еще несколько человек из его же сторонников не дали ему говорить, остановили, кто взглядом, кто движением, кто голосом:
– Нишкни… Тихо… Слушайте царя, бояре…
И среди полной тишины царь снова продолжал, обратись к Титову:
– Похерь, Иваныч, «Алексию»… Так… Ставь на поле: «Феодору»… Так! – следя за движением пера Титова, сказал царь.
Живое удовольствие сразу обозначилось на лицах у всех, кто был в покое.
Алексей заметил это, бледная, мимолетная улыбка озарила и его скорбное лицо.
– Написал? Дале; «…со братом ево молодшим, царевичем Петром».
И словно не видя и не слыша сдавленного смятения, которое всколыхнуло всех, едва царь продиктовал эти слова, он продолжал:
– «До несовершенных лет – быти старшему брату, тебе, Федору, попечителем в место отцово молодшему, Петру. А как настанет ево царское совершение лет, три на десять, – объявити ево всенародно соправителем царства. А до тех пор – опеку и заботу о младом царевиче вручаю матери ево, царице Наталье и мужам совета испытанным: боярину Артамону Матвееву, да князю Ромодановскому, да князю Борису Голицыну с боярином Абрамом Лопухиным, да боярам Кирилле Нарышкину, Федору Головину, Петру Прозоровскому, да иным боярам и князьям, коих царица с советниками на то изберет».
Все это медленно, с передышками продиктовал Алексей, следя, как против воли, может быть, неторопливо и четко выводил дьяк слова на полях бумаги.
Пока Титов дописывал, что ему было сказано, царь обратился к Федору.
– Чай, сам знаешь, сыне, слаб ты здоровьем… Оженить тебя не поспел я… Помру – и неведомо: даст ли тебе Господь потомство мужеска полу… Вот зачем велю о царстве и для Петруши. А в другое: он, коли Бог ему веку даст, силен да боек у нас, даром, што мал. Не однова и сам ты мне сказывал: «Вот, коли бы мне Господь таково здоровье послал. Трудно-де царить Царю слабому, недужному». Вот, и станет Петруша, как подрастет, в помощь тебе… И с матушкой царицей. Знаешь, как блюдет она всех вас, детей моих… Не глядя, што не родные вы… Вот в чем последняя воля моя. Все вы слышали. Так и исполнить должны… Крестом Честным и Богом тебя, сыне, заклинаю. И вас, бояре… Ну… Дописывай, Иваныч, што сказано… Я и руку приложу… Ох…
И со слабым стоном, окончательно обессиленный от всех волнений и от напряжения, проявленного сейчас, Алексей в полуобмороке откинулся на подушки, с которых поднялся было, обращаясь к сыну и боярам.
Федор готов был ответить отцу, что свято исполнит его волю, но, увидев, что тот бледнеет и клонится на бок, крикнул:
– Што с батюшкой?… Лекаря покличьте скорее!.. Никак, сомлел…
Кой-кто кинулся к выходу, Петр Хитрово – впереди всех.
Долгорукий и протопоп Василий подошли к постели, взяли руки царя, стали прислушиваться к его дыханию.
Алексей, слабо вздохнув несколько раз, закрыл глаза и пересохшими губами еле внятно пролепетал:
– Ништо… так, дух захватило… Царицу… Матвеева… детей повидать бы… Петрушу… Што долго они…
– В единый миг, государь… Я сам пойду… Я мигом!
И Долгорукий быстро вышел из опочивальни.
– Унесло ево вовремя, – негромко заметил Петр Толстой Богдану Хитрово. – Тово гляди, мешать бы стал… Слышь, Иваныч, пожди, не строчи, – обратился он к Титову.
Но тот уже и сам давно остановился на полуслове, как только поднялась сумятица у постели царя.
– Надоть, бояре, свое толковать, за чем пришли, – вполголоса обратился ко всем Хитрово. – Гляди, кабы не взял Господь царя на глазах у нас… Ишь, синеет весь… Пусть бы поизменил волю свою…
– Вестимо, мешкать нечево, – снова вмешался Толстой. – Вон, половина ево приказу записана. Коли бы не смог и руки приложить – все царская воля!.. Сказать свое нам надо…
– Сказать, сказать, – откликнулись почти все так же негромко.
Пророкотали – и сейчас же смолкли, словно сами испугались своей смелости.
Все понимали, что медлить нельзя. Царская воля высказана перед лицом царевича. И если сам Алексей не изменит ее – слабовольный, робкий, чистый душой Федор конечно уж не решится поступить иначе, хотя бы и не осталось подписанного завещания от умирающего отца.
Все понимали это, но никто не решался заговорить первым. Дело было слишком важное, большое. Слишком много личных и общих интересов было поставлено на ставку, и можно было играть только очень осторожно, бить почти наверняка.
Но и молчать нельзя. Вон, кроме своего посланного, Петра Хитрово, за царицей и за лекарем кинулся Долгорукий и еще несколько лиц из таких, которые заведомо держали руку Нарышкиных. Они разыщут, приведут всю ненавистную компанию, и Матвеева, и иноземную стражу, и стрельцов Петровского полка.
Весь план расстроится. Все будет потеряно.
– Э-эх, не будь Феди тута, – тихо шепнул Толстой Богдану Хитрово, – живо бы покончить можно… И вписать, што надо… И руку бы он приложил… А там – хто што узнает? Царевич поверил бы, он такой…
Хитрово только отмахнулся рукой от советника.
– Там, што бы было… Ежели бы да кабы… Ты вот, лучче дело царю скажи…
Толстой, словно не расслышав предложения, пошел кому-то еще шептать свои соображения.
И неожиданно для всех заговорил Василий Волынский, заведомый трус и «легкодух».
Если остальные от неудачи заговора теряли особые преимущества в государстве, теряли власть и сопряженные с нею крупные выгоды, почет и силу, – Волынский терял все, может быть, и самую жизнь. Он, собственно, не имел значения сам по себе или по родовым связям. Держался своим угодничеством, заискивал перед каждым сильным человеком. Но, открыто пристав к врагам Нарышкиных, он конечно, будет раздавлен последними, если они восторжествуют. А те, к кому он пристал, и не подумают заступаться особенно за «суму переметную», как величали боярина. Ни охоты, ни сил не будет для этого у побежденной партии.