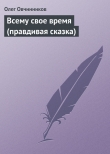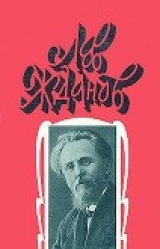
Текст книги "Русь на переломе. Отрок-властелин. Венчанные затворницы"
Автор книги: Лев Жданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Он понимает, что не может сказать «не быти»… Не может дать своего одобрения тому, чего желает сам, а не пожелает эта, сейчас столь покорная на вид, но такая своекорыстно-упрямая и всесильная Дума боярская, весь круг служилых, ратных и приказных людей… Можно бы бороться, правда, и с этим зверем многоголовым. Но нужны великие силы, которых не чует в себе Алексей.
Часам к десяти кончился совет.
Царь ушел к себе. Сел за утреннюю трапезу. Бояре все разъехались. Поспешно против обыкновения поев и умыв руки после стола, Алексей не лег отдохнуть, как делал это обычно после совета и еды, а приказал позвать Матвеева, который дожидался в переднем покое.
Выждав, когда закрылась дверь покоя за постельничим, Алексеем Лихачевым, который впустил Матвеева, царь заговорил:
– Не посетуй, Артамон, што задержал тебя. Гляди, и голодно тебе, и знать не терпится, пошто призываю?.. Да дело-то больно великое… Знаешь…
– Почитай, што знаю, государь. Шепнули мне приятели. Слышь, граматы подметные тебе, государь, подкинуты… Почитай, што в опочивальне самой в твоей царской…
– Вот, вот… Ишь, как оно все расплывается, ровно масло по воде!.. Ничево-то не скроешь, ничевошеньки. Ровно в ларце в стеклянном мы, цари, живем. Нам только и видать, что поближе, а нас всем издалека видно, и в день и в ночь… Ни однова дела потайно не сделаешь… Ну, слушай же скорее, покуль Богдан Хитрой не пришел. Не любит он тебя, хоть и боится, приязнь мою к тебе знаючи. Вот, читай. На тебя поклеп, под ваши стены подкоп. Только, слышь, не поверю я ничему! Читай, гляди, скорее. Да говори, што думаешь про цидулу. Откуль камень кинут? От ково обороняться? Руки кому вязать надо?
Протянув письмо Матвееву, царь умолк, давая время прочесть донос и разобраться в нем.
Как раньше за Хитрово, наблюдал сейчас Алексей и за читающим Матвеевым, только совсем с иными чувствами и не таясь, как прежде.
Просто хотелось видеть Алексею, какое действие произведет донос на Матвеева. Всегда находчивый, ровный, недоступный дурным побуждениям, останется ли он и тут так же невозмутим? Царю казалось, что донос должен повлиять на Матвеева очень сильно, и не ошибся.
Артамон Сергеич по несколько раз перечитывал иные места, видимо, вглядывался в каждое слово, как на поле битвы вглядывается человек, вглядывается в каждую стрелу, пущенную по его направлению врагами… Он то бледнел от негодования, то краснел от бессильного гнева, и жилы на лбу у него наливались кровью… Он стал оглядываться, словно не мог стоять, и искал, куда бы присесть.
– Садись, садись, Артамон, сидя дочитывай. Нихто не войдет, нихто нам не помешает. Я уж приказ дал. Это я могу приказать, – с какой-то горькой усмешкой промолвил Алексей.
Не отвечая ничего, Матвеев опустился на скамью и дочитал письмо. Наступило небольшое тяжелое молчание.
Первый прервал его Матвеев.
– Как же быть теперя, государь? – хриплым, упавшим, чужим каким-то голосом спросил Матвеев.
– М-да. Как нам быти теперя, Сергеич? – переспросил царь. – Видишь, скорпионы ополчилися на нас… Оборонятися надо. Да как?.. И от ково? Хитрой, вон, ладит: Беляевой дядя, Шихирев, слышь, со своими, слышь, на тебя идут. А моя дума, тут и позначнее хто в доле… Вот… Как по-твоему, а?..
– Да уж не без тово. Сам знаешь, государь, какие люди круг тебя. Много мы с тобой говаривали… Да я не про то… Оно, так скажем, поклепу на меня, будто я на здравие твое царское помышляю… Корни да травы чародейные берегу да тебя окармливаю… Тому не то твоя царская милость, а и вороги мои веры не возьмут… А вот… тут иное еще… Про девицу нашу непорочную… Про Наташу… Ее чернят… Быдто… словно бы… – и, не желая говорить от себя, Матвеев с трудом, с видимым омерзением стал перечитывать некоторые строки из доноса:
– «Девица та ведовством да колдовством потщилася сердце и разум светлый царский затмити… Приворотила ево разными бесовскими волхвованиями… А сама – блудница бесовская и ведьма заклятая ведомая… Ото многих сведков уличена, што не толико на шабаш летала, но и с воинами иноземными, кои в дом хитреца Матвеева вхожи, разны игры нечистые играла, многим, яко невеста, в жены ся обещала. И выше всякой меры опозорена есть… Не токмо царицей московской, но и последнему водоносу женою быти непотребна…» Вот, государь… За слова, за поклепы такие… не в силах я убить, растерзать, растоптать хулителя. Не надеюсь найти злодея! А, слышь, не хочу и того, чтобы дале на девицу наносили вины позорные… Просил я тебя и сызнова прошу: отступись, государь… Поизволь и ей и мне со всем домом моим уехать куды, подале… В послы ли пошли к чужим дворам… Али просто, отпусти в мои вотчины дальние. По душе тебе говорю: спокойнее, счастливее там век доживем, ничем и в палатах твоих царских не то поклепов, а горшего чево ожидаючи, што ни час, што ни минута… И отравой отравить могут бедную. И чем иным извести. Не колдовством. С нами – Бог. И не имем мы веры в пустые бредни. Да люди хуже дьяволов. Словом, губят, как чарой. Ядом-отравой сожигают, ровно злым колдовством. Отпусти нас, государь. Верни свое слово…
И бледный, потрясенный, со слезами на глазах, он отвесил земной поклон Алексею.
– Ну вот, ну вот… Да разве… Да могу ли? – сразу заражаясь волнением Матвеева, торопливо заговорил Алексей. – Николи… Да ни за што… Слушай, Артамон, не сказывал я тебе. И никому не сказывал. Мне теперь от Натальи отойти… Не ведаю, что и станет со мною. Слушай, Артамон… Ты садись. Ишь, еле на ногах стоишь… Слушай. Што было раз. Толковал я с Наташей. Про долю мою, про счастливую про царскую… Говорю ей: «Вот, гляди, хто не завидует мне? Надо всею землей господин! А я – иному колоднику порою завидую. Он – сам по себе. Грех содеял. Кару отбыл – и сам по себе… А я – царь, владыко – раб-рабом у людей… Слышь, – говорю ей, – не может царь по воле своей жить. Царь – боярский быть должон, либо стрелецкий, либо земской. Сила ево – на чужую силу опирается, а своим – не бывает царь…». Говорю ей и спрашиваю: «Разумеешь ли слова мои, девица?». А она только и ответила: «Плохо разумею. Только жаль мне тебя стало. Так жаль, что вот из царей бы тебя взяла, увела куды… И силы такой бессильной тебе не надо тогда… И муки не узнаешь, служить никому не станешь. Сам по себе жить учнешь…». Только и сказала девушка. А за эти ее слова… Да ежели бы и правда все, што тут писано, и то думать не стал бы, не расстался бы с ней… Слышишь, Артамон…
– Слышу, государь, – как-то безнадежно, уныло ответил Матвеев.
– Ну, коли слышишь, так и не опасайся ничего. Не пытать тебя хочу. Надо нам подумать, как ее оберечь… Чтобы до венца, по-старому, не отняли у меня девицы… И тебя бы не подвести под лихо… Вишь, слово ты кинул: не знаешь, на ково думать, хто ворог? Много их. Ты их чуешь… Я их чую. А хоть бы и объявились на очи они, может, сил бы не то твоих – и моих, царских сил не станет со злодеями справиться… Сильны лиходеи. Умненько надо с ими. Вот я што удумал… Хитрой придет скоро. Все по ево потакать стану. Вызнаю, ково раньше убрать хотят. Думать надо, Шихирев с Овдотьей с Беляевой теперь на череду. На них намекал Хитрой. Они, мол, только и могли такой поклеп возвести… тебя, слышь, с Натальей штобы под гнев, под опалу мою подвести… Ладно. Жаль девки, а себя жальчей… Пущай ее уберут… Пущай дядю ее, Шихирева, в допрос возьмут. Запытать не дам, гляди, горюна… А ты тем часом челом мне добей. Ровно бы Наталью из невест домой просишь… Мол, занедужала девка. Я отпущу. Они увидят, што напужался ты, убрал Наташу. Оставят в покое ее и тебя… А ты пуще глазу Наталью мне береги… Она у тебя в дому – гляди, и сохраннее будет пока, ничем в моем терему в царском… Я все по-ихнему стану делать. Гляди, новых невест казать станут, своих, присных да кровных… Смотреть, хвалить стану… Пущай ждут… А как поуляжется все… Поуверуют они, что могут меня повернуть, куды хотят… Понадеются, мол – их взяла… Я, все повызнав… Ну, да сам будешь видеть, как будет. Слышь, Наталью мне береги… Ступай… Стой. Спросят, о чем тут мы речь вели, говори: под присягой-де царь тебя допытывал – правда али нет в письмах в подметных писана… И ты ту присягу великую дал мне на мощах на святых, на кресте и Святом Евангелии…
– Готов, государь, хоть сейчас, – протягивая руку к иконам, порывисто заговорил было Матвеев.
Но Алексей остановил его:
– Оставь. Буде. Не мучь хоть ты меня… Дай хоть с тобой человеком просто быть… Верить, коли верится… Любить без опаски… Не судьей, не рабом в бармах да с посохом господарским… Человеком хочу быть… Так верю тебе. Как человеку… Как другу моему некорыстному… Так хочу… Больно же, коли не можно того… Больно, пойми… А у меня и то душа изболелася… Наталью береги… Ежели дойдет к ней што, растолкуй девице… Она поймет. По правде скажи, как я вот тебе в сей час сказывал. Она поймет. Ступай.
И с внезапным порывом, вовсе не присущим этому немолодому, вечно сдержанному человеку, Алексей обнял Матвеева, поцеловал его в лоб и отпустил.
Царь угадал. Богдан Матвеич Хитрово уже дожидался в соседнем покое, напрягая все внимание, весь свой слух, чтобы уловить хоть словечко из разговора царя с Артемошкой… Но толстые стены, плотные двери, тяжелые суконные завесы свято хранили тайну.
И, досадливо кусая губы, потирая руки, ждал боярин, когда явится Матвеев, чтобы спросить, и по ответам, по виду ненавистного человека уловить, догадаться, о чем шла речь за стеной, чем кончилось это свидание.
Увидя бледное, скорбное лицо недруга, со следами слез, такое озабоченное, такое печальное, Хитрово вздохнул свободно и с дружеским приветом двинулся навстречу Матвееву.
– Светик ты мой, Артемон Сергеич, приятель многолюбезный… Рад тебя видеть… особливо в сей час… Слыхал, знаешь, какая напасть на тебя?.. Я уж и то толковал государю: вороги твои поклеп возвели… Он и сам так мыслит. Чай, сказывал тебе милостивец наш… Царь наш, батюшка. Он – у-у, как все знает… Цидулу-то видел?
И, пронизывая Матвеева глазами, ждет ответа на все свои вопросы боярин.
Матвеев все силы напряг, чтобы, согласно совету царя, не выдать врагу правды. Он даже не отстранился от объятий боярина и по возможности дружелюбно ответил:
– Показывал мне писемцо государь… Присягу с меня взял на мощах да на кресте и Святом Евангелии, правду бы я сказал: было то, что писано, али нет?.. Я присягнул. Просил сыск назначить… А ужо там ево царская воля. Как он порассудит. И пускай бы сыскали: хто писемцо подкинул. Вот чево прошу…
– Вот, вот, вот… Вот, вот, вот… Сам я тоже толковал царю. А там, известно, ево царская воля. Он слуг своих верных на хулу не выдаст безвинно… Ну, Христос с тобой… Не печалься, брате. Вот, хрест тебе и слово мое боярское: сыщем поносителей… Не дадим в обиду тебя и девицу твою… Были людишки тута… брехали: твою, мол, Наталью избудут, с верху сведут, свою невесту царю обручат… Я с тем и государю доложить иду… Верное слово. Я уж и на примете имею кой-ково… Пощупаем. Иди с Господом… Не печалься… Дай поцелуемся… Знай: Богдан Хитрово – первый друг и заступник тебе в деле правом… Я – к царю. Ждет он меня…
И, облобызав Матвеева, Хитрово двинулся к покою, где был Алексей.
Терпеливо приняв поцелуй предателя, поклонился боярину Матвеев и быстро вышел в сени, торопясь скорей домой.
Двадцать второго апреля найдены были «воровские подметные письма». В тот же день пущен был в ход весь сыскной аппарат Тайного приказа, а двадцать третьего числа с соизволения Алексея Иван Шихирев попал в застенок после того, как был сделан обыск в жилище его и там нашли какие-то подозрительные травы и коренья сушеные. Выплыло наружу все хвастовство, все разговоры неосторожного провинциала и с рейтаром Александром, и с докторами царскими, и с протопопом Благовещенским.
Но на допросе Шихирев упорно отрицал свое участие в составлении писем. Тогда его подвергли пытке. Правда, не самой тяжкой. Надо было только достигнуть удаления его с красавицей-племянницей. А для этого было все почти готово. Все-таки бедняка подняли на дыбу, поджаривали пятки огнем, дали тридцать ударов батогом.
Сознался в своих хвастливых, облыжных речах Шихирев.
– Сознайся, на ково зелье в дому держал? Не против государя ли удумал што? Околдовати его, взял бы девицу твою за себя…
Так допытывались бояре.
Но бедняк и на пытке одно твердил:
– Травы мои не для ведовства толчены и схоронены. Дала мне их знахарка на Вологде. Уразные те травы. От ран помогают. А у меня раны застарелые. В бою их получил, за землю, за государя кровь проливая… В вине да в пиве их сам выпивал, хвори своей уразной ради.
Дали исследовать траву. Оказалась просто зверобоем сушеным. И отпустили Шихирева. Приказали ему поскорей с племянницей ко дворам вернуться, Москву лихом не поминать. Уехали они, и скоро забыли их на Москве. Своя тут волна за волной набегала, поднималась и падала.
В течение всего мая царь все новых и новых невест смотрел, которых свозили в престольный град.
Наталья Нарышкина вернулась из кремлевских теремов к Матвееву. По-прежнему навещает Алексей своего любимца. Даже здесь раза два девицы, отобранные царем, собирались. И царь незаметно, из соседнего покоя наблюдал, как держат себя девушки не в удручающей атмосфере царских теремов, а на свободе, в частном доме, где легче проявляются и светлые и темные стороны души, не стесняемые дворцовым этикетом, не запуганные вечным надзором и сыском теремов.
– Чудит наш царь… Ишь, жену выбирает – ровно камень многоценный ищет в песке… Роется, возится, найти не может…
Так толковали бояре, очень недовольные затяжкой в этом деле.
Особенно злился Хитрово. Но сделать ничего нельзя было.
У бояр была возможность помешать Алексею жениться на ком-либо.
Но они не могли заставить его жениться на своей избраннице. У них не было средств заставить его скорее сделать выбор…
Он чувствовал, что бояре, заинтересованные в женитьбе царя, из себя выходят, бесятся, но должны терпеть, молчать. И это доставляло огромное наслаждение Алексею.
Только время от времени он повторял Матвееву наедине:
– Гляди, Наташу мне поберегай, Артамон…
Чтобы довести комедию до конца, Хитрово и дьяк Тайного приказа Государева Федор Михайлов послали оба «воровских» письма во все Приказы, сложив их таким образом, что от одного письма видна была надпись, две строки всего: «Достойно есть поднести царю или ближнему из людей царских, не смотря…».
От другого письма видна была лишь подпись: «Артемошка».
Каждому предъявляли, спрашивали, не он ли писал? Не знает ли такого почерка? И все дьяки, все подьячие и писцы давали на бумаге показание.
Стали сличать почерки, но похожего совершенно не нашли.
Тогда послан был приказ: всему служилому сословию Москвы явиться двадцать шестого апреля к Постельному крыльцу.
День выпал праздничный. Занятий в Приказах не было. Столько приказных собралось, что весь двор и площадь перед крыльцом запрудили. И молодые и старые. Длинной вереницей проходили в течение долгих часов все эти люди мимо стола, где лежали оба письма под присмотром бояр и дьяков из Тайного приказа.
Тысячи голов наклонялись над двумя кусками бумаги, вглядываясь в загадочные буквы. И, конечно, никто ничего не мог сказать, хотя перед осмотром и был прочитан строгий приказ государев, суливший великие милости лицу, которое откроет составителя писем, и грозивший пытками, всякими карами, если кто скроет что-либо, ему об этих доносах известное…
Много волокиты, досады и хлопот принял служилый московский люд от этих розысков. Отцы и родичи некоторых девиц, привезенных на смотры, которых тоже тягали на допрос, уже без стеснения ворчать стали.
– Лучше бы нам девиц своих в воду пересажать, ничем на смотры в верх [6]6
В терем.
[Закрыть] привозить, – так сказал сгоряча однодворец, некий Петр Кокорев.
Это донесли царю. Заплатил пеню Кокорев и с того же Постельного крыльца его «речи, слова непристойные» были объявлены, опорочены.
На все соглашался Алексей, что предлагал Хитрово и другие бояре. Ни с чем не спорил. Но сам ни звуком не давал знать, как он решит, как поступит.
И бояре стали уставать от этого гибкого, уклончивого, но тем более несокрушимого сопротивления, какого и не ждали встретить со стороны недалекого, всегда податливого боярской воле царя Алексея.
Минуло ровно девять месяцев после этих тревожных дней.
Пролетели Святки. Наступил Новый, 1671 год. Приближалась широкая Масленица. Никому в ум не пришло обратить внимание на какие-то особые приготовления и приборку, которая шла в тереме кремлевском, в самом царском дворце, и на женской половине, и в поварнях, и в белошвейной, в кадашевской и других мастерских.
Перебирались наряды блестящие царицыны… уборы ее. Освежали покои. Все как обычно перед Пасхой, только уж рано немного. Ну, да это не тревожит никого. Нечего делать женской половине во дворцах, бабы и суетятся и возятся.
А двадцать второго января далеко до свету поднялся Алексей.
Праздник ныне. Гостей ждет государь. Большие столы назначены.
Последнее воскресенье перед Сырной Неделей. И к Масленице к широкой готовятся в Кремле. Поэтому так много всего печется и варится. Вина, меды разливаются из запечатанных бочек в сулеи да в кувшины и бочоночки поменьше.
В субботу караул в Кремле держали рейтары Крауфорда, испытанные, неподкупные телохранители царские.
На рассвете вступил в караул 3-й Петровский полк, в зеленых кафтанах, что за Петровскими воротами стоит. А в том полку – Артамон Сергеевич Матвеев голова. Значит, тоже люди все надежные подобраны.
Но и рейтаров не пустили с караула домой.
– Оставайтесь, друзья, здесь, – сказал им Гордон, – царь угостить вас хочет нынче. А пока идите, отдыхайте, вам дадут помещение поудобнее.
И уложили их спать в людских службах, где вся челядь уже на ноги поднялась, очистила место.
Побывав в субботу днем у патриарха Иоасафа, долго толковал с ним Тишайший царь, открыл свое заветное желание и получил благословение на вторичный брак.
Нездоров был владыко… И года, и телесная слабость одолевали его. Стараясь по возможности держаться в стороне от той кипени, какою отличалась внутренняя жизнь царского дворца, святитель ничему не противился, ничему не помогал. Он был доволен, что нездоровье освобождает его от обязанности венчать Алексея. Предвидит опытный старец, что многие будут недовольны неожиданным для них выбором царским.
Но все-таки тепло, задушевно поговорил он с Алексеем, преподал благословение и обещал вознести мольбы к Господу за благое окончание «доброго дела», причем осенил его образом Богоматери в золоченом, чеканном окладе.
Вечером в мыльню, согласно древним обычаям, сходил царь-жених и пораньше спать лег. А «ко первому часу дня», не глядя на воскресный день, приказал созвать царевичей, духовный чин и бояр к себе в покои, на совет[7]7
По нашему счету это выходит в восемь часов утра, так как двадцать второго января в Москве, считая от астрономической полуночи, солнце восходит и «начинается день» в семь часов пятьдесят пять минут утра. При Алексее это и был «первый час дня».
[Закрыть].
Задолго, часа за два до солнечного восхода встал сам Алексей, прочел краткие молитвы и снова отправился к патриарху за формальным благословением.
Здесь уже ожидал его Иоасаф, окруженный несколькими митрополитами и высшим московским духовенством. Явился и духовник государя, Благовещенский протопоп Андрей.
Осенив Алексея знамением креста и образом Богоматери с Младенцем, еще больших размеров, в более дорогом окладе, чем вчера, Иоасаф благословил протопопа венчать царя вторым браком с невестой, избранной Алексеем.
Отсюда Алексей вернулся к себе. За ним, кроме Андрея, пошли и митрополиты: Питирим Новогородский и Великих Лук, Павел Саровский и Подонский, Филарет Нижегородский и Алатырский, Мисаил Белгородский и Обоянский, Варсонофий, архиепископ Смоленский и Дорогобужский, архимандриты: Чудовский, Новоспасский, Симоновский, Андроньевский и игумны других главнейших московских монастырей. Все с иконами, чтобы благословить на «доброе дело» царственного жениха. Явился и Кондрат, протопоп Успенского Собора, где предстояло венчать новобрачных.
На половине царя его давно уже ожидали все царевичи и бояре, конечно, с Богданом Хитрово во главе. Пришел сюда и Симеон Полоцкий по зову царя. Он не явился со всеми другими попами к патриарху и здесь держался в стороне от остальных духовных властей. Невзлюбили они «схизматика», новатора-белоруса, и только особое расположение и защита царя спасли его от неприятных последствий этой вражды.
Неспокойны бояре; тревожно перешептывались и переглядывались все время до прихода царя. Задолго до назначенного часа были все они в полном сборе, светать не начинало еще. Призыв на совет был получен нежданно-негаданно. В самой Москве не случилось ничего особенного. По царству – тоже тихо было. Чужой враг не грозил нежданным нападением. Гонцов особливых не было накануне. И ломают себе голову седобородые бояре и попы: зачем зовут их? Слыхали, что был вчера государь у патриарха Иоасафа. Здесь, во дворце, уже дошли до них разные вести.
Кое-кто из приближенных к царю в точности знал, в чем дело. Но лишним словом боялись обмолвиться. Понимают, что иное слово могло бы дело испортить, а им – стоить всего благосостояния, если не жизни.
Собравшись в довольно обширном переднем покое, недалеко от опочивальни царя, куда прямо от патриарха прошел он со своим постельничим Голохвастовым, бояре негромко толковали между собою, строили разные предположения и пришли к одному выводу: дело касается ничего иного, как женитьбы царской.
Очевидно, на этом необычном совете их ждала еще большая неожиданность.
Бояре – Хитрово, Иван Милославский и Соковнин с Вельяминовым подозрительно, с явной неприязнью поглядывали на Матвеева, который тоже очутился между первыми боярами и духовными советниками царя, хотя ни годами, ни чином, ни знатностью рода не получил на это право.
Наконец вышел царь и после обычных приветствий среди глубокой тишины объявил торжественно:
– Ради устроения царства, земли всей, а, наипаче, дома моего государского, с благословения святителя нашего, отца-патриарха Иоасафа всея Руссии, не мешкая долее понапрасну, поволили мы избрати себе в царицы единую из девиц-невест, нами собранных в град престольный Москву. Девица сия – Наталия Кириллова дочь Нарышкина. Коли выбору моему супротив не станете, царевичи, бояре и князья, вся Дума моя ближняя, и вы, отцы-святители, богомольцы наши, ей подадим по обычаю – платок, ширинку, яко царевне, и кольцо наше царское. Поймем ю в жены.
Вопрос был задан в такой форме и таким решительным тоном, что возражений, очевидно, не ожидалось.
И бояре, царевичи, духовные советники общим гулом согласия и одобрения ответили царю, отвешивая земные поклоны:
– Твое дело государево – твоя и воля… В час добрый!.. Што сказать? Сказать нечево… Божие благословение на тебя, царь, вкупе со избранной царицей твоей да почиет!..
– Оно бы и было што сказать, – вдруг прорезал общий гул резкий голос шурина царского, двоюродного брата покойной царицы, Ивана Михайловича Милославского, – да, видать, наново жить починаем мы на Руси. Новы свычаи-обычаи и порядки завелися, не наши, московские, исконные, а на заморский лад… Ин, исполати на новшестве тебе, царь-государь. Челом бью! По почину – и кончину желаю удачливую…
И явно вызывающим земным поклоном закончил свою речь боярин, очевидно, потерявший от гнева и неожиданности всякое самообладание.
Сдвинулись брови Алексея. Глаза загорелись огнем, который редко вспыхивал в этих всегда добрых, даже немного сонливых глазах.
Но сдержался царь. Сделал вид, что хорошо не расслышал дерзкой речи, что не заметил, как друзья боярина оттерли его в глубину покоя, заслонили собой и стали что-то горячо толковать сумасброду.
– Артамон, ты слышал речь нашу, – обратился царь к Матвееву. – Сдай кому иному начальство над караулом, домой поспешай, упреди девицу, нами избранную, што следом за тобой и дружки наши пожалуют с нашим царским словом, с дарами и милостью. Готова бы была. Да подтверди наказ: ныне – ни из Кремля, ни в Кремль не выпущать никово без нашево особливого приказу, как тебе уж ведомо. Ступай.
Невольно переглянулись все при последних словах царя. Выходит, в почетном плену они очутились, а не попали на свадьбу, так нежданно-негаданно объявленную.
И самые сдержанные, самые гордые, не гнувшиеся до этой минуты, теперь почуяли, как велика и как близка для них опасность. Лица их сразу озарились самой приветливой улыбкой и низким, чуть не раболепным поклоном проводили эти князья и бояре выходящего из горницы незначительного дворянина Артамона Матвеева, по слову царя ставшего чуть ли не первым среди них.
Алексей заметил эту внезапную перемену и вздохнул легко. Хоть ненадолго, но он чувствовал себя господином этой толпы, которая всеми силами, незаметно, но тяжко навалившись на его державную руку, вынуждает править царством совсем не так, как он бы сам хотел…
Обратившись к небольшой кучке бояр и князей, державшихся немного особняком, среди которой находились и все восточные царевичи, живущие на Москве, Алексей продолжал:
– Тебе, князь Яков с Федей Голохвастовым у меня с царевной-невестой дружками быть, по невесту ехать, ей наше слово царское сказати надлежит. Сани да колымаги готовы, чай, тамо. Ты, Матвеич, – обратился он к окольничему Родиону Стрешневу, – постарше будешь, все порядки знаешь, гляди. Вот, и поезд свадьбишный тебе наряжать. Вот, с им, с Титовым. У ево и список заготовлен: кому из дворян из наших с вами ехати. А конюшим – боярину князь Григорию, а у саней – тебе, Митя, быть у невестиных. Да рейтаров тамо прихвати, сколько ни есть… И с Господом… Скорее в путь-дорогу собирайтеся. В час добрый.
– В час добрый, в святу пору! – подхватили многие усердные голоса.
Князь Яков Никитич Одоевский, Федор Голохвастов, окольничий Родион Матвеич Стрешнев, думный дьяк Титов, князь Григорий Сунчалеевич Черкасский и Дмитрий Алексеевич Долгорукий, все, кого назвал царь, ударили ему челом и вышли, сопровождаемые общими напутствиями и благословением властей духовных.
– Тебе, боярин, князь Никита Иваныч, челом бью: не откажи в отцово место мне быти, сироте, при случае при таком, – с поясным поклоном обратился Алексей к князю Одоевскому, боярину-воеводе, красивому, видному старцу с белоснежной, окладистой бородой, придававшей ему сходство с Богом-Саваофом, как того рисуют на образах.
Все глаза обратились на князя.
Великую честь оказал ему Алексей – и по заслугам.
Еще юношей, шестнадцати лет от роду, князь принимал участие в ратях, которыми распоряжалась Семибоярщина, бороня землю русскую от нашествия иноземных врагов и собственных бунтующих казацких шаек.
С тех пор, в течение шестидесяти лет, усердно и безупречно служил князь земле и царям Московским, сперва «комнатной» службой, когда вернулся со Смоленского похода и занял место стольника при царе Михаиле. В сороковых годах заведывал успешно Астраханским и Казанским приказом, вел переговоры с Литвой, по воцарении Алексея служил в московской рати, исполнял и дипломатические поручения. Около года за свою прямоту и честность был оттеснен сворой жадных бояр, окружающих молодого Алексея. По словам современников-летописцев, «как алчные волки, грабили они народ и царство»… Честный, бескорыстный Одоевский торчал им бельмом на глазу. Но польская война приняла дурной оборот, и уже в 1652 году его вызвали для переговоров с Польшей. Туда же был он послан полномочным послом и в 1674–1675 годах закончил дело с большим успехом. Его ум и деловитость заставляли даже врагов относиться с уважением к князю. И он, как бы между прочим, всегда вел дела какого-нибудь Приказа, где работа была особенно запущена… И в Большой казне, и в Иноземном, Аптекарском, Рейтарском приказах, в Золотой палате – везде перебывал князь, оставляя благотворные следы своей работы, чуждой всякого формализма или продажности.
Лучшее дело, свершенное еще в начале царствования Алексея, Уложение российских законов, составлено было именно тем же Одоевским вместе с князем Волконским и другими, самыми опытными законниками-дьяками и боярами московских Судных и иных Приказов.
И никто не удивился, не позавидовал великой чести, выпавшей на долю этого семидесятилетнего старца, сохранившего до сих пор и бодрость мужа, и чистоту души – почти отроческую, и редкую силу ума.
Пока Алексей говорил, князь неторопливо поднимался со своего места на скамье, где он сидел несколько в стороне ото всех.
Медленно склоняя свой еще могучий стан, старец коснулся пальцами земли, выпрямился так же степенно и поднял на Алексея свои глаза, все лицо, словно озаренное радостною, ласковой улыбкой.
– Благодарствую, батюшко-царь мой, столь же и на чести, сколь и на радости. Думалось мне все: посетил государя Господь, отнял царицу-матушку. Его святая воля. Да не след царю и царству сиротети. Детям малым государевым – и материн глаз надобен. Хозяйка в дому, что матка в улью. Не мимо молвится. И привел Бог дождать радости. Поздоровь, Боже, на многи лета и тебя и царицу твою богоданную… Слыхал о девице: добрая, пригожая. И разумом взяла, и свычаем всяким добрым. Спаси тя, Господь, осударь, што подал мне и чести и радости на старости лет. Как служил деду, отцу твоему и тебе, батюшко, так и напредки послужу… Благодарствуй, живи на многи лета!
И снова отдал полупоклон царю.
Растроганный этой простой и искренней речью, Алексей подошел и трижды облобызался со стариком.
Эта сцена окончательно прояснила атмосферу в покое, сразу вызвала общее хорошее настроение даже у тех, кто считал себя лично обиженным поведением царя.
Алексей и прежде почуял, что пока все идет гладко и хорошо, как он раньше задумал и наметил, а теперь окончательно воспрянул духом. Какая-то твердая уверенность, что все окончится благополучно, положительно окрыляла его, придавала живость и красоту каждому движению, ясность – каждой мысли, точность – каждому слову.
К царевичу Грузинскому Николаю Давидовичу он обратился с просьбой быть тысяцким на свадьбе, а царевна Елена Леонтьевна будет посаженной матерью царя.
Царевич благодарил на чести и сейчас же распорядился вызвать жену в кремлевский дворец. Стольникам: князю И. Хилкову и Петру Волынскому выпала честь стоять при венчанье у свечи государевой.
Сидячими дружками были назначены у царя: Сибирский царевич Петр Алексеевич и Касимовский царевич Василий Арсланович; у невесты – Алексей Алексеевич Сибирский и окольничий боярин князь Борис Иваныч Троекуров.
Были посланы позыватые за боярынями, которые не жили в самом Кремле, но в качестве близких к царской семье должны были занять известные места во время брачного торжества.
Как только все распоряжения были сделаны, Алексей объявил боярам:
– До свадьбы еще немало часу осталося. Пойдемте, помолим Господа: дал бы Бог все по добру по хорошему кончати, как дело зачато… А после и чару меду прошу выкушать, пока до пиру, до веселого, до свадьбишного.