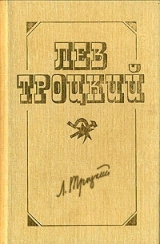
Текст книги "Проблемы культуры. Культура старого мира"
Автор книги: Лев Троцкий
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 40 страниц)
Л. Троцкий. ПОПРАНИЕ СИЛЛОГИЗМА
Революционное XVIII столетие стремилось установить царство силлогизма. Наши «60-е годы» тоже проникнуты были духом рационализма. Воинствующий силлогизм в обоих случаях был отрицанием неразумных идей и учреждений, которые в своей давности почерпают свои права на дальнейшее существование, не заботясь о предъявлении каких-либо других оправдательных документов. Рационализм не согласен и неспособен считаться со слепой инерцией, заложенной в исторические факты, – и еще менее того – с правами давности. Он хочет все проверить разумом и перестроить – на выводах из логических посылок. А так как далеко не у всех общественных учреждений логически сведены концы с концами, то силлогизм не может не представляться им крайне беспокойным и подозрительным субъектом, над которым нужен глаз да глаз. Цензура и есть ведь не что иное, как инспекция над силлогизмом. И если гражданам запрещают носить при себе оружие без разрешения полиции, то тем более необходим контроль префектов над применением столь огнестрельного оружия, как силлогизмы, из коих иные таксируются даже до 500 рублей (3 месяца в случае неуплаты). Стоит себе только представить, что в салон князя Мещерского[287]287
Мещерский, В. П. (1839 – 1914) – редактор-издатель реакционной газеты «Гражданин», был в молодости полицейским стряпчим, позднее уездным судьей. В 60-х годах написал несколько романов и сотрудничал в «Московских Ведомостях», «Русском Вестнике» и других реакционных изданиях. В 1872 г. начал издавать монархически-дворянскую газету «Гражданин». Позднее издавал газету «Дружеские Речи». Мещерский имел влияние на Николая II и играл некоторую роль в политической жизни страны.
[Закрыть] или в другую реакционную трущобу, где делается история, явился бы несгибаемый и неподкупный силлогизм и вмешался бы в беседу, что вышло бы из этого? Ничего хорошего, это ясно: хозяину пришлось бы кликнуть старшего дворника… Вот почему, между прочим, иные законопроекты о печати не могут служить образцами юридической логики; они построены на прямо-противоположном начале – на ненависти к силлогизму, этому самоуверенному и неутомимому подрывателю основ. Но мы отвлекаемся.
Молодое общество, молодой класс, как и молодой человек, – если он не трус и не тупица, – всегда склонны к силлогизму, к проверке разумом всего сущего. Рационализм знаменателен для эпох пробуждения. Из социальных сотов вырывается вчерашняя (n+1-я) «душа населения» и выходит на сцену, как «критически-мыслящая личность», во всеоружии силлогизма. За нею другая, третья, сотая… Силлогизм страшно заразителен, – и немудрено: индивидуальный опыт он возводит на степень общего опыта, – в этом ведь и состоит его неблагонадежная профессия.
При первом протесте под знаменем логики старые авторитеты, семейные, как и государственные, с непривычки страшно пугаются. Матушке, которую внезапно начинает донимать логикой 15-летний сын, кажется, что рушатся устои семьи. А будочникам разных степеней представляется, что выскочка-силлогизм немедленно потрясет все прочие устои. Оттого те формы государственности, которые, по природе своей, не в ладах с логикой, вынуждены вести истребительную войну против молодежи.
Молодой рационализм насквозь идеалистичен. Он верит в абсолютную силу человеческой мысли и предполагает, что уродливое и нелепое существует лишь милостью недоразумения. Он убежден, что достаточно открыть и формулировать истину, чтобы тем самым обеспечить ей путь к воплощению.
При первом решительном столкновении силлогизма с нелогичным, но дебелым фактом силлогизм терпит жестокое крушение. Этим он и морально компрометирует себя: «вот ваш прославленный разум, – сулил мир перевернуть вверх дном, а между тем отведен в участок за нарушение обязательных постановлений». И действительно: замок висит у двери незыблемо, у замка стоит недреманный Свистунов, а силлогизм сидит на хлебе-воде и выглядит, как мокрая курица. Это первое испытание имеет огромное значение – в жизни личности, как и в жизни общества. Отсюда начинается новая глава. Юноша, который замахивался на родителей силлогизмом, исходя из того соображения, что они одной ступенью ближе, чем он, к общей прародительнице-обезьяне, убеждается, что помимо иерархии разума существует социально-бытовая иерархия, которая на силлогизме не основана, но имеет перед силлогизмом то преимущество, что она осуществлена, а он не осуществился. Точно так же и передовая общественная группа вынуждена убедиться, что декларация разума сама по себе не разрушает покрытых плесенью стен Иерихона.
Рационализм, идеология пробуждения, раскрывается, как незрелая идеология. Выясняется, что силлогизм должен еще только найти свое место в живом процессе исторического развития; понять свое содержание не только как формально-обязательное, но и как исторически-необходимое; очертить свое поле действия; найти своего исторического носителя, – словом, перестать быть голым силлогизмом, а войти в живую систему общественного движения. Силлогизм бессилен, доколе бесплотен. Он должен войти в сознание масс, нагулять себе общественную мускулатуру, – только тогда он сможет развернуться в действии и воплотиться в учреждениях. Историческая диалектика не просто измеряет явления аршином разумности, а рассматривает их в их внутренней связи, в их возникновении, развития и гибели. Диалектика не отметает силлогизма, наоборот, она усыновляет его. Она дает ему плоть и кровь и вооружает его крыльями – для подъема и спуска. Только теперь силлогизм становится непобедимым.
Но это путь не всеобщий и раскрывается он не сразу. Непосредственным результатом крушения рационализма является пессимизм, переходящий в прострацию. От идеалистической веры во всемогущество разума до полного недоверия к нему – один шаг. Что такое силлогизм? – Синица, которая обещала море зажечь, наделала славы, а моря не зажгла. Долой силлогизм, он приносит личность в жертву абстракции! Он губит молодежь, этот безответственный демагог! Оттяпать ему, анафеме, голову! – рычит справа какая-то скотина из Брынских лесов. Да здравствует бессмертная личность, вера в трех китов и другие нас возвышающие обманы!
Однако, дело оказывается не столь простым. Где однажды прошелся со своей метлой силлогизм, там уже невозможен естественный возврат к бытовой непосредственности, к биологическому круговороту рождения, брака и смерти. Фактическая капитуляция перед дебелым фактом должна этически принарядиться, эстетически приукраситься, чтобы пройти через индивидуальность и превратиться в «добровольную» резиньяцию личности перед тем самым свинством, какое имелось налицо до восстания силлогизма. Эта задача и дает преимущественное содержание идеологическому творчеству в эпоху реакции.
Как ни различно и даже противоположно содержание общественной мысли в разных слоях и группах, но неотвратимая окраска эпохи, слабее или гуще, ложится на все ярусы. Враждебность к идейной ясности и точности, как масляное пятно, расползается вверх и вниз. Основные законы и их истолкователи уклоняются от ответа на вопрос: конституция или самодержавие? Государственно-правовой силлогизм изгоняется бесформенными ссылками на национальные особенности. Политические партии, «руководящие» и «ответственные», строят свою политику на недоговоренности. Всюду идет срезывание острых углов, притупление граней, разрушение межевых рвов и вех. Воцаряется отвращение ко всякой положительной доктрине, потому что она связывает сочувствие ко всякому скептицизму только потому, что он «освобождает»…
Наиболее верной этому духу эпохи идейной лабораторией была несомненно «Русская Мысль» – самый реакционный журнал на русской почве. Это не парадокс. Никакие издания Замысловского[288]288
Замысловский, Г. Г. – один из самых оголтелых черносотенцев и антисемитов. Был прокурором Виленского окружного суда, а затем Виленской судебной палаты. Обвинитель по многим политическим процессам. Играл видную роль в союзе русского народа. Был избран в III Думу от Виленской губернии. В Думе был старшим товарищем секретаря и членом президиума. Как депутата, занимался травлей всех инородцев и требовал полной русификации Финляндии, Польши и других окраин. С 1912 г. член IV Государственной Думы. В 1913 г. Замысловский вместе с другим черносотенцем, Шмаковым, был представителем гражданского иска в деле Бейлиса, обвинявшегося в убийстве с ритуальными целями христианского мальчика Ющинского. Во время процесса Замысловский доказывал существование у евреев ритуальных убийств.
[Закрыть], Володимерова и синодальнейшего Скворцова[289]289
Cкворцов – редактор-издатель черносотенной газеты «Колокол», уделявшей много места церковным вопросам.
[Закрыть] не могут идти в сравнение по своему реакционному значению с изданием кружка бывших марксистов первого призыва. Какой-нибудь «Прямой Путь» (– к субсидии, разумеется) отделен от демократии пропастью; та аудитория, к какой он апеллирует, все равно никогда не позволяет своим духовным запросам вздыматься выше грудобрюшной преграды. Занесенные в бюджет черносотенные издания образуют в совокупности духовную клоаку социально-паразитических элементов, которые выделяют из себя наскоро какую-то дрянь, по существу дела совершенно непохожую на идеологию. А «Русская Мысль» ведь совсем другой родословной. Взятая генетически, она есть ответвление от старых корней русского либерализма и даже радикализма. Пуришкевичи[290]290
Пуришкевич, В. М. – вышел из среды бессарабских помещиков, наиболее черносотенной части дворянства, давшей целую плеяду лидеров монархического движения. Пуришкевич был одним из руководителей и главных ораторов монархического блока в Государственной Думе. С трибуны последней он не раз призывал к беспощадной войне с революционерами и евреями. При его активном участии создавались погромные организации вроде «Союза русского народа». Либеральная пресса сделала Пуришкевича главной мишенью для своих насмешек и нападок. После Октябрьской революции был активным участником противо-советских заговоров.
[Закрыть] попросту наносят русской общественной мысли оскорбление действием, а г-да Струве отравляют ее изнутри токсинами скептицизма и трусости, прививают ей расслабленность, готовность сдавать врагу любую позицию, завоеванную разумом и мужеством. Единственное, что люди из «Русской Мысли» по-настоящему ненавидят – это ясную и определенную мысль русской демократии в ее прошлом, настоящем и будущем. Религию, философию, эстетику, небо и ад, – они все эксплуатируют, чтобы сеять свою единственную подлинную веру: социальное безразличие, примирение со всеми видами исторического зла. «Раз борешься – тем самым признаешь противника, веришь в него», – поучает со страниц «Русской Мысли» какой-то В. Муравьев, претенциозный и очень разговорчивый молодой человек, которому на роду написано не стать выше учителя своего. В елейно-дерзком тоне г. Муравьев отчитывает всех тех, кто различает две России, кто не берет Замысловского и Горького за одни скобки, – ибо «все вообще делители – враги жизни». Спасение заключается в том течении русской мысли, которое не делит, а «связывает» (Струве). Провозглашая «бессилие всякого отвлечения», эти люди борются на самом деле только с «отвлечениями» демократии. Но они, не задумываясь, затыкают зияющие дыры собственного «идеализма» самыми бесформенными отвлечениями, как «Великая Россия» или «национальное лицо», раз только этим путем надеются создать прямую связь с лагерем черной реакции.
Извиняясь пред читателем и подавляя собственную интеллектуальную брезгливость, мы приведем из статьи г. Муравьева еще одну цитату: «Я спрошу русских людей, независимо от их звания, партии, рода жизни, одинаково пахаря и интеллигента, слугу и господина, – какую жизнь в себе они сейчас чувствуют? Чем движимы и куда направлены? Что говорит в них, когда душа их, в тишине одиночества обращается к неведомому, расширяясь, ищет бога? Есть ли у них спокойствие и надежда? Есть ли вера? В тот час, когда вечереет, когда смолкают звуки утренней (у г. Муравьева утро кончается „в тот час, когда вечереет“!) повседневной работы, чем заполняется их сердце, на чем к ночи успокаивается, на чем сосредоточенное может встретить неизвестную судьбу?» Такая благочестивая канитель тянется через долгий ряд страниц…
Замечательна в нашем идейном развитии личная роль Струве, этой блуждающей почки в организме русской общественности! Он начал свою карьеру в лагере марксизма, – и еще пребывая там, уже подготовлял идейное оружие для либерализма. Перебравшись в либеральный лагерь и едва осмотревшись в нем, он начал немедленно готовить европеизированное оружие для социальной реакции. Бесспорно, вся эта работа в своем роде исторически необходима. И буржуазный либерализм и социальная реакция нуждаются в духовном, так сказать, мече, и кем-нибудь он должен изготовляться. Но зачем истории понадобилось такое совместительство? Человек, который в 1898 г. внушал русским рабочим идею социальной революции, теперь воспитывает молодых ретроградов, которым даже г. Мережковский представляется крайним «делителем – врагом жизни». Получается прямой соблазн. Но и соблазн этот исторически твердо обоснован: столь жалки, столь ничтожны политические партии имущих, что идеологию либерализма поставляют ренегаты социал-демократии, а идеологию для реакции – ренегаты либерализма.
«Киевская Мысль» N 50, 19 февраля 1914 г.
Л. Троцкий. ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛОВА
Г-н Иванов-Разумник, имманентный философ по темпераменту и оптимист по образу мыслей, не нарадуется на современную литературу. «Наша вера, – говорит он, – вера в жизнь, в ее победу, в ее торжество». А «тот, кто верит в жизнь своего времени (?) – верит и в литературу» («Заветы»[291]291
См. в этом томе примечание 238.
[Закрыть], кн. I, стр. 98). Этот почтенный эстетически-философский оптимизм, раз навсегда связывающий литературу с жизнью круговой порукой жизнерадостной веры, не кажется нам, признаться, ни очень убедительным, ни очень глубоким. Верить в жизнь и в ее победу, конечно, следует, и чем крепче, тем лучше, но что собственно значит «верить в жизнь своего времени»? Как в нее целиком верить? Это по части гг. Муравьевых{163} из «Русской Мысли» и других духовных потомков Панглоса, а нам это не с руки. Мы хоть и не «враги жизни», но пока что остаемся «делителями» и долго еще пребудем ими. Настоящая-то «вера в жизнь» и требует, может, преодоления «жизни своего времени» вместе с ее литературой! Неужели же критику «Заветов» это не ясно? Что литература, даже стремящаяся оторваться от жизни, на деле всегда так или иначе отражает ее, в этом г. Иванов-Разумник прав. Но разве ж и бред сумасшедшего не отражает впечатлений предметного мира? И разве ж не оставили мы сейчас самый глухой период жизни позади себя? Как отразился он в литературе и на литературе? Этот вопрос подлежит самостоятельному рассмотрению, а заранее покрывать литературу огульной верой в жизнь выходит чересчур великодушно. Между тем г. Разумник не только покрывает (имманентным философским колпаком), но и грозит неприемлющим: «И неужели никогда так и не поймут наши литературные плакальщики (писатели или читатели, – все равно), что когда они „отвергают“ современную литературу, – то это жизнь отвергает их самих!» (там же, стр. 99). Мы не знаем, удастся ли почтенному критику напугать плакальщиков, но мы все-таки думаем, что он не разрешает, а упраздняет вопрос. Г-н Разумник почему-то требует веры в жизнь только от читателей и критиков. Ну, а как же быть с самими художниками? Для них эта вера не обязательна? И как быть, если именно самим художникам не хватает веры – веры «в победу жизни, в ее торжество»? Что, если те самые читатели, которых г. Разумник так просто зачисляет в плакальщики, оказываются психологически перед необходимостью выбора между своей собственной верой в жизнь и опустошенной безверием литературой? А перед такой альтернативой оказываются не худшие читатели.
Мы далеки от мысли затевать здесь, попутно, оценку художественной литературы эпохи реакции. Но мы хотим остановиться на одной ее черте, к которой г. Разумник должен был бы, казалось, проявить больше внимания: на ее социальном безразличии, историческом безверии, нравственной опустошенности.
Поверхностному характеру эпохи г. Чуковский, – а ведь именно он, а не г. Иванов-Разумник, является репрезентативным критиком «своего времени» – дал выражение в своем принципиально-безразличном отношении к содержанию: форма – все. Он договаривается даже до несуразного парадокса, будто «форма и есть содержание» художественного произведения. В недавней статье о футуристах г. Чуковский снова повторяет эту мысль: "мелодекламация дамски-альбомных романсов… и гимны Ра[292]292
Ра – бог солнца, верховное божество древних египтян.
[Закрыть] – пред лицом Аполлона равны".
Мы совсем не намерены поднимать тут снова глубокомысленный вопрос о самоценной или служебной роли искусства; эта ребяческая метафизика как-то уж не к лицу нашему времени. Совершенно достаточно с нас признания того, что искусство, которому никто не вправе ставить какие-либо внешние утилитарные цели, есть однако же не откровение небес индивидуальной душе, а одна из форм исторического творчества коллективного человека, – следовательно, душой этого человека, ее запросами и потребностями искусство измеряется. Признать, что художественное произведение возвышается в этот высокий ранг своей формой, а не содержанием, значит сказать, что «содержание» – идея, чувство, страсть – должно найти себе свою форму, чтобы чрез нее явиться в художественном образе… «Форма была и есть только граница содержания, – говорит Леонид Андреев в своих письмах о театре, – те плоскости, что ограничивают ее вовне, следуя изгибам содержания, законам и прихотям существа». Только в соответствии содержанию, его глубине и значительности форма почерпает свою собственную значительность. Самоценность формы, – т.-е. художественное безразличие по отношению к содержанию, – это такая же бессмыслица, как самоценность слова, то есть его независимость от понятия. Как обстоит дело с судом Аполлона, не знаем, но пред судом исторического человека самый совершенный «дамски-альбомный романс» останется навсегда отброшенным от гетевского «Фауста» – пафосом дистанции.
Но чем беднее эпоха и ее художники нравственным содержанием, тем судорожнее художество цепляется за мнимую независимость формы. Так было в последний период. Презрение к содержанию было в области художества тем же, чем ненависть к силлогизму в остальных областях идеологии. Форма стала ширмами, за которыми укрывались оскудевшие мысль и чувство, оторванные от своих социальных связей. Побег от общественности в себя был на самом деле трусливым побегом от себя. Мнимое сверхчеловечество, где фундаментом служат индивидуальные недра, а вершина упирается прямо в седьмое небо, если не спускается до дна преисподней, являлось только призрачной проекцией индивидуальной слабости. Вавилонские эти постройки разрушались так же легко, как создавались, потому что строительным материалом было слово – без цемента веры и страсти. Различные художественные веяния исчерпывали себя и сменялись новыми с калейдоскопической быстротой, – признак и результат духовной скудости содержания. Драмы Андреева с их картонным титанством, вначале будоражившие, потом вдруг сразу показались незначительными и скучными. От камаринской эротики стало скоро воротить с души. Мистика явно свелась к баловству или к вопросу литературного стиля. Новоправославие Мережковского или Бердяева имело в себе так же мало общественных, как и личных залогов. Это вера не в Слово, а в слово… Вспыхнувшая два года тому назад на Афоне ересь имясловцев[293]293
Ересь имяславцев – возникла среди русских монахов на Афоне и заключалась в учении о том, что самое имя «Иисус Христос» обладает божественной силой. Это «учение» привлекло на свою сторону, главным образом, монахов из крестьян, монахи же интеллигенты отнеслись к нему враждебно и объявили его ересью. В результате этого спора русское монашество на Афоне разделилось на два враждебных лагеря: имяславцев и имяборцев.
В 1914 г. дело дошло до открытого столкновения, в результате которого имяборцы были избиты и изгнаны из монастырей. Как видно из дневника монаха Протопопова, подробно описывающего это событие, оно было вызвано отказом низложенного игумена Свято-Андреевского монастыря подчиниться решению монахов и отказаться от власти. Однако выступление имяславцев было подготовлено тем, что еще раньше администрация и старшие монахи русских монастырей стали на сторону имяборцев и всячески угнетали имяславцев. За две недели до бунта в Свято-Андреевском монастыре была составлена «такса», т.-е. список вещей и денег, полагающихся уходящему монаху. Такса была очень «несправедливая» – монаху, пробывшему в скиту 30 – 40 лет, полагалось 100 рублей, в то время как касса монастыря была очень богата и монахам из правящей верхушки перепадали крупные суммы. Имяславцы, устроившие побоище, особенно ожесточенно избили монаха, составившего таксу, обыскали монахов и их кельи и конфисковали около 50.000 рублей, которые поступили в монастырскую кассу. Хотя побоища в Свято-Андреевском скиту были не редкостью, но русское посольство в Константинополе усмотрело в этом побоище бунт. В дело вмешались духовные и светские власти, в результате чего в Государственную Думу 4-го созыва, в первой сессии 1913 – 1914 г.г. были внесены два запроса: «по поводу неправильных действий и распоряжений правительства в связи с подавлением религиозного движения на греческом Афоне» и «по поводу незакономерных действий чинов администрации г. Одессы по отношению к доставленным с Афона русским инокам имяславцам». Запрос был сдан в комиссию и, вследствие начавшихся вскоре военных действий, положен под сукно.
[Закрыть] явилась, как великолепный «низовой» отголосок тому словославчеству, которое справляло свои оргии на идеологических «верхах».
Форма, отрешенная от содержания, в свою очередь вела к освобождению слова – от понятия и от фразы. Формально-поверхностная эстетика стиля упиралась в абсолютизм слова, как акустического эффекта или графического образа – футуризм! Никакие запасы веры в «жизнь своего времени» и в ее литературу не дают права закрывать глаза на тот факт, что явление футуризма является совершенно правомерным и наиболее в своем роде законченным увенчанием эпохи, о которой можно с полным правом сказать: в начале бе слово, – а также в середине и в конце.
Обожествление слова означало, что со слова чудовищно много спрашивалось, – гораздо больше, чем оно может дать по самой своей природе. Хотели, в сущности, чтобы мысль и чувство стали функцией слова, – от неоплодотворенного слова требовали духовного потомства. В этот фетишизм слова было целиком заложено футуристическое насильничество над словом, совершенно так же, как в бездушный эротизм заложены всяческие извращения. Эстетика «самословия», в конце концов, очень ограничена, – и в поисках за новым и новым словесным опьянением неизбежно было прийти к словесному садизму; от «освобождения» слова – к заушению и расчленению слова.
Замечательно, что все эти железобетонные поэмы, бобэоби, 80 миллиардов квадратных слов Василиска Гнедова и пр., и пр. появились или, по крайней мере, стали требовать внимания к себе тогда, когда эпоха короткомыслия и бессмыслия явно для всех закончилась.
Как морально исчерпавшая себя до дна реакция под давлением новых общественных настроений – в поисках возбудителей сильнейшего действия – дошла до кошмара бейлисиады{164}, так в словесность превращенная литература, почуяв враждебные ей токи общественного подъема, докатилась до «освобождения» слова от тяжести понятия, до поэз из несимметрично расставленных твердых знаков и запятых, до «заумного» звукоподражания, вообще до чортиков.
В этом мнимом «футуризме», будущничестве, от будущего нет ничего. Это помирает наш постылый вчерашний день, боявшийся силлогизма и поворачивавшийся спиною к «содержанию».
Чтобы не прийти в полное противоречие с универсальным оптимизмом г. Разумника, мы считаем справедливым признать, что у футуризма, как и у всех вещей на свете, имеется две стороны: одна и другая.
Одну мы уже знаем. А другая позволяет, несмотря на все, включить футуризм вместе со всей той литературной полосой, из которой он вышел, в историю развития русской литературы, как органическое звено.
Предшествующая бурная эпоха, до дна разворотившая наш старый застойный быт, вызвала потребность в новых, более гибких, подвижных и нервных оборотах, выражениях и словах. Психологически события 1905 г. означали окончательный разрыв с бытовой пассивностью, ленью, ездой на перекладных, послеобеденным сном, – с обломовщиной…
Гениальный поэт пассивности и непротивления, Гомер всероссийской Обломовки, Толстой проникнут весь насквозь эстетическим пантеизмом неподвижности. Душевную жизнь своих героев и каратаевский быт страны он рисует одинаково: спокойно, неторопливо, с незатемненным взором. Он никогда не обгоняет внутреннего хода мыслей, чувств, диалога. Он никуда не спешит и никогда не опаздывает. В его руках соединены нити множества жизней, – он никогда не теряется. Как неусыпный хозяин он всем частям своего огромного хозяйства ведет в голове безошибочный учет. Кажется, будто он только наблюдает, а работу выполняет сама природа. Он бросает в почву зерно и, как добрый земледелец, дает ему естественно выгнать стебель и заколоситься. Да ведь это иогиальный Каратаев[294]294
Иога – одна из ортодоксальных философских систем индусской религии брахманизма. Согласно этому учению, высшее блаженство достигается самоуглублением и внутренним созерцанием, в результате которых душа приобретает сверхъестественные свойства. Иога выработала целую систему технических приемов для осуществления напряженной концентрации внимания, приводящей якобы к достижению познания, освобождению духа от материи и отождествлению индивидуальной души с мировой. Толстой наделил Каратаева (см. прим. 240) именно этими чертами – интуитивной мудростью, независимостью психического состояния от внешних условий и глубоким контактом с окружающими людьми и природой.
[Закрыть], с его вековечной покорностью пред законами природы! Он никогда не прикоснется к бутону, чтобы насильно развернуть его лепестки, а даст им тихо распуститься под солнечным светом и теплом. Ему чужда и глубоко враждебна та эстетика больших городов, которая с самопожирающей жадностью насилует и терзает природу, требуя от нее одних экстрактов и эссенций, и ищет на палитре красок, которых нет в спектре солнечного луча. Слог Толстого таков же, как и весь его гений: спокойный, неторопливый, хозяйственно-бережливый, но не скупой, не аскетический, мускулистый, нередко неуклюжий, шершавый, – такой простой, ясный и всегда несравненный по своим результатам!
К этому слову, как и ко всему толстовскому восприятию мира нам уже нет возврата.
Обстоятельные внутренние обозрения «Вестника Европы»[295]295
«Вестник Европы» – ежемесячный журнал, основанный в 1866 г. профессором всеобщей истории Петербургского Университета Стасюлевичем. За время его существования сотрудниками его были крупнейшие русские ученые и общественные деятели, как Костомаров, Пыпин, Арсеньев, Кареев, Мечников, М. М. Ковалевский, Кони, Вл. Соловьев, и писатели: Тургенев, Толстой, Гончаров, Салтыков-Щедрин. По своим политическим воззрениям журнал принадлежал к умеренно-либеральному направлению.
[Закрыть], вся наша размашистая старая журнальная публицистика, в два – три печатных листа, с отступлением и стишком; поучительнейшие передовицы дореволюционных «Русских Ведомостей»[296]296
«Русские Ведомости» – ежедневная газета, основанная в 1863 г. С 1886 г. перешла к Н. С. Скворцову, который придал ей либерально-демократический характер.
[Закрыть] с обещанием «поговорить об этом в следующий раз», все это – того же обломовского корня, только без толстовского гения. В романе, политике и в лирике одинаково – ездили на перекладных.
Литературно-эстетическая «неразбериха» (по Михайловскому «смута») отчасти уже дореволюционной, а особенно послереволюционной эпохи главным своим объективным результатом имела перестройку языка, стиля, ритма речи, его приспособление к новому темпу событий, новому стилю жизни.
Архаизмы, неологизмы, чудовищные варваризмы, составные – по немецкому образу – слова, заимствования направо и налево – совсем как в петровскую эпоху, когда нахлынуло множество новых понятий и мыслей и люди задыхались от несоответствия старого московского языка новослагавшемуся бытовому укладу. На этом пути – переоценки слова и пополнения живого инвентаря речи – кое-что несомненно достигнуто, и притом не вовсе незначительное. Наш молодой, при всем своем богатстве еще юношеский язык оказался богат неисчерпаемыми возможностями. Самая мышечная система его еще не затвердела и способна к большой гибкости. От необузданного словотворчества, синтаксических и стилистических новшеств язык наш удержит, разумеется, лишь одну небольшую, может быть десятую, а то и сотую только часть, но он все же удержит ее, а главное, целиком сохраняя основу свою, он становится – во многом стал уже – другим. А так как и мы стали другими, значит этот процесс в языке – необходимый и прогрессивный.
С этой точки зрения даже и футуристские эксперименты и излишества, в большинстве эстетически-отвратительные и подлежащие беспощадному изгнанию, являются, в основе своей, внутренне-обусловленным эпизодом в процессе исторической перековки языка. Ведь и природа экспериментирует так же необузданно, разбрасывая по пути недоделки и уродства, чтобы добиться подлежащего закреплению результата!
На этом историческом удобрении что-нибудь в свое время вырастет. В этом сомневаться нельзя. А ведь, в конце концов, общая судьба реакционных эпох – служить навозом для эпох движения.
Пусть в этом соображении ищут утешения молодые люди в желтых кофтах и с охрой на скулах, когда мировые судьи приговаривают их к 25-рублевым штрафам за оскорбление эстетических принципов столичной полиции.
«Киевская Мысль» N 51, 20 февраля 1914 г.








