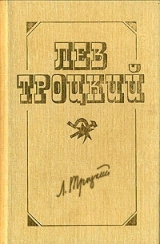
Текст книги "Проблемы культуры. Культура старого мира"
Автор книги: Лев Троцкий
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 40 страниц)
Отмечать с такой предупредительностью цвет панталон склонен по преимуществу любознательный натурализм. Он же питает пристрастие к элементарным проявлениям элементарнейших инстинктов. С этой стороны пробуждение мужчины в таком упрощенном природою существе, как глухонемой слепец Тетмайера, дало бы натуралистическому перу крайне благодарный материал… Но Тетмайер не натуралист. Его герои – символы полумистических настроений. При чем же тут длинные темные штаны без шпор? Не есть ли это путь к синтезу натурализма и символизма, синтезу, о котором мы слышали столько хороших слов? Если так, не слишком ли это уж просто? Ужели достаточно натянуть на символическую тень пару подходящих панталон, чтобы дать синтез двух художественных направлений? Или штаны – тоже для настроения?..
Читатель прочитал лишь кое-что о свободе спазма. Сказанное о «Сфинксе» пусть так со «Сфинксом» и останется. К каждому произведению модерны будем подходить, по возможности, освободившись от впечатления, оставленного предшествовавшими произведениями того же рода. Посмотрим, не удастся ли нам прийти таким путем к некоторым законным обобщениям.
«Восточное Обозрение» N 8, 10 января 1902 г.
Л. Троцкий. О РОМАНЕ ВООБЩЕ, О РОМАНЕ «ТРОЕ» В ЧАСТНОСТИ
Если заставить мысленно продефилировать пред собою наиболее выдающиеся произведения последних лет, то можно прийти к выводу, что умер тот неторопливый, хозяйственно-обстоятельный роман, который так напоминал старинную езду «на долгих»… Сперва продолжительные сборы в дорогу: «пролог». Потом длинная шеренга «частей» и «глав», точно ряд привалов и дневок, когда путник останавливается, согревается чаем и дает роздых отекшим членам. Наконец, «эпилог», венец романа и вместе – тихий приют для усталого путешественника…
Рассказ, эскиз, очерк, этюд… с каким пренебрежительным сожалением покачал бы одною из своих многочисленных «глав» добрый старый роман, если бы взглянул на эту литературную мелюзгу.
Не знаю, как читатель, а я не вижу повода скорбеть по поводу этой «дегенерации». Я вспоминаю о рассказах и очерках Короленко, Чехова, Горького, Вересаева, Леонида Андреева, о котором надеюсь поговорить вскоре, – вспоминаю и отказываюсь скорбеть.
Эти маленькие невинные эскизы и наброски, – они, как занозы, застревают подчас в читательской совести.
Художественное наслаждение, получаемое от романа, никогда не может быть так цельно, как от рассказа или очерка. Роман для этого слишком обширен, его не окинешь одним взглядом, его не прочитаешь в присест… К нему приступают в разном настроении, одно впечатление иной раз не вяжется с другим – и физиономия романа, как целого, необходимо бледнеет.
Другое дело – очерк, рассказ. Такое произведение проглатывается целиком и затем страшно разбухает в сознании, ассимилируя «горестные заметы» читательского сердца.
Мне вспоминается один крайне «негуманный» вид охоты на волков. Их соблазняют свернутым в кольцо и замороженным в таком виде «китовым усом». Волк, привыкший обращаться с коровьими тушами, сразу проглатывает приманку: кольцо, оттаяв внутри, распрямляется – и несчастное животное платится жизнью.
Читатель, правда, сохраняет жизнь, но в остальном он очень похож на этого волка… Он тоже считает «настоящей» пищей большие туши романов о пяти частях и довольно легкомысленно проглатывает сжатые продукты литературного творчества… Напрасно! Проникнув в его сознание, эти эскизы и очерки распрямляются со всей свойственной им силой упругости – как китовый ус в волчьем желудке – и наносят тяжкие поранения душе читателя…
Есть и еще обстоятельство, которое дает небольшому «сгущенному» рассказу преимущество пред громоздким романом.
Художественное наслаждение полно тогда, когда писатель не угнетает вашего воображения массой подробностей, обилием фактического материала. У вас, видите ли, тоже есть свое небольшое воображение, которое хочет самодеятельности. Дело художника – пробудить его, дать ему основные мотивы для самостоятельного творчества картин и образов. Не нужно учинять над читательской фантазией мелочной опеки.
Вот почему на многих зрителей подготовительные, бегло набросанные этюды художника производят более сильное впечатление, чем законченная картина.
И вот почему рассказ, в котором герой выводится в самую «патетическую» минуту своей жизни, оставляет более законченное и оформленное впечатление, чем роман, который сперва родит героя, потом воспитает и образует, в надлежащую минуту введет в свет и затем лишь прогонит сквозь строй патетических событий, чтобы, в конце концов, уморить его той или иной натуральной смертью. Тут воображение читателя все равно идет «в поводу».
Итак, роман умер.
Нет, не умер, и рано писать ему некрологи.
Уже во времена Белинского повесть выдвинулась на передний план. Великий критик писал в 1835 г. о том, что «роман с почтением посторонился и дал повести дорогу впереди себя». Это справедливое обобщение не помешало появлению романов Гончарова, Тургенева, Достоевского, Писемского, Толстого… И нет никакого основания ждать, чтобы в доступное нашему предвиденью будущее литература отказалась от тех синтетических картин жизни, которые только и могут уместиться на неограниченно-широком поле романа.
Жизнь усложняется, жизнь обогащается… Не отказываться от старых форм творческого воплощения приходится литературе, но создавать новые.
Роман останется как социальная рама для всех тех красот и ужасов жизни, которые в изолированных образах и картинах глядят на нас со страниц очерков и рассказов. Поэтому, вообще говоря, нет и не может быть антагонизма между этими литературными видами.
Роман берет широтой общественного захвата, рассказ – энергией психологического удара.
И если роман умер, как обязательная форма со всей своей традиционной обрядностью глав, частей, прологов и эпилогов, то он жив как современная Илиада, как поэма Действительности…
Итак, роман умер – да здравствует роман!
"Чтобы жить в этой жизни,
надо иметь бока железные,
сердце железное… а то жить,
как все… без дум, без совести"…
(Горький, «Трое».)
Нам приходилось слышать, что многие испытывают некоторое разочарование, перейдя от очерков и рассказов Горького к таким крупным его сочинениям, как «Фома Гордеев» и «Трое»{107}.
Горький в этом не причинен. Нельзя требовать, чтобы на протяжении длинного произведения читатель не испытывал приливов и отливов настроения, повышений и понижений интереса. Роман – не очерк, и 400 страниц – не 20… Зато эти романы дают широкое изображение социально-бытовой среды, чего не сделать самому яркому очерку.
О последнем романе г. Горького нужно говорить или очень много, или очень мало. Я буду говорить мало – по разным причинам…
«Трое» – это драма бесплодных разрозненных усилий, безнадежного единоборства с жизнью за свою краюху счастья, за глоток радости…
Вот разносчик Илья Лунев, с сильной волей, с трезвым практическим умом… Он требует для себя «чистой» жизни, скромной, но сытой, спокойной и опрятной, хорошего, «настоящего» счастья… – Увы! какая-то невидимая, но властная рука «неощутимо» толкает его все туда, где хуже… «Всю жизнь я в мерзость носом тычусь»… – жалуется он в исступлении. Где он и кто он, этот невидимый, но трижды проклятый враг, который «направляет его всегда на темное, грязное и злое в жизни»?.. А когда он, по-видимому, близок к обладанию этим «чистым» мещанским счастьем, оно теряет для него свои заманчивые черты, линяет и оказывается воплощением скуки, бессмыслицы, пошлости… Усилия потрачены даром, вкус к жизни пропал.
Вот сын трактирщика, мечтатель и мистик Яков Филимонов. Он тоже хочет немногого – остаться неприкосновенным на необитаемом островке своих заоблачных интересов и метафизических запросов. Разница между Ильей и Яковом прекрасно оттеняется в следующем разговоре. Яков, мечтательно-проникновенный в своих отношениях к окружающему, видит во всем загадку, вопрос. Ему, невежественному юноше, точно так же, как великому мистику Карлейлю[140]140
Карлейль, Томас (1795 – 1881) – английский историк, критик и публицист. Начал свою литературную деятельность с восторженных статей о классической поэзии и идеалистической философии немцев. На историю Карлейль смотрел как на продукт творчества великих людей. В своих социальных памфлетах Карлейль подвергал резкой критике буржуазное общество с его механической культурой и утилитарной философией, культом естественных наук и политической экономии. Он восставал против бездушного своекорыстия буржуазии и против принципов манчестерского либерализма. Это не мешало ему, однако, еще ожесточеннее нападать на рабочий класс, который он обвинял в стремлении захватить в свои руки политическую власть путем всеобщего избирательного права («Чартизм», 1840 г.): великое движение рабочего класса, стремящегося к власти для освобождения самого себя и всего человечества, Карлейль отвергал с той точки зрения, что «бог создал вселенную на началах равенства, а не на началах подчинения и господства»! Работа Карлейля о чартизме смутила даже наиболее горячих его поклонников. Карлейль проповедовал создание новой аристократии из верхов капиталистического класса и интеллигенции, считая, что она одна способна спасти Англию от надвигающегося социального хаоса и пересоздать ее по образцу средневекового общества на основе патриархальных отношений.
[Закрыть], огонь кажется чудом; «Откуда он? Вдруг есть, вдруг нет! Чиркнул спичку – горит. Стало быть – он всегда есть… В воздухе, что ли, летает он невидимо?». Совсем иначе подходит к вопросу Илья. Он даже не подходит, он обходит его. «Где? – восклицает он с раздражением. – А я не знаю. И знать не хочу. Знаю, что руку в него нельзя совать, а греться около него можно. Вот и все».
«…Славно бы уйти куда-нибудь от всего! – мечтает Яков. – Сесть бы где-нибудь у лесочка, над рекой, и подумать обо всем»… Но уйти некуда… буфет отцовского трактира загораживает от него весь мир… И он чахнет… Кроткий, мягкий мечтатель, он с детства «обречен к исчезновению из жизни»…
А вот третий, слесарь Павел Грачев, натура порывистая, непосредственная, «сенсуалистическая». Он не задумывается над сущностью огня, как Яков, и не ставит себе определенных житейско-практических целей на всю жизнь, как Илья. Он просто хочет жить всеми фибрами и нервами, без «трезвых» комментариев и метафизических размышлений. Жить – и только. «Я всю жизнь мою, с десяти лет, работаю тяжелую работу. Позвольте мне за это жить…», – обращается он к кому-то с требованием. Но этот «кто-то» не позволяет. Даже любимую женщину «он» заставляет Павла делить с пьяными купцами… Когда же несчастная делает попытку «освободиться» и ворует для этого у кутящего с ней купца бумажник, неведомый враг настигает ее дланью бодрствующего правосудия…
Что же такое жизнь для Ильи, для Якова, для Павла – для «троих»? Омут, злой, безобразный омут. Грабеж, разбой, воровство, пьянство, всякая грязища и беспорядок… вот и вся жизнь. И нет из нее выхода, и нет просвета, и нет спасения… И к стороне нельзя отойти от этого грязного потока: «по одной со всеми реке плывешь, и тебя та же вода мочит… Живи, как установлено для всех. Скрыться некуда».
«Кто-то» своей колоссальной и грубой пятерней уродует их тела, тискает, мнет и коверкает их души, обрезывает их желанья и затем швыряет их, как щенят, в какую-нибудь узкую зловонную щель…
«…Меня судьба душит… – жалуется Лунев, – и Пашку душит, и Якова… всех».
На том образном языке, избыточностью которого болеют все персонажи Горького, Илья резюмирует выводы своего жизненного опыта: «окружают человека случаи и ведут его, куда хотят, как полиция жулика».
Весь ужас их положения, этих «троих» и подобных им сотен и тысяч, в том, что для них нет возможности стать лицом к лицу с неведомым врагом… В их сознании причина бедствий – судьба, случай, темная бесконтрольная сила.
Этот социальный фатализм – та общая скобка, за которую со знаком плюса или минуса войдут все без исключения герои Горького, все эти бывшие, лишние и просто ушибленные жизнью люди.
«…Врага, наносящего обиду, налицо не было, – он был невидим». И Лунев снова чувствовал, что его злоба так же ненужна, как и жалость… «Я теперь так чувствую, что все ни к чорту не годится», – говорит Илья, и тут же сознается, что «ничего не понимает»…
Те чувства, которые накопил в нем опыт жизни, не просветлены сознательным отношением к действительности и потому не находят выражения в общественной работе. Тупое, самодовлеющее озлобление – вот крайний результат…
Но несправедливо, читатель, делать из романа Максима Горького пессимистические выводы и потому негоже заканчивать посвященную этому произведению статью скорбными нотами.
Еще не истощился порох в пороховницах жизни… И смотрите, какой вид открылся Илье Луневу на кладбище: «…всюду из земли мощно пробивались к свету травы и кусты, скрывая собою печальные могилы, и вся зелень кладбища была исполнена напряженного стремления расти, развиваться, поглощать свет и воздух, претворять соки жирной земли в краски, в запахи, в красоту, ласкающую сердце и глаза. Жизнь везде побеждает, жизнь все победит…»
Жизнь – всесокрушающая разрушительница, всеобщая созидательница, всеобщая обновительница… Слава юной всепобеждающей Жизни!
«Восточное Обозрение» N 56, 9 марта 1902 г.
Л. Троцкий. ОБ АРТУРЕ ШНИЦЛЕРЕ
«Сплетаются в одно и „ложь“, и „правда“, и „жизнь“, и „сон“. Уверенности нет. Вся жизнь игра. Тот мудр, кто понял это».
Шницлер.
I
Артур Шницлер становится в нашей литературе «своим человеком». Его «Трилогия» вышла в трех разных изданиях, из которых одно, правда, никуда не годится, но ведь таковы уж вообще отечественные переводы. В декабре прошлого, 1901 года «Мир Божий» дал перевод трехактной драмы Шницлера «Дикий» («Freiwild»), написанной в 1896 г., а в текущем году тот же журнал предложил своим читателям большую повесть Шницлера «Смерть», уже напечатанную семь лет тому назад в «Вестнике Иностранной Литературы». Мы имеем издание «новелл» Шницлера, кроме переводов, разбросанных по журналам. Недавно вышли книжкой его четыре одноактные пьесы «Lebendige Stunden» («Часы жизни»), из которых три были предварительно переведены в фельетонах московской газеты «Курьер». Чем-то, значит, заслужил у нас венский писатель.
Артур Шницлер на европейский взгляд еще молодой писатель: ему 40 лет (род. в 1862 г.{108}). Как и наш Чехов, он врач по образованию, отчасти и по профессии. Если к этому прибавить, что Шницлер очень талантливый писатель, то это и будет, пожалуй, все, что у него есть общего с г. Чеховым. Широкая европейская известность окружает Шницлера недавно.
У нас прилив внимания к даровитому венцу начался за последний год – со времени громкой истории из-за храброго австрийского «поручика Густля», самолюбие которого Шницлер поранил своим пером.
Вы, может быть, помните, как превосходно покойный Гл. Ив. Успенский характеризует военный Берлин. «Палаши, шпоры, каски, усы, два пальца у козырька, под которым в тугом воротнике сидит самодовольная физиономия победителя, попадаются на каждом шагу, поминутно: тут отдают честь, здесь сменяют караул, там что-то выделывают ружьем, словно в помешательстве, а потом с гордым видом идут куда-то… В окне магазина – победитель в разных видах: пропарывает живот французу и потом, возвратившись на родину, обнимает свое семейство; бакенбарды у героев расчесаны совсем не в ту сторону, куда бы им следовало… У иных одно лицо сделано в аршин (из мрамора, из металла), при чем усы, как бычачьи рога, стремятся вас запороть, положить на месте… Но существеннейшая вещь – это полное убеждение в своем деле, в том, что бычачьи рога вместо усов есть красота почище красоты прекрасной Елены» («Больная совесть»{109}). В Вене картина отличается не столь уж многим. Те же «бычачьи рога» вместо усов (только пожиже) и то же убеждение в их абсолютной неотразимости. Маленькая литературная бомба Шницлера вызвала в этой среде страшное волнение. Негодованию не было конца. «Совет чести» пригласил дерзкого писателя, носящего офицерское звание, к ответу. Шницлер не явился – должно быть, полагая, что чин австрийского офицера отнюдь не налагает на своих носителей прав и обязанностей литературной критики. Дерзость писателя была наказана; его лишили офицерского звания, которого он не научился «уважать».
Мы не ошибемся, если скажем, что это столь нашумевшее столкновение «естественных прав» художника с деспотическими претензиями касты сразу подняло у нас шансы венского писателя. Мы, пожалуй, пошли далее и расцветили миросозерцание молодого писателя симпатичными нам гражданскими красками… Мы ошиблись. Шницлер – эстетик и только эстетик. Он выступил против корпоративной «чести» поручиков Густлей прежде всего как художник: ему ли не ясно, что претенциозные бычачьи усы суть только бычачьи усы и никакой красоты в себе не заключают. Взять хотя бы того же поручика Густля с его великолепным презрением к штатским, ко всем этим крючкотворам-"социалистам", которым «хотелось бы немедленно упразднить военное сословие. А кто стал бы их защищать, когда нападут китайцы, об этом они не подумают. Идиоты!». Шницлер прогнал храброго поручика сквозь строй юмористических размышлений, в которых петушиный задор молодого воина переплетается с внушениями кастовой чести и с самой «штатской» трусостью перед лицом смерти…
Гораздо серьезнее затронуты вопросы кастовой чести в ранее написанной драме «Freiwild». Поручик Фогель, который со всеми штатскими говорит «в слегка ироническом и пренебрежительном тоне»… Капитан Каринский, который в самом существовании «штатской» части вселенной видит косвенное покушение на свою офицерскую честь, который говорит, чтобы оскорблять, и оскорбляет, чтоб убивать… Лучший среди них, капитан Ронштедт, который лишь в наиболее патетические минуты способен немного подняться над корпоративным кругозором («Будем говорить, как человек с человеком», – предлагает он)… Таковы представители касты. Дуэль, как высшая нравственная и философская инстанция; пистолетный выстрел, как аргумент, – такова атмосфера. Убийство, нелепое, бессмысленно-жестокое, – таков трагический, но естественный финал…
Кандалы военно-кастовой морали – вот, кажется, единственный общественный объект художественного протеста для Артура Шницлера. Слишком остро, значит, стоит этот вопрос в той среде, где живет и дышит Шницлер, раз он посвятил ему два произведения; во всем остальном, что выходит из-под его пера, он не переступает за пределы индивидуально-психологических проблем.
Половая любовь и вырастающие на ней эстетические комбинации; искусство, как самоцельное служение красоте; страх смерти, сообщающий всем радостям бытия особенную, почти болезненную остроту, – такова троица художественного исповедания Артура Шницлера. И если эти признаки исчерпывают декадентское творчество, то вы можете принять утверждение Bartels'a: «Артур Шницлер безусловно декадент».
Шницлер смотрит на жизнь глазами утонченного и облагороженного «бонвивана»: он ищет наслаждений, наслаждений прежде всего… Но он человек высокой, хотя и уродливой культуры духа; к так называемым «простым», «здоровым» радостям мещанского сердца и мещанского желудка он относится с законной брезгливостью эстета-аристократа (см., напр., «Парацельс» – в «Трилогии»). Он давно покончил с мистицизмом, ибо впитал в себя выводы критической мысли. Он не верит в святость устоев бюргерской цивилизации, ибо умеет посмотреть на них со стороны, обнажив их от парадных покровов, сотканных эгоизмом и лицемерием. Он знает цену прописной мещанской добродетели, ибо вскрыл тот зараженный психологический грунт, который ее взрастил… Но он не вступает в бой ни с мистицизмом, ни с бюргерскими устоями, ни с мещанской добродетелью. К чему?
«Вся жизнь – игра. Мудрец, кто понял это». А Шницлер – «мудрец». Он хочет провести свою «игру» приятно и красиво – вот и все. Других задач он не знает. К жизни он относится, как к любовнице, а к любовнице, как к жизни: побольше наслаждений, радости, красоты!.. Побольше капризных комбинаций на одну и ту же старую, но неизбитую тему любви!.. К чему повышенные требования, неудовлетворимые запросы? «Самая красивая девушка Франции не даст больше того, что у нее есть». Точно так же и жизнь. «Мудрец, кто понял это»…
А затем – не забывайте про смерть, про смерть, которая бросает на все наши наслаждения такой трагический отблеск и делает их еще более волшебно-прекрасными, безумно-желанными… Жажда, неутолимая жажда ласк женщины и восторгов творческого экстаза, под иронический аккомпанемент страха смерти – das ist eine Welt, das ist deine Welt (таков мир, таков твой мир!).
Итак, это – философия квиетизма? Да, поскольку речь идет о судьбах нации, общества, человечества… Но в четырех стенах личного существования эта «метафизика» освещает самую энергичную активность. Жги сигару твоей жизни с двух концов, – внушает она посвященным. Округляй владения твоих чувств! Не страшись ограничительных фикций, действительных лишь для рабских душ. Мораль, право, религия?.. Игра, одна игра! Еще шаг вниз – и мы вступим в царство босячества и подхватим его клич: «Грабь жизнь!». Шаг вверх – и мы, освобожденные от всего «человеческого, слишком человеческого», окажемся идейными сынами Заратустры…
Это не случайное совпадение: тут виден перст социальной судьбы.
Все творчество Шницлера отражает типичное настроение умственного «аристократа», европейского интеллигента. Кто герой шницлеровских произведений? Писатель, актер, художник, профессор, писатель и снова писатель, словом, лицо, которого отличия и преимущества в его мозговых извилинах, дающих ему «право» с одинаковой интеллектуальной и эстетической брезгливостью смотреть на вершины плутократии и на социальные низы; и те, и другие, несмотря на всю свою противоположность, слишком «грубы», слишком конкретны в своих общественных требованиях, чтобы возвыситься (или пасть?) до утонченно-сладострастного воззрения на жизнь, как на «игру». Антиморалистическая мораль Ницше, это философия тех же обособленных «интеллектюэлей», лишь уродливо отраженная в сферическом зеркале больного сознания.








