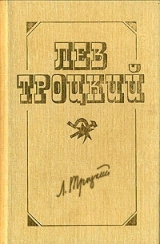
Текст книги "Проблемы культуры. Культура старого мира"
Автор книги: Лев Троцкий
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 40 страниц)
Л. Троцкий. ДЛЯ КРАСОТЫ СЛОГА
Как-то незаметно прошло для журнального торжища полное объединение г. Мережковского с г. Петром Струве в «Русской Мысли»[226]226
«Русская Мысль» – ежемесячный журнал, выходивший с 1880 г. В 1895 – 1896 г.г. журнал был органом либерально-народнической интеллигенции, не занявшей определенной позиции в борьбе между народниками и марксистами. Пытаясь быть нейтральным, журнал давал иногда на своих страницах место полемике между обеими группировками. Редактором в то время был Гольцев. После 1905 г., в эпоху политической и идеологической реакции, «Русская Мысль» становится органом, отражающим упадочное настроение растерявшейся либеральной интеллигенции. Руководство журналом переходит в это время к Струве. После Октябрьской революции журнал выходил некоторое время в Софии, под редакцией того же Струве, являясь органом самой непримиримой и злобной белогвардейщины.
[Закрыть]. Нас в этой области нынче вообще ничем не поразишь. События последних лет так завертели милую российскую интеллигенцию, так много было совершено ею при этом самых непредвиденных и неосторожных телодвижений, столько в этом вихре было разбито вдребезги разнообразнейшей идеологической посуды, что нет ничего удивительного, если теперь, когда наспех приходится реставрировать идеологии и репутации, иной кухонный горшок в немецком национал-либеральном стиле вдруг оказывается заштопанным каким-нибудь пестрейшим византийско-всереволюционно-мессианистическим черепком. Попробуйте, в самом деле, соскрести затейливый узор: и там и здесь окажется одна и та же, для всех перевоплощений пригодная, интеллигентская глина.
И все-таки, если не чувством, то умом позвольте подивиться необыкновенной эластичности человеческой психологии. Вот Антон Крайний{138} (самый крайний!). И что же? Этот «крайний» сегодня умиротворенно обозревает литературу в самой «серединной» газете нашего времени… Вот г. Розанов. Выдвинулся он в девяностых годах своей кошмарной статьей о Ходынке, в которой усмотрел праведное возмездие за грехи революционного движения. Большей определенности воззрений, казалось бы, нельзя и требовать. Однако, человек неожиданно споткнулся о «проблему пола» (задолго до эпохи Санина!{139}) и покатился с высоты ходынского возмездия вниз, в пропасть, и катился с такой быстротой, что в конце 1905 года очутился у порога социал-демократической редакции и… постучался в дверь. Петли оказались упрямые, дверь не открывалась, – и г. Розанов, впредь до дальнейшего выяснения обстоятельств дела, застрял в «Новом Времени», в качестве своего собственного праведника при Содоме… Вот г. Бердяев. Он катился все время с такой же быстротой и по тому же пути – только в противоположном направлении… Вот г. Минский, поэт-мэонист. Читал высшим иерархам церкви доклад об истинном христианстве, а через несколько месяцев заявил в беспощадном «пролетарском гимне»: «Кто не с нами, – тот нам враг!». И, наконец, Струве и Мережковский. Первый начал с энгельсовского «прыжка из царства необходимости в царство свободы», а кончил… впрочем, еще неизвестно, чем кончит. Второй объявил беспощадную войну Антихристу, при чем первоначально Антихристом оказывалась революция, а затем – совсем наоборот…
Все они, как кометы, лишенные правильной орбиты, носились по звездным пространствам метафизики и мистики. Казалось, никак и никогда им не сойтись. И, однако, нашлось у них что-то весьма общее, какой-то земной центр тяжести – и они все сошлись вокруг «Русской Мысли»: и те, которые от Апокалипсиса шли к Карлу Марксу, и те, которые от Карла Маркса шли к Апокалипсису. Тут, в этой «Русской Мысли», где г. Струве размышляет о государственном могуществе, а г. Изгоев открывает государственные идеи у лиц, которым таковые по штату полагаются, тут, а не в другом месте, бросил свой якорь г. Мережковский. Разве это не фатально? Мережковский, воинствующий антигосударственник! Мережковский, который хотел революцию углубить до дна преисподней и возвести до престола Саваофа! Разве же это не трагично?
Нисколько не трагично! То есть – ни в малой степени! И знаете почему? Слишком мало страсти и слишком много «стиля». Слишком много симметрии, убийственной, механической. Бездна вверху – бездна внизу. Ангел и чорт. Человекобог – богочеловек. И сам Мережковский – всегда на вершине, всегда на грани двух бездн. Лицом – то к одной бездне, то к другой. Но непременно с соблюдением симметрии.
Слишком много стиля! Не потому, что Мережковский – «лучший русский стилист», как вообразил г. Струве, а потому, что во внешнем стиле (а существует и внутренний), в механике речи раскрывается для него самого вся тайна его веры. Сожигает ли он старых богов или созидает новых, он неизменно украшает их симметрическими гирляндами слов.
Сперва – плавное раскачивание на словесных антиномиях, затем – вытянувшийся в линию формально-логический анализ, а там, где схоластическая цепь подходит к заключению – вдруг внезапный перерыв, скачок в сторону, метафора, символ, намек, слово и опять новая цепь – до нового скачка. И, может быть, самое невыносимое во всем этом то, что каждый такой «внезапный» логический провал в бездну веры совершенно не внезапен, наоборот, тщательно обдуман, подготовлен и срепетирован. В конце концов вы невольно убеждаетесь, что все мистические «порывы» были налицо еще до начала схоластического мудрствования и что это последнее именно и должно было приуготовить вас к восприятию этих внезапных откровений во всей их внезапности и, потому, душевной глубине…
Слишком много словесной косметики! Слишком много цветов – увы, бумажных! Как бы тонка ни была бумага и как бы изящна ни была работа, вы после нескольких минут пребывания в этой обстановке испытываете злое раздражение и непреодолимую потребность разом смять всю эту шуршащую красоту и бросить ее под стол, в корзину.
Умничающая и весьма собою озабоченная красивость – проклятье Мережковского. Бесстрастные драмы его исканий ни в ком не вызывают сочувствия. Его идейные «измены» ни в ком не рождают протеста. Ему не хватает страсти. А ее не заменишь ничем. И хотя бы он Оссу обрушивал на Пелион[227]227
Это выражение ведет свое начало от древнегреческого мифа о борьбе между титанами и олимпийскими богами. Согласно этому мифу, восставшие титаны взгромоздили Оссу на Пелион (горы в Фессалии, расположенные около Олимпа, местожительства богов).
[Закрыть] и бездну погружал в бездну, – вы непременно решите, что это делается лишь для красоты слога – и пройдете мимо. Ибо и слог его от этой самой красоты – невыносим.
«Киевская Мысль» N 327, 25 ноября 1908 г.
Л. Троцкий. МЕРЕЖКОВСКИЙ
I. Культурный себялюбецСудьба г. Мережковского в высокой степени достопримечательна. Он пророчествует давно: в художественной прозе и стихах, в богословских статьях и критических фельетонах, пророчествует упорно. Но его не замечали – тоже с упорством, которое ему должно было казаться поразительным, именно потому, что оно было слишком естественным. Его заметили уже только в самые последние предреволюционные годы, когда вся жизнь русская, с поверхности до дна, стала размешиваться большой палкой, так что открылись сотни вещей, которых не замечали, всплыли тысячи вопросов, которых вчера еще не существовало, в загадку превратилось то, что казалось несомненным, – и тут нашло отклик, по крайней мере породило кружковый интерес к себе и «новое религиозное сознание» г. Мережковского: оно сулило открыть выход предгрозовому томлению некоторых утонченных петербургских душ. Но разразилась гроза, события перекатились не только через мистические головы, пророчества замолкли или были заглушены. Мистицизм временно точно веником смело. И только когда волна событий отхлынула назад, оставив после себя во многих душах какую-то нервически-похотливую потребность в кратчайший срок обновить свой образ мыслей, Мережковский снова овладел вниманием – уже в значительно больших размерах, чем прежде. В этот период всесторонней ликвидации г. Мережковский вышел из кружкового затворничества, обмирщился и начал пророчествовать даже с амвона «Речи», – чего, к слову сказать, не могло бы быть, если бы г.г. И. Гессен и Милюков{140} не сказали себе, что пророчествование сие во благовремение. А вот теперь уже снова меняются знамения: спрос на душеспасительные проповеди страшно упал, пророческий отдел исчез из «Речи» вместе с отделом футбольным, трезвенный чорт политики снова становится господином положения. Ввиду этого нельзя не признать, что г. Мережковский как нельзя более своевременно подводит себе итоги, выпуская в свет собрание своих сочинений. И можно только опасаться, что издание затянется, и дальнейшие тома выйдут слишком поздно…
О пророчествовании Мережковского мы говорили не в условном, не в переносном и уж никак не в ироническом смысле. Мережковский – мистик не в том расширительно-неопределенном толковании, в каком это слово стало употребляться в литературе последних лет, где говорят о мистике половой любви, о мистической личности государства и даже, кажется, о мистике построчной платы. Нет, Мережковский, как отозвался о нем Чехов в одном письме, «верует определенно, верует учительски». Он считает – и это его исходная точка, – что «жизнь без бога и смерть без воскресения делают не только каждого человека, но и все человечество гниющею массой». Свою религию он называет апокалиптической. Он ждет грядущего завета, который окончательно примирит плоть и душу, ветхий и новый завет. Через историческое христианство он зовет к религии Троицы. «Именно догмат о Троице и связывает неразрывною связью историческое христианство с христианством апокалиптическим». «Каждая из трех божеских Ипостасей, – разъясняет он, – есть соединение двух остальных, так что всю полноту Троицы можно выразить символическим числом 333. Повторенное в дьявольском зеркале, удвоенное 333 дает 666». Как ни сомнительна сама по себе эта математическая комбинация (а мы решительно не советовали бы вводить ее в школьные учебники арифметических упражнений), но она достаточно красноречиво свидетельствует, что Мережковский «верует учительски, верует определенно». Не вдаваясь более в область новой апокалиптической догматики, где мы по неопытности рискуем сильно напутать, ограничимся еще только одним выразительным примером.
«Вам кажется, – обращается Мережковский к Бердяеву в „открытом письме“, написанном в тоне посланий апостола Павла, – что для меня не решена проблема о дьяволе. Вы ошибаетесь: для меня эта проблема решена окончательно».
«Проблема о дьяволе» – чего стоит одно лишь сочетание этих двух слов! Перед торжественной серьезностью мыслителя, окончательно разрешившего проблему о дьяволе, бессильной падает ирония. И таков Мережковский всегда. Остроумие абсолютно несвойственная ему черта. Все «проблемы» своей веры – бессмертие дьявола, и 333, и 666 – он ставит с сосредоточенной серьезностью. Среди бела дня и громогласно он приглашал однажды Бердяева себе в сопророки, – чем, вероятно, немало напугал этого кокетливого философского фланера. Не сваливаясь от неудач, ходит г. Мережковский в хаосе нашего неапокалиптического времени, как «некто в черном»… – как некто в черном сюртуке.
Ибо не ряса на г. Мережковском, а сюртук, притом отличнейшего французского покроя, как свидетельство того, что перед нами человек светский, отнюдь не собирающийся отрекаться от благ мира сего. В ожидании грядущего завета г. Мережковский не только постное приемлет, но и скоромненькое. И скоромненькое-то даже предпочтительно.
Его мистика – не нетерпеливая, не стремительная. Он вовсе не чувствует себя в походном шатре, наоборот, его наклонности оседлые, он хочет, очень хочет обстоятельно осмотреться тут, на земле. Он видит даже «великую неправду или, вернее, великую неполноту» в самочувствии первых веков христианства с их стремительно-нетерпеливым ожиданием конца. Да и нельзя в предсмертном настроении века жить. С того времени как первые ученики верили, что «конец при дверях», прошли тысячи лет – и еще могут пройти и еще. И в этой медленности всемирно-исторического процесса, который ведет от первого пришествия ко второму, есть, по Мережковскому, своя «желанность». Правда о вечности не должна заслонять правды о времени, и тоска по вечности не должна мешать нам пользоваться комфортом. В этом и состоит самая суть «нового религиозного сознания».
Г-н А. Блок[228]228
Блок, Александр Александрович (1880 – 1920) – виднейший представитель русского символизма и один из талантливейших русских лириков. Наиболее известны его книги: «Стихи о прекрасной даме» (1905 г.), «Нечаянная радость» (1907 г.), «Снежная Маска» (1908 г.), драматические произведения – «Балаганчик», «Король на площади», «Незнакомка» и «Роза и Крест». В 1918 г. им была написана поэма «Двенадцать», являющаяся первой значительной попыткой художественного отображения и «оправдания» Октябрьской революции.
О Блоке см. Л. Троцкий «Литература и революция».
[Закрыть] упрекал нас, непризванных, в том, что мы не понимаем Мережковского, не видим, как душа его раздирается на части: он взыскует вышнего града и в то же время – влюблен в культуру. Не любит ее, как мы, расчетливо-прозаической любовью, а влюблен, как художник, как Дон-Кихот.
Что Мережковский к культуре крепко привязан, это так. Но почему же – как Дон-Кихот? Любовь Дон-Кихота не только фанатична, но и фантастична и в своей фантастичности безнадежна: это – любовь к тому, что осуждено историей, борьба за то, чего отстоять нельзя. Но какая опасность грозит тому накопленному богатству веков, в которое «влюблен» Мережковский?
Однако существует к культуре активное и страстное – и в то же время отнюдь не дон-кихотское – отношение: у социально-обездоленных, у пробужденных масс, которым еще предстоит только проложить себе дорогу к культуре. Но и такая любовь не удел Мережковского: ему нет нужды ни доказывать, ни осуществлять свое право на культуру, – ему остается любить ее спокойной и удовлетворенной любовью обладания. Греческие классики, отцы церкви, французские эротики – он всем этим пользуется так же натурально, как карманными часами или носовым платком. Культура – от комнатного комфорта до высших эстетических ценностей – не клад, который он боится утратить, и не идеал, которого он хочет достигнуть, а данная ему среда. Среда же (по Мережковскому, «середина») – это плоскость, мещанство, удовлетворенное мещанство – это хамство. Где же искать спасения от погружения в хамство облагороженного культурного прозябания? И вот тут на выручку является мистика. В ней Мережковский имеет сверх-культурную санкцию культуры, гарантию того, что, посасывая культуру, он совершает высшее дело и, главное, не является просто гниющим человеческим мясом, хотя бы и цивилизованным. Культура и Вечность – два устоя Мережковского. Вечность – это самая льготная отсрочка платежа по моральным векселям, предъявляемым культурой. Примиряя с культурными противоречиями и с самим собою, Вечность гарантирует еще, сверх всего прочего, за пределами культуры в высшей степени заманчивое продолжение.
Мережковский просто оказался ранним культурным индивидуалистом, преждевременным европейским себялюбцем в исторической среде, враждебной такому типу, ибо все еще дышало здесь коллективными чувствами и настроениями. В борьбе за свое самосохранение Мережковский отгородился от всех и строил себе свой личный храм, изнутри себя. Я и культура, я и вечность – вот его центральная, его единственная тема. Среди русских интеллигентных мистиков, в большинстве своем новейшей формации, Мережковский стоит особняком, как мистик коренной. Струве, Бердяев, Булгаков и другие из материалистов становились полумистиками и мистиками, в меру того как слева направо передвигались их политические симпатии. А Мережковский справа налево передвигал свои политические симпатии в борьбе за сохранение своего мистицизма. От освящения самодержавия он пришел к христианско-анархическому идеалу теократического вневластия – не потому, что искал правды человеческих отношений, а исключительно под влиянием потребностей личного своего самоутверждения, но всестороннего, так, чтобы уж совершенно себя обставить и «здесь» и «там», чтобы ни о чем уж больше не беспокоиться. Революционная эпоха произвела трещину в его индивидуалистической скорлупе и показала, что есть на свете не только «я» и культура, но и третий фактор: масса, – и Мережковский допустил массу в свои внутренние покои, впрочем, лишь чуть дальше порога, да и не реальную народную массу, а для своего обихода им самим выдуманную, «самую апокалиптическую в мире». Идеальная христианская общественность оказывается лишь перелицовкой апокалиптического тысячелетнего царства святых на земле и практически ни к чему не обязывает. "Почти невозможно найти даже первую реальную точку для теократического «действия», – меланхолически жалуется сам Мережковский и, тем не менее, не подвергает своего земного идеала никакой ревизии, ибо для него дело идет, по существу, не о том, чтобы перевернуть этот неправедный мир, а о том, чтобы мистически истолковать его. Стоит ли тревожиться из-за невозможности общественного действия, раз «проблема дьявола» разрешена окончательно!
В противоположность Ивану Карамазову{141}, который бога-то еще соглашался принять, но мира, им созданного, с жертвами безвинными, с младенцами замученными, не принимал и почтительно, т.-е. в сущности дерзостно, возвращал свой билет, – г. Мережковский мир готов принять всегда, – и с Победоносцевым[229]229
Победоносцев, Константин Петрович (1827 – 1907) – обер-прокурор Синода, одна из влиятельнейших реакционных фигур царствования Александра III. Победоносцев выдвинулся немедленно после гибели Александра II и использовал страх нового царя перед террором для ликвидации всех либеральных начинаний предыдущего царствования и для проведения целого ряда контрреформ и реакционных мероприятий. Под влиянием и при участии Победоносцева был учрежден институт земских начальников, введены церковно-приходские школы, проводилась политика преследования евреев и других инородцев. Основной специальностью Победоносцева были религиозные гонения на сектантов.
Победоносцев продолжал свою «деятельность» и в царствование Николая II. При первом появлении «новых веяний» его административная деятельность перестала удовлетворять даже его единомышленников. Через два дня после манифеста 17 октября 1905 г. Победоносцев подал в отставку.
[Закрыть], и с анархией – только под одним условием: чтобы ему этот мир мистически посолили, дабы не загнил и не провонял.
Так он и оставался, этот ранний европейский себялюбец, в русских условиях чужеродной фигурой в корректном черном сюртуке. «В России меня не любили и бранили, – жалуется Мережковский, – за границей меня любили и хвалили; но и здесь и там одинаково не понимали моего». В этой справедливой жалобе есть маленькое фальшивое самоутешение. Верно, что Мережковского за границей хвалили, т.-е., собственно, похваливали, но совсем неверно, будто его там любили. Европейцы, да и то лишь романские, одобряли автора «Леонардо»{142} как писателя, хорошо знакомого с Европой, по крайней мере с внешней оболочкой ее культуры, как образованного европейца из варваров; но о какой бы то ни было значительности его в идейном обиходе Запада и речи быть не может. А на родине, которая вся содрогалась от внутреннего напряжения, именно потому и не любили и не хвалили его, что во всех его превращениях неизменно открывали одного и того же мистика-наблюдателя, человека со стороны, себялюбивого чужестранца. От своего одиночества Мережковский искал в разных местах укрыться, но всегда без успеха. У иерархов, с которыми он много общался, он находил официальное самодовольство и совсем не мистическую казенщину: «не ершитесь и не суемудрствуйте, – говорили ему, – становитесь, куда укажем: у нас все предусмотрено». Со стороны либералов он встречал лишь скептическую благожелательность: «нас спасать не нужно, мы и сами как-нибудь спасемся, а вы попытайтесь в массах: там мы вас поддержим против левых»… Наконец, у «левых», т.-е. у интеллигенции (глубже Мережковский никогда не заглядывал), он находил «настоящих религиозных подвижников и мучеников», но – увы! – мучеников во имя человечества, подвижников без бога.
Оставаясь всем чужим, Мережковский на связи людей друг с другом ничего не строит, в общественных выводах своих совершенно не упорствует. Здесь он покладист, уступчив и условен до крайнего предела. Сперва благословлял победоносцевскую государственность, потом благословил «Коня бледного»{143}… Объявляя буржуазность чортовой дочерью, отлично расположился в фельетонах «Речи». Клеймя государство как дьявольское обольщение, объединялся со Струве, глашатаем божественности государственного начала. Вызывая Бердяева себе в попутчики, не о его взглядах на будущие исторические судьбы человечества допрашивает его, а единственно о том, верит ли он, Бердяев, «что человек Иисус, распятый при Пилате Понтийском, был не только Человек, но и Бог»… «Это единственное, – говорит сам Мережковский, – что мы приобрели окончательно и чего никогда не можем лишиться». В этом признании Мережковский раскрывается вполне. Меж фундаментом культуры и куполом мистики, там, где должна помещаться «правда о спасении общественном», у него царит откровенная пустота, которую наполнить он раз и навсегда бессилен. Да он и не замечает ее, ибо по всей натуре своей он не общественник, а замкнутый себялюбец.
II. Чорт в цитатахНо мистика-то Мережковского уж несомненна? То единственное, что «приобретено окончательно» (помимо культурного фундамента под ногами, о котором и споров нет), купол апокалиптический над головою, он-то уж доподлинный, из кованого золота мистики, без лигатуры?
Так где же, откуда же культурному себялюбцу двадцатого века в модернейшем сюртуке добыть подлинной мистики? Да и вместит ли он ее? Да и нужна ли она ему?.. Да ведь он не был бы культурным пенкоснимателем, в утонченнейшем смысле этого слова, если бы не знал, что мистике пальца в рот не клади, ибо она нетерпима и прожорлива, как тощая фараонова корова, она способна поглотить всю культуру без остатка, со всеми ее удобными, милыми и прекрасными завоеваниями. Она ведь гонит из мира в монашество, в аскетизм, – вот ее натуральное устремление. Бессмертие нужно брать поэтому разумными дозами, иначе от него, по розановскому выражению, мир может прогоркнуть. Правду о вечности и правду о времени паче всего нужно держать в равновесии… Вечность придет в свое время, а пока что отхватим от нее тысячу лет (миг единый!), да еще тысячу лет, – ее не убавится, а на наш земной век с избытком хватит.
А большая ли при этом цена вечности, позвольте вас спросить, если ее разменять на миги? Ведь это же, ни дать, ни взять, тот сторублевый соловей, которого купец в трактире велел зажарить, а когда зажарили, потребовал отрезать ему порцию на гривенник.
Разве наш мистик вечность полностью вводит в свой личный обиход, разве ею определяет ритм своей жизни? Вовсе нет, он бесцеремонно разменивает ее в мелочной лавке истории на мелкую монету времени. А потом, консуммируя то же самое время, что и мы, грешные, он куражится над нами, – в том смысле, что он, мол, отрезал себе только маленькую порцию вечности, а что про запас у него этой самой вечности отложено – непочатый край.
У Мережковского есть излюбленный образ: «мнимая зеркальная глубина, действительная плоскость». Так он говорит о русском атеизме, так же он характеризует и чорта. Прав ли он в отношении атеизма, разбирать не станем, и насколько точно он живописует чорта, решить затрудняемся. Но кажется нам, что лучше всего мог бы он охарактеризовать этими словами – себя самого. Ведь все его новое религиозное сознание – в одной плоскости, лишено плоти и крови, одни внешние очертания, проекция чего-то, голая формула, одна тень чужих верований, одно зеркальное отражение неведомых глубин…
Верует ли он окончательно? Если говорит, значит верует. Но заражать других своей верой ему не дано. Он всегда являет вид тревожный, но он никого не тревожит. Он страшно богат титаническими антитезами, но они не волнуют, не врываются в сознание, не запоминаются. У него всегда в тоне проникновенность, но он не проникает. Ему не хватает немногого: подлинной страсти. У него душа неокрыленная. Он себялюбец. Он самый холодный, расчетливый, симметричный человек, отмеривающий и взвешивающий, за каждым своим шагом следящий. Земные расчисления он делает, без сомнения, гораздо лучше апокалиптических. По натуре своей он не мистик, но и не реалист: он – сама трезвенность.
А в то же время – и тому порукой вся судьба его – в нем живет неискоренимая, непреоборимая потребность мистицизма, таинственного взлета, подъема, страсти. Собственной трезвенностью он напуган до самой сердцевины своей, – и весь его мистицизм есть упорное, не знающее отдыха преодоления себя в себе.
Борьба с собственной трезвенностью во имя «бездн», христианской или языческой, все равно, – ибо обе равно недоступны, – есть основное противоречие, проходящее через творчество г. Мережковского. И перед этим субъективным противоречием отступают и неузнаваемо принижаются в его сознании противоречия объективные: между реализмом и мистикой, научным законом и догматом, душевным самоустроением и общественным строительством, между человечеством покоряющимся и человечеством всепокоряющим. Все эти историческим развитием порожденные противоречия чужды ему в своей внутренней нравственной напряженности: они лишь доставляют ему материал для литературных антитез. Он паразитически-поверхностно эксплуатирует их в борьбе с собственной трезвенностью и думает, что примиряет их. Неспособный приобщиться к страсти великих исторических начал, восстанавливающих сына на отца и брата на брата, он свою нравственную импотентность, в которой все обезличивается, выдает за синтез.
Отсюда та мнимая смелость, с какою он принимает крайние выводы в обоих направлениях. Новое религиозное сознание усыновляет «все предания, все догматы, все таинства, все откровения» и в то же время всю культуру и сок ее – науку. Принимает предания, противоречащие законам тяготения и непроницаемости, опрокидывающие вверх дном весь эвклидов разум, и в то же время – все завоевания человеческие, прошлые и будущие, основанные на законах этого самого эвклидова разума. Но как принимает? Претворяет ли в высший синтез (где он, где намеки на него!)? Или же просто мирится на недоношенном противоречии, развивая его в трусливый компромисс?
Старик Карамазов говорит: «А я вот готов поверить в ад, только чтоб без потолка… Ну, а коли нет потолка, стало быть нет и крючьев. А коли нет крючьев, стало быть и все по боку»… Чем и как думает преодолеть Мережковский это житейское вольтерьянство, рефлекс рационалистических форм современного быта? Припугнет «хамством»? Маловато: если крючья не устрашают, то слово и подавно. А ведь это только первый удар.
Второй, тягчайший, идет со стороны научного естествознания. Что по существу может в этой области предъявить г. Мережковский? Как и чем собирается он расквитаться с естествознанием?
Третье, уже совершенно непосильное испытание идет со стороны исторического, эволюционного или диалектического метода, который составляет самую сущность современной умственной культуры. Что на земле, что под землей, – он все рассматривает в процессе возникновения, развития и исчезновения. Шаг за шагом он расчищает девственные пространства, вытесняя из них мифологические существа и развертывая подлинную картину развития – от атома до амебы и от амебы до г. Мережковского. Вскрывая, на какой ступени биологического развития, в каких условиях и в какой форме зародилась вера в чудо и какие превращения испытала, он подчиняет «чудо» в его психологических корнях законам природы и тем умерщвляет его.
Если прав Мережковский, что первые христиане не выдержали бы испытания, заглянув в курс истории церкви, то позволительно спросить: а каковы отношения самого г. Мережковского к научной истории первобытных религий? Подвергал ли он себя этому испытанию всерьез? Дарвинизм, марксизм – свел ли он с ними свои счеты? Излишне даже ставить эти вопросы. На работах Мережковского не чувствуется и отдаленного дуновения исторического метода. Свои субъективнейшие и современнейшие потребности он с упрямой ограниченностью начетчика втолковывает в старые тексты, оторванные от их исторических корней. В мировой истории он видит не закономерный процесс развития коллективного человека, оторвавшегося от цепи своих зоологических предков и планомерно подчиняющего себе землю, а пеструю движущуюся панораму, в которой властный случай время от времени обуздывается прямым вмешательством нездешних сил.
Но где тут наука? И где тут примирение культуры с мистикой? Ведь из культуры при этом фактически выключается ее душа: научный метод миропознания. Но культура минус научные идеи, ее одухотворяющие, есть только комфорт. Не дуб, а только желудь. Что себялюбец, и особливо трезвенный, может золотые желуди новейшего комфорта «примирить в высшем единстве» с дубами древних преданий, это не диво. Но стоит ли ради этого городить огород «нового религиозного сознания»?
Когда Алеша Карамазов, ближайший патрон г. Мережковского, почтительно отзывается о поминальных блинах: «старинное, вечное и потому хорошее», – вы чувствуете, что сколько бы Достоевский ни укрывался за своего бедного и безличного Алешу, ему, Достоевскому, поминальный блин в горло не лезет: ибо автор «Карамазовых» видит действительные глубины и подлинные противоречия. А г. Мережковский, открывая новую эпоху человеческого духа, добросовестнейшим образом обязуется потребить весь блин обрядности, – и думает, что этим своим подвигом примирит землю с небом…
А в итоге получается вот что: хоть Мережковский и твердо знает, что тысячелетнее царство святых наступит под самый конец, уже перед уничтожением мира космического; хоть он и разрешил проблему дьявола и притом окончательно; хоть он и обещает справиться даже и с поминальным блином (не оказался бы все-таки комом!), – однако же не только объективных противоречий реализма и мистицизма он при этом не примирил, но и собственного внутреннего равновесия не достиг нисколько. «Лучше быть шутом гороховым, – признается он сам, – чем современным пророком». И разве не фатально, что он вспоминает при этом именно горохового шута?
Тот чорт, который ради дипломатического вечера у петербургской дамы соответственно воплотился: фрак, белый галстук, перчатки – и в таком виде мчался по звездным пространствам, где температура 150 гр. ниже нуля, так что пришлось схватить жестокий ревматизм и лечиться от него мальц-экстрактом Гоффа (воплотился – стало быть принимай последствия!), – ведь этот ревматический чорт Ивана Карамазова и определяет полностью тот уровень, прямо сказать, шутовской, на котором Мережковский ищет своего мнимого синтеза. Для духа открываются: вечность и эфир звездных пространств – ничего недоступного! – а для временного телесного воплощения: мальц-экстракт материальной культуры. И совершенно неосновательным оказывается наше первоначальное предложение, будто ирония замертво падает пред лицом культурного европейца, отыскавшего точную формулу дьявола. На самом деле не так! Как ни несродна Мережковскому гейневская стихия дерзостного остроумия, – тоже стирающего грани между адом и мальц-экстрактом, только с другого конца, – но тем чувствительнее он оказывается именно с этой незащищенной стороны своей, тем больше он боится яду вольтерьянского, тем больше он, несмотря на всю внешнюю отвагу, робеет перед ридикюльностью (смехотворностью) своей миссии.
Возьмите для образца одно зловещее пророчество г. Мережковского, предрекшего не более и не менее, как гибель городу Петербургу, что на Неве, в фельетоне «Речи»: «Петербургу быть пусту». Что это: игра ума? Но кто же так… играет? – Издевательство? Но над кем? Мистическое изуверство? – при парижском сюртуке-то? – «У меня, должно, быть лихорадка, – поясняет Мережковский, – не удивляйтесь же, что слова мои будут похожи на бред». Значит, берет свое прорицание всерьез, если в смягчение ссылается на лихорадку. Но, однако, позвольте: одна, две, три, четыре… двадцать четыре. Двадцать четыре цитаты! Потрудитесь проверить: в пифическом фельетоне две дюжины цитат: из «Петербургской старины», из Лермонтова, конечно, из Достоевского, из фабричной частушки, из Радищева[230]230
Радищев, Александр Николаевич (1749 – 1802) – один из первых деятелей русского освободительного движения, был в числе других молодых дворян отправлен Екатериной II для научных занятий в Лейпциг. Там Радищев изучал философию и право, медицину и химию. В течение пятилетнего пребывания за границей он приобрел серьезные научные познания и был одним из образованнейших людей своего времени. По возвращении в Россию Радищев занимал различные административные должности и вместе с тем занимался литературой. За свою книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» он был приговорен к смерти, но казнь была ему заменена десятилетней ссылкой в Сибирь; книга его была уничтожена. Гонение это было вызвано нападками Радищева на крепостное право. В своем «Путешествии» Радищев предлагает в качестве «проекта в будущем» следующие реформы: освобождение дворовых, отмену стеснений крестьянских браков, передачу в собственность крестьян обрабатываемых ими наделов и движимого имущества, введение гражданского равноправия, запрещение наказывать без суда и, наконец, полное уничтожение рабства. Кроме того, Радищев восстает в своей книге против административного произвола, продажности суда, против цензуры и многих сторон быта своего времени. Радищев оставался в Илимске – месте своей ссылки – до 1796 г. В ссылке он изучал сибирскую жизнь и сибирскую природу, делал метеорологические наблюдения, много читал и писал. В начале царствования Александра I он был вызван в Петербург и назначен членом комиссии по составлению законов, куда он подал проект о необходимых законодательных преобразованиях, в которых выдвигал на первый план освобождение крестьян. Радищев умер в 1802 г.
[Закрыть], конечно, еще раз из Достоевского, из Антиоха Кантемира, из Ивана Аксакова[231]231
Аксаков, Иван Сергеевич (1823 – 1886) – сын известного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, автора книг «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова внука», и брат одного из столпов русского славянофильства, Константина Сергеевича Аксакова.
Иван Сергеевич Аксаков был также горячим сторонником славянофильства. С 1859 г. до самой своей смерти он издавал последовательно целый ряд славянофильских газет и журналов: «Парус», «Пароход», «Русская Беседа», «День», «Москва», «Русь».
[Закрыть], конечно, из Апокалипсиса{144} и т. д., и т. д… Кто же так провещевает, позвольте спросить, особливо в полубреду? Две строки набредил, снял с полки книгу, списал цитату, потом опять от себя. Попророчествовал строк пять, опять снял книгу, стишок выписал и опять в объятия пророческой лихорадки. И так всегда у Мережковского: точно по щебню ходишь, рискуя каждую минуту напороться на какое-нибудь острие, и, что хуже всего, скоро теряешь всякую надежду на то, что этот изнурительный путь действительно ведет куда-нибудь.








