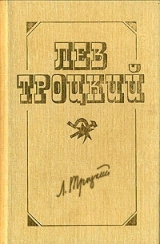
Текст книги "Проблемы культуры. Культура старого мира"
Автор книги: Лев Троцкий
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 40 страниц)
Сословная культура, от которой старый русский «интеллигент» отрекался, была первобытна и внутренне неспособна покорить себе пробуждающееся индивидуальное сознание, – и он легко, почти без борьбы освобождался от нее под влиянием идей, рожденных другой, более высокой и ценной культурой. Оторвавшись от бытовых основ, сословный осколок становился отщепенцем и потому чувствовал себя абсолютно «свободным» в выборе путей и средств. С прошлым было покончено, будущее казалось большой белой доской. Отсюда беспредельный субъективный радикализм наших кающихся дворян и восставших семинаристов, отсюда же их интеллигентская мания величия. Версилов у Достоевского вместе с Герценом смотрит на Европу с полупрезрительной тоскою. "Там, – говорит он, – консерватор всего только борется за существование: да и петролейщик лезет лишь из-за права на кусок. Одна Россия живет не для себя, а для мысли… вот уж почти столетие, как Россия (т.-е. ее интеллигентская кучка. Л. Т.) живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы". «Европа создала, – говорит тот же Версилов, – благородные типы француза, англичанина, немца, но о будущем своем человеке она еще почти ничего не знает. И, кажется, еще пока знать не хочет. И понятно: они не свободны, а мы свободны. Только я один в Европе, с моей русской тоской, тогда был свободен»…
Версилов не видит, что он, не в пример европейскому консерватору или петролейщику, был «свободен» не только от привязи сословных традиций, но и от всяких возможностей социального творчества. Та самая безличная среда, которая давала ему субъективную свободу, тут же представала перед ним как объективная преграда.
Конечно, в Европе, с ее культурной упорядоченностью, с ее умышленной определенностью, приходится ходить по асфальту, по шоссе, вообще, где указано. Абсолютной «свободы» там не найдешь. Линии поведения партий и вождей в основных своих чертах предопределены объективным положением вещей. То ли дело у нас, где господин интеллигент ничем не связан – в духе своем. «Они» в Европе связаны планами, правилами, курсбухами, программами классовых интересов, а я в своей социальной степи абсолютно свободен. Но вот чудо: сделал абсолютно свободный русский интеллигент три шага и позорнейшим образом заблудился меж трех сосен. И снова идет он на выучку в Европу, берет оттуда последние идеи и слова, снова восстает против их обусловленного, ограниченного, «западного» значения, приспособляет их к своей абсолютной «свободе», т.-е. опустошает их, и возвращается к точке отправления, описав 80.000 верст вокруг себя. Словом: «твердит зады и врет за двух».
«Ты меня отрицаешь, – говорит наша варварская общественность вознесшемуся в царство „свободы“ дворянину-интеллигенту или взбунтовавшемуся поповичу, – а я тебя отрицаю. Видишь, какая я рыхлая, тестовидная, бесформенная, – тебе не за что зацепиться во мне. Духовно связать тебя и дисциплинировать я не могу, это правда: тут твоя „свобода“. Но и в скульптурный материал для лепки твоих идеалов я тоже не гожусь. Ты сам по себе, я сама по себе. Делай свою историю в одиночку».
"Есть у нас люди, а общества нет:
Русская мысль в одиночку созрела
Да и гуляет без дела".
Ничего другого ведь версиловская «свобода» и не означала, как свободу мысли – гулять без дела. И эта «свобода» – ею в абсолютнейшей мере обладал, напр., народоволец Морозов[251]251
Морозов, Николай Александрович (род. в 1854 г.) – был последовательно членом кружка Чайковского, общества «Земли и Воли» и «Народной Воли». В 1881 г. по процессу 20 был приговорен к бессрочной каторге, которую отбывал сначала в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, а затем в Шлиссельбурге, откуда его освободила революция 1905 г. По выходе Н. А. Морозов опубликовал свою попытку астрономического толкования Апокалипсиса «Откровение в грозе и буре».
[Закрыть], когда разгадывал в Шлиссельбурге загадки Апокалипсиса, – эта «свобода» проклятием тяготеет над всей историей русской интеллигенции.
Мало того, что слово не переходило в дело, «моя мысль и мое слово были моим делом, – могла бы о себе сказать русская интеллигенция, – их завещаю потомству!» – но в самом царстве мысли мировой русская интеллигенция была ведь только приемышем: жила на всем готовом, но своего ничего не внесла. Пред ней всегда оказывался огромный выбор готовых литературных школ, философских систем, научных доктрин, политических программ. В любой европейской библиотеке она могла наблюдать свой духовный рост в тысяче зеркал: больших, малых, круглых, квадратных, плоских, вогнутых, выпуклых… Это приучало ее к самонаблюдению, изощряло интуицию, гибкость, восприимчивость, чуткость, женственные черты психики, но в корне подрезывало физическую силу мысли. Одна эта постоянная возможность получить сразу и легко, почти без усилий, «идею» вместе с ее готовой критикой и вместе с критикой этой критики не могла не парализовать самостоятельное теоретическое творчество. «Наши умы, – превосходно сказал Чаадаев о русской интеллигенции, – не бороздятся неизгладимыми следами последовательного движения, идей, потому что мы заимствуем идеи, уже развитые». Отсюда ужасающая идейная чресполосица, постоянные теоретические недоразумения, неожиданнейшая философская отсебятина. «В наших лучших головах, – писал тот же Чаадаев, – есть что-то большее, чем неосновательность». Тургенев утверждал, что у русского человека не только шапка, но и мозги набекрень. Сам Чаадаев пал жертвой своей тоски по последовательности, которая – увы! – и у него оказалась чем-то худшим, чем неосновательность.
Раздражение охватывает, когда глядишь на самодовольно-почтительных историков и портретистов нашей интеллигенции. У нас значится полуторастолетняя интеллигенция, бескорыстнейшая, насквозь идейная, живущая «для мысли», «для Европы», – а что мы дали миру в области философии или общественной науки? Ничего, круглый нуль. Попытайтесь назвать какое-нибудь русское философское имя, большое и несомненное. Владимир Соловьев, которого обычно вспоминают только в годовщину смерти? Но туманная метафизика Соловьева не только не вошла в историю мировой мысли, – она и в самой России не создала никакого подобия школы. Кое-чем позаимствовались у Соловьева гг. Бердяев, да Эрн[252]252
Эрн, В. Ф. – реакционный философ церковного и славянофильского направления. Главные его труды: «Христианское отношение к собственности» (1906), «Розмини и его теория знания», «Философия Джоберти» (1916).
[Закрыть], да Вячеслав Иванов[253]253
Иванов, Вячеслав – современный поэт и философ. Первый сборник его стихов вышел в 1903 г. под названием «Кормчие звезды», за ним последовали «Прозрачность», «Эрос», «Cor ardens». Сборник теоретических статей «По звездам» дает обоснование символизма. Его стихотворения насыщены философским содержанием, образы заимствованы из мало доступной рядовому читателю области античной мифологии. Язык Вячеслава Иванова переполнен архаизмами и смелыми неологизмами; он намеренно удаляет свой поэтический язык от языка разговорной речи, берет обороты речи у старых писателей, вводит обороты античных языков. Его философское миросозерцание проникнуто христианским мистицизмом, с которым он пытается примирить свое преклонение перед античностью.
[Закрыть]… А этого маловато.
Г-н Гарт[254]254
Гарт – октябрист-литератор. Был постоянным сотрудником правых газет «Русского Голоса», «Русского Дневника», «Национальной Руси». Написал несколько книжек реакционного содержания: «Революция и наши партии», «Почему зашаталась Россия?»
[Закрыть], философ из бывших октябристов, растерявшись при виде той разнузданности, с какою у нас интенданты грабят, реакционеры бесчинствуют, а октябристы низкопоклонничают, – озирается беспомощно вокруг в поисках такого категорического императива, который пришелся бы как раз по «широкой русской натуре» (в том числе и по интендантской), совладал бы с ее добродушно-распущенной рыхлостью, дисциплинировал бы ее внутренней дисциплиной и отучил от взяток. Где же он, грядущий славянский Кант? – спрашивает его маленький предтеча{146}. Да, где он в самом деле? Нет его. Где наш Гегель? Где кто-нибудь равновеликий сим? В философии у нас нет никого, кроме третьестепенных учеников и безличных эпигонов.
Мы были богаты «самобытным» социальным утопизмом, да и сейчас его еще хоть отбавляй. Но что внесли мы своего в сокровищницу социальной мысли? Народничество, русский суррогат социализма? Но ведь это не что иное, как идейная реакция нашей азиатчины на разъедающий ее капиталистический прогресс. Это не новое завоевание мировой мысли, а только небольшая глава из духовной жизни исторического захолустья.
Где наши великие утописты? Самый большой из них – Чернышевский; но и он, придавленный убогостью социальных условий, остался учеником, не выросши в учителя. Герцен, Лавров[255]255
Лавров, П. Л. (1823 – 1900) – один из виднейших вождей и теоретиков революционного народничества, член I Интернационала. Лавров принял участие в организации первого народнического общества «Земля и Воля» в 1876 г.; при распадении общества в 1879 г. на группы «Черный передел» и «Народная Воля» примкнул к последней и с тех пор был до самой смерти теоретическим главой народовольцев, редактируя главный орган партии «Вестник Народной Воли» с 1883 по 1886 г. В 1873 г. эмигрировал за границу и поселился в Цюрихе, откуда переехал в Лондон. Последние годы жизни провел в Париже. Редактировал за границей теоретический журнал народнического направления «Вперед». Перу Лаврова принадлежат выдающиеся сочинения, из которых некоторые, как «Исторические письма», оказали большое влияние на русскую революционную интеллигенцию 70-х и 80-х гг., положив начало русской социологической школе.
[Закрыть], Михайловский ни в каком смысле не входят в историю мирового социализма; они целиком растворяются в истории русской интеллигенции. Пожалуй, один Бакунин[256]256
Бакунин, Михаил Александрович (1814 – 1876) – известный теоретик анархизма и революционер. Был в конце 70-х годов членом кружка Станкевича и ревностным гегельянцем. В 1840 г. уехал за границу, изучал философию в Берлине. В 1842 г. в «Deutsche Jahrbucher» Руге появилась его первая публицистическая статья «О реакции в Германии». С этого времени Бакунин сближается с германскими социалистами. Отказавшись последовать приказанию царского правительства вернуться в Россию, он заочным приговором сената был лишен всех прав состояния и формально стал эмигрантом. В Париже он сближается с Прудоном, принимает живое участие в делах польской эмиграции. Высланный в Брюссель, он сталкивается там с Марксом, и их отношения вскоре принимают очень острый характер.
В 1849 г. Бакунин принял деятельное участие в саксонском восстании. После крушения его Бакунин просидел два года в различных тюрьмах Саксонии и Австрии и в 1851 г. был выдан России. Здесь он был заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, затем в Шлиссельбург. В 1857 г. заключение было ему заменено ссылкой в Сибирь, откуда он через Японию и Сан-Франциско бежал в Лондон. Здесь он принял деятельное участие в издании герценовского «Колокола» и вступил в сношения с зарождавшимися внутри России революционными организациями. Лозунг «хождения в народ» и идея организации тайных обществ, выдвинутые Бакуниным, составляли сущность бунтарского движения 70-х годов.
С половины 60-х годов революционная деятельность Бакунина сосредоточивается преимущественно на Западе. В 1868 г. Бакунин основывает союз социальной демократии, который был принят в Международное Общество рабочих. Но Бакунин, проводивший в Интернационале принцип полной независимости отдельных секций, в противоположность централистским тенденциям марксистов, не ужился в Интернационале и был исключен в 1872 г. Бакунинская организация просуществовала до 1877 г., постепенно теряя свое значение. Бакунин умер в 1876 г. в Берне, где и похоронен.
[Закрыть] еще вписал свое имя в книгу европейского рабочего движения, но он именно должен был для этого всецело оторваться от почвы русской общественности, да и в европейскую он вошел не необходимым составным элементом, а как преходящий эпизод, притом же вовсе не такой эпизод, который знаменует шаг вперед. Что осталось теперь от бакунизма? Пара предрассудков в романском рабочем движении, не более…
Можно бы, конечно, тут назвать Толстого; но и это не выйдет убедительным. Бесспорно, Толстой весь, целиком, с ременным пояском и чунями пеньковыми, вошел в обиход мировой мысли, но не своей социальной философией, а как огромный человеческий факт. «Учение» же его, как было, так и осталось субъективными лесами его духа, оно сохраняет огромную биографическую ценность, но после европейских религиозных реформаций и европейских революций, после европейских социальных учений XIX столетия, – какое новое слово сказал Толстой?
Повторим еще раз: история нашей общественной мысли до сих пор даже клинышком не врезывалась в историю мысли общечеловеческой. Это мало утешительно для национального самолюбия? Но, во-первых, историческая правда не фрейлина при национальном самолюбии. А, во-вторых, будем лучше наше национальное самолюбие полагать в будущем, а не в прошлом. Знаменитый Бенкендорф[257]257
Бенкендорф, А. Х., граф (1783 – 1844) – шеф жандармов и начальник знаменитого в истории русской общественности Третьего отделения канцелярии его величества.
Оба учреждения, – корпус жандармов и Третье отделение, – во главе которых стоял Бенкендорф, были основаны по его проекту Николаем I. За все время царствования последнего Бенкендорф был самым влиятельным и близким к нему лицом. Так как после подавления декабрьского восстания попытки политических выступлений прекратились, то, за отсутствием других объектов, вся тяжесть жандармского рвения Бенкендорфа обрушилась на молодую русскую литературу.
Цитируемая в тексте фраза сказана им по поводу письма Чаадаева (см. прим. 246).
[Закрыть] сказал некогда: «Прошлое России было изумительно; ее настоящее более чем великолепно; что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может представить себе самое горячее воображение». Тем почитателям интеллигенции, которые мыслят по генералу Бенкендорфу, хотя бы и «с другой стороны», и русскую историю превращают, ради ее семи праведников, в историю богом избранного народа, – им, конечно, наши суждения не могут прийтись по нутру. Но мы не мыслим по генералу Бенкендорфу – даже и «с другой стороны». Из чего, надо надеяться, не следует, что мы не верим в будущее России…
Но в чем мы убеждены твердо и несокрушимо, так это в том, что великое будущее превращается для нас из туманной фантазии в реальность лишь постольку, поскольку стираются историей «самобытные» черты нашего «изумительного» прошлого и «более чем великолепного» настоящего. А к этим самобытным чертам, как их дополнение и увенчание, относится и наша старая, неклассовая, мессианистическая интеллигенция, которую в теоретической области характеризовало «нечто большее, чем неосновательность», а в практической – бессилие.
Отсутствие исторических традиций и отчетливых политических группировок необходимо вело за собою отсутствие личной нравственной устойчивости. В расползающейся «неисторической» среде гораздо легче пожертвовать своей жизнью во имя идеи, чем провести единство идеи через свою жизнь. И нужно признаться, что не лишен своей крупицы соли чей-то разухабистый отзыв о русской интеллигенции: «до тридцати лет – радикал, а затем – каналья». Как ни груба гончаровская карикатура на нигилиста, однако же нет ничего невероятного в том, что Марк Волохов{147} раскаялся и поступил в юнкера. Кандидат в Гракхи[258]258
Братья Гракхи – вожди демократической партии в Риме конца II века до нашей эры. Тиберий Гракх (163 – 133) провел аграрную реформу, в результате которой часть государственных земель, захваченных крупными землевладельцами, была отчуждена, разбита на мелкие участки и передана в наследственную неотчуждаемую аренду нуждающимся гражданам. Тиберий Гракх вместе со своими сторонниками был убит сенатской партией крупных землевладельцев.
Его брат, Кай Гракх (153 – 121) был также вождем демократической партии.
[Закрыть], который становится податным инспектором, ибо его «среда заела», – давно ли сей персонаж уволен на покой нашей беллетристикой?
Чем же жили и держались лучшие? Страшным нравственным напряжением, сосредоточенным аскетизмом, бытовым отщепенством. При отсутствии социальной почвы под ногами личная устойчивость могла покупаться только ценою идейного фанатизма, беспощадного самоограничения и самоотмежевания, мнительности и подозрительности, недреманного блюдения своей чистоты… «Русачок маленький в огонь влезет, а благоверия не предаст», – говорил протопоп Аввакум[259]259
Протопоп Аввакум (1605 – 1681) – знаменитый вероучитель русского раскола XVII в., участвовал в исправлении церковных книг, предпринятом при Алексее Михайловиче патриархом Иосифом. Однако, когда преемник Иосифа, Никон (см. прим. 247), признав все предыдущие исправления ошибочными, предпринял исправление православных богослужебных книг по греческим оригиналам, Аввакум объявил себя непримиримым врагом всяких новшеств и стал во главе раскола.
В своих сочинениях Аввакум рассматривает никонианские новшества как осквернение церкви, предсказывает близкое пришествие антихриста, проповедует бегство из мира и самосожжение.
Аввакум подвергся жестоким гонениям, ссылке, заточению, пыткам и, наконец, был расстрижен, проклят церковным собором и сожжен на костре.
[Закрыть]. Не в особых извилинах славянского мозга, а в социальных условиях старой России нужно искать корней того старообрядческого фанатизма, той ревности о букве, которые наблюдаются подчас у наших интеллигентов самого крайнего лагеря. Незачем говорить, что и в области интеллигентского благоверия отцеживание комаров не препятствует благополучнейшему проглатыванию двугорбых верблюдов.
«Я – жид и с филистимлянами за один стол не сяду!» – писал Белинский. Однако же, при всем единстве своей нравственной личности, Белинский вынужден был радикальным образом менять свои взгляды. Идейная непримиримость, благородная черта всякого борца, сама по себе слишком слабая гарантия выдержки, раз она не находит постоянной опоры в объективной непримиримости, заложенной в самую механику общественных отношений. Частая и резкая смена воззрений, нечто обычное у русских интеллигентов (и не только у тех, которые после тридцати лет становятся… податными инспекторами), – ведь это лишь необходимейшее дополнение абсолютной версиловской свободы, свободы мысли – «гулять без дела».
Перемены миросозерцаний могли иметь субъективно-трагический характер (у Белинского), комически-пошлый (у какого-нибудь Бердяева), душевно-распутный (Струве), фразеологически-поверхностный (Минский, Бальмонт), ренегатский (Катков{148}, Тихомиров[260]260
Тихомиров, Лев Александрович (род. в 1850 г.) – со второй половины 70-х годов принимал участие в революционном движении. В 1883 г. эмигрировал за границу и в 1885 – 1888 году был редактором «Вестника Народной Воли» и издал книгу «La Russie politique et sociale». В 1888 г. отрекся от своих прежних идей, напечатал брошюру: «Почему я перестал быть революционером» и получил разрешение вернуться в Россию, где он стал деятельно сотрудничать в «Новом Времени» и «Московских Ведомостях» и издал несколько книг в духе своей ренегатской брошюры.
[Закрыть]), но их историческая основа оставалась одна и та же: общественная убогость наша.
По поводу восстания декабристов граф Растопчин иронизировал в том смысле, что во Франции де «чернь» учинила революцию, чтобы сравняться с аристократией, а у нас вот аристократия устроила революцию в интересах черни. Этим парадоксом Растопчина пользуется г. Иванов-Разумник, чтоб подчеркнуть противосословный, чисто идеалистический характер движения декабристов. В какой мере и в каких пропорциях элементы бесплотного идеалистического радикализма сочетались у декабристов с сословными внушениями, это вопрос особый; но верно, что декабристы выступили, как не раз выступала русская интеллигенция после них, т.-е. пытались заместить собою отсутствующие зрелые классы. Декабристы «заместительствовали» буржуазный либерализм.
Заместительство несуществующих или слабо развитых классов, маскировавшее социальную слабость интеллигенции, становится ее идейной потребностью и вместе политической профессией. Сперва аристократическая интеллигенция замещает «чернь», затем разночинец-народник замещает крестьянство; впоследствии интеллигент-марксист заместительствует пролетариат. Глеб Успенский, сам разночинец-народник, с гениальной прозорливостью разоблачил интеллигентский маскарад народничества. Понадобились, однако, еще два десятилетия, прежде чем живое крестьянство показало свое подлинное обличие, – и только тогда роману интеллигенции с псевдо-мужиком нанесен был смертельный удар…
Но даже и в том случае, когда идея шла в направлении общего исторического развития, она, под влиянием Запада, настолько предвосхищала это развитие во времени, что носительница идеи, интеллигенция, оказывалась связанной с политической жизнью страны не через класс, которому она хотела служить, а только через «идею» этого класса. Так было с первыми кружками марксистской интеллигенции. Только постепенно дух становился плотью.
В 1905 – 1906 г.г. на историческую сцену выступили большие социальные тела – классы со своими интересами и требованиями; русские события одним ударом врезались в мировую историю, пробудив могущественный отклик в Европе и Азии; политические идеи перестали казаться бесплотными феями, спустившимися с идеологических небес; эпоха заместительства интеллигенции закончилась, исторически исчерпав себя. Но замечательно, что именно после этих знаменательных лет вакханалия интеллигентского самовозвеличения развернулась вовсю: так лампа вспыхивает ярче всегда перед тем, как погаснуть.
Вздор, будто история после великого напряжения вернулась вспять. Вспять обернулась бюрократия; бюрократия же заведует многими вещами, но не ходом истории. С каратаевщиной нашей, с безысторичностью масс покончено навеки. Тут возврата нет. И вместе с тем покончено с апостольством интеллигенции.
После трех лет самодовольной прострации она теперь снова выпрямляется. Исполать! Однако наивно было бы думать, что она вторично вступает в до-октябрьскую{149} эпоху. История не повторяется. Как бы ни было само по себе велико значение интеллигенции, в будущем оно может быть только служебным и подчиненным. Героическое заместительство всецело относится к эпохе, отходящей в вечность.
Веховцы (Струве – Изгоев) этому отходящему послали вдогонку коллективный плевок. Что плевок не долетел, а вернулся по адресу отправления, это теперь, надо полагать, ясно всем. Но и идолопоклонничать перед прошлым незачем тому, кто верит в будущее. Прошлое не воскреснет. И это хорошо, ибо будущее лучше прошлого: уж потому одному, что оно опирается на прошлое, богато его опытом, умнее и сильнее его.
«Киевская Мысль» NN 64, 72, 4, 12 марта 1912 г.
Л. Троцкий. НЕЧТО ОБ АНКЕТАХ
«Биржевых Ведомостей»[261]261
«Биржевые Ведомости» – газета, выходившая в Петербурге с 1880 г. В 1905 г. занимала либеральную позицию, в эпоху наступившей реакции перешла в лагерь желтой прессы.
[Закрыть] я не читаю по той же причине, по которой стеклом не утираюсь. Но случайно заглянул в N 12905 и нашел там ответы Сологуба и Куприна[262]262
Куприн, Александр Иванович (род. 1870 г.) – современный писатель-реалист, автор нашумевшего рассказа «Поединок», в котором Куприн, бывший офицер и знаток военного быта, дает галерею армейских типов и картину армейской жизни. Ему принадлежат также многочисленные рассказы из жизни самых разнообразных слоев и профессий – духовенства, цирковых актеров, балаклавских рыбаков, воров, проституток и т. д.
[Закрыть] на анкету о самоубийстве.
Философия большинства газетных анкет вполне совпадает с философией той захолустной старушки, которая, говорят, спрашивала у Толстого средства против ревматизма. Популярным и именитым людям – независимо от рода их оружия – предлагают обыкновенно сообщить свое мнение по острому вопросу, будет ли это символизм, самоубийство или итало-турецкая война. При этом, в интересах упрощения анкетного дела, принято игнорировать то обстоятельство, что популярный сифилидолог вовсе не обязан иметь точки зрения на символизм и на современные самоубийства, а если имеет, то лучше, может быть, ему свою «точку» держать при себе.
Австрийские газеты, стоящие вообще на очень низком уровне вследствие жалкого характера австрийской политики, которая вертится в колесе национальных трений и государственных кризисов, тупых и безысходных, – австрийские газеты питают очень большое пристрастие к анкетам, опросам, интервью и всякой иной экспертизе. Заставить отставного баварского министра юстиции и королевского тайного советника фон-Нихтс-цу-Нихтс высказаться по поводу открытия Эрлиха[263]263
Проф. Эрлих – недавно умерший германский ученый. В 1909 – 1910 г.г. он нашел сложное органическое соединение мышьяка с бензоловой группой (арсено-бензол, сальварсан, препарат «606»), являющееся до настоящего времени самым сильным средством, убивающим многие болезнетворные бактерии. Сальварсан применяется для лечения сифилиса, возвратного тифа, малярии и целого ряда других заболеваний.
[Закрыть] или побудить заслуженнейшего ботаника Таубштума изложить свои соображения насчет устойчивости нового порядка вещей в Китае, это – излюбленный прием «Neue Freie Presse»{150}, ее подголосков и ее антагонистов.
Филистер, которому нет никакой принудительной необходимости тратить свою скромную мозговую энергию на разрешение сложных загадок политики и культуры, получает на выбор целую серию ответов, формулированных популярными и авторитетными людьми, к спине которых он имеет таким образом возможность прислониться. То обстоятельство, что гг. авторитетные – совсем по иному ведомству – лица в своих ответах руководятся сплошь да рядом все тем же нормальным инстинктом филистера, делает их ответы только еще более ценными для обихода.
Анкеты бывают разные. Прежде всего их можно разделить на массовые и аристократические.
Массовая анкета – касается ли она квартирного вопроса рабочих или половой жизни студенчества – поучительна своим суммарным выводом, и тем поучительнее, чем больше приближается к повальному опросу, к референдуму. Такая «анкета» может превратиться иногда в массовое политическое доказательство – скажем, по поводу кровавого навета.
Аристократическая анкета имеет дело с избранными: она не подсчитывает мнений оптом, а взвешивает каждое в отдельности. И такая анкета иногда имеет смысл, если… если она его имеет. Например, мнение наиболее выдающихся начальников охранных отделений по поводу пределов допустимого сотрудничества гг. «сотрудников» могло бы бросить сноп яркого света на вопрос. Отзыв тех же лиц о категорическом императиве Канта и о степени его практической применимости имел бы, по нашему мнению, значительно меньшую ценность. Взгляд руководящих политиков кадетской партии насчет допустимости выставления кандидатов «от Тагиева»[264]264
Речь идет об известном московском адвокате, – члене II, III и IV Государственных Дум от кадетской партии – Василии Алексеевиче Маклакове (род. в 1870 г.), выступавшем в 1912 г. защитником известного бакинского миллионера Тагиева по делу об истязании им своей жены (см. пр. 223).
[Закрыть] при выборах в IV Думу несомненно представил бы значительный моральный и политический интерес. Но мнение тех же политических деятелей о Художественном театре или об искусстве г-жи Дункан[265]265
Айседора Дункан – знаменитая танцовщица, реформатор современного хореографического искусства, пытавшаяся дать в своих танцах, освобожденных от классических балетных форм, пластическое воплощение музыкального содержания.
Выступила в России впервые в 1905 г. В 1921 г. организовала в Москве хореографическую школу для детей рабочих, существующую до сих пор.
[Закрыть] являлось бы уже гораздо менее значительным, хотя оно могло бы оказаться весьма не лишенным занимательности.
В 1910 г., т.-е. в самое проклятое, следовательно, наиболее подходящее для анкет время, московским книгоиздательством «Заря» была выпущена в свет целая книга-анкета «Куда мы идем?» – «Настоящее и будущее русской интеллигенции, литературы, театра и искусств…». О настоящем и будущем дали свои суждения весьма почтенные в своих сферах люди, как Ф. Батюшков[266]266
Батюшков, Федор Дмитриевич (род. в 1857 г.) – филолог, читал лекции по истории романских литератур в Петербургском Университете, был редактором журнала «Мир Божий». Его главный труд «Сказание о споре души с телом в средневековой литературе».
[Закрыть], П. Боборыкин, А. Белый[267]267
Андрей Белый – псевдоним Бориса Николаевича Бугаева (род. в 1880 г.) – крупнейший представитель русского символизма, его идеолог, автор многочисленных стихотворений и «симфоний» в прозе. Ему принадлежат также романы «Серебряный голубь» (из жизни хлыстов-мистиков), «Петербург» и другие.
О Белом см. Л. Троцкий «Литература и революция».
[Закрыть], С. Венгеров[268]268
Венгеров, Семен Афанасьевич (род. в 1855 г.) – литературный критик и историк. Выпустил ряд трудов по истории русской литературы. Под его редакцией изданы собрания сочинений Шиллера, Шекспира, Байрона, Пушкина, Белинского.
[Закрыть], А. Волынский, О. Гзовская[269]269
О. Гзовская – артистка Московского Художественного Театра.
[Закрыть], А. Кизеветтер[270]270
Кизеветтер, Александр Александрович – историк и публицист, член редакции «Русской мысли», сотрудник «Русских Ведомостей», депутат II Государственной Думы от кадетской партии.
[Закрыть], М. Ковалевский[271]271
Ковалевский, Максим Максимович – известный историк и социолог (род. в 1851 г.). Его первые работы, написанные за границей, касаются истории французских и английских учреждений. Одновременно им был издан ряд работ по вопросам первобытной культуры, социологии и этнографии. С 1877 по 1887 г. Ковалевский читал в Московском Университете курс государственного права иностранных держав и истории учреждений. В 1887 г. Ковалевский, имевший репутацию опасного радикала, должен был оставить кафедру и уехал снова за границу. Здесь были написаны его главные труды «Происхождение современной демократии» и «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства». В 1901 г. Ковалевский основал в Париже Высшую Русскую школу общественных наук, где преподавание велось опальными в то время русскими профессорами: Кареевым, Мечниковым, Милюковым и политическими эмигрантами – Плехановым, Черновым, Кочаровским. Читал там лекции и Владимир Ильич Ленин.
Вернувшись в Россию в 1905 г., Ковалевский основал партию демократических реформ, имевшую очень мало сторонников. В 1906 г. Ковалевский прошел в Государственную Думу от академической курии, а в 1907 г. в Государственный Совет, где он был лидером небольшой группы левых. С 1909 г. был одним из редакторов «Вестника Европы». В 1906 г. им был выпущен большой труд по истории политических учений «От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму».
[Закрыть], П. Малянтович[272]272
Малянтович, П. Н. – московский адвокат, социал-демократ меньшевик, впоследствии – член Временного Правительства последнего состава, автор сборника статей «Революция и правосудие».
[Закрыть] и многие другие. Однако вряд ли где сыщется другая столь же нелепая и, главное, бесплодная книга, как эта.
А. Волынский писал единым духом о хрупких богопостройках и о социализации земли. Ан. Каменский писал о младотурках. Неизбежный Изгоев преодолевал мимоходом утопизм. Проф. М. Ковалевский признавался, что ему непонятны ни эпидемия порнографии, ни проповедь гедонизма[273]273
Гедонизм – система морали, по которой главной жизненной целью является наслаждение (от греческого слова hedone – наслаждение). Философская школа гедонизма была основана в Греции около 380 г. до нашей эры философом Аристинном.
[Закрыть]. Специалист по спасению общин, Кочаровский[274]274
Качаровский – экономист-народник, специалист по крестьянскому хозяйству. В 1890 г., еще до окончания гимназии, был арестован за участие в революционном кружке. В 1892 г. был сослан сначала в Омск, а затем в Верный. Выпустил книгу «Русская Община», встретившую резкую отповедь со стороны Ленина. В 1906 г. Качаровский выпустил новую книгу «Народное право», в которой пытался систематизировать «неписанные нормы» крестьянского общинного права.
[Закрыть] уверял, что «из полноты цветов должен расцвесть многоцветный… синтез» (буквально!). П. Малянтович – превосходный адвокат – судил и осуждал новейшую русскую литературу. П. Боборыкин неодобрительно отзывался о большевиках и меньшевиках в критике. М. Сарьян[275]275
Сарьян, Мортирос Сергеевич (род. в 1880 г.) – художник-импрессионист, выставлялся на выставках «Союза», «Мира Искусства» и «Голубой Розы». В 1925 г. его картины были выставлены в Москве на выставке «Четырех Искусств».
[Закрыть] осторожно докладывал, что «правильный взгляд на искусство настоящего времени может установиться в будущем». Почтенный Н. Морозов на вопрос: «Каково ближайшее будущее русской литературы?» метко отвечал: «Оно покрыто мраком неизвестности». Только один Ремизов[276]276
Ремизов, Алексей Михайлович (род. в 1877 г.) – современный писатель-модернист. Его первый рассказ был напечатан в газете «Курьер» в 1902 г. Сочинения в 7 томах изданы «Шиповником» в 1910 – 1911 г.г.
[Закрыть] вполне откровенно признавался: «Не умею я рассуждать».
Такого рода анкеты являются своего рода «кривым зеркалом» общественного сознания. У кого есть что и есть потребность сказать, тот ведь скажет и без анкеты. Газетная анкета есть способ заставить заговорить тех, кому сказать нечего и которые благополучно молчали бы, если б их не заставили говорить. Оттого в анкетах люди сплошь да рядом гораздо ниже своего натурального роста.
Сологуб, у которого смерть и самоубийство проходят через все его писания, исторгают у его лирики самые сильные ноты, казалось бы, уже давно нашел ту форму, в которой он высказал все, что имел и хотел сказать о самоубийстве. Так нет. «Биржевые Ведомости» заставляют его специально теоретизировать на эту тему для их 12905 номера.
Когда-то Сологуб отказался – в ответ на просьбу критика Измайлова{151} – давать пояснения к самому себе. «Никакого личного комментария автора к своему произведению быть не может, – говорил он. – Единственный комментатор писателя – его читатель». «Не думайте, – прибавлял он, – что я уклоняюсь от комментария потому, что не хочу его дать. Может быть, я просто и не могу его дать». Почему? Да потому, что в произведениях своих «я старался найти лучшие слова, какие я только мог сказать. Если это вышло непонятно, то как же я могу это сказать яснее?»…
И это было очень правильно и очень хорошо сказано. Как жаль, однако, что для «Биржевых Ведомостей» Сологуб отклонился от доброго правила, которым прежде так настойчиво руководствовался. Свое анкетное письмо он начинает именно с того, что комментирует себя. «Если невнимательно прочесть мои произведения, – говорит он, – то может показаться, что я – сторонник самоубийств. Более серьезное отношение к прочитанному покажет, что я к самоубийству отношусь отрицательно».
В каком это смысле? Оказывается, вот в каком: «убивают себя слабейшие, менее приспособленные к жизни личности… Природа ненавидит слабость и естественным подбором (!) стремится создать жизнеспособный и стойкий организм. Поэтому нам нечего бояться самоубийств – они являются клапаном, дающим выход слабости. Самоубийцы отнюдь не выше окружающей среды: не сильная воля, не высшие запросы заставляют их бежать от жизни, а только их неумение приспособиться и создать что-либо самостоятельное»{152}.
Допустим на минуту, что все это так. Но ведь тогда окажется, пожалуй, что к самоубийству Сологуб относится как раз положительно, а не отрицательно, ибо, по собственным его словам, самоубийство служит целям природы, открывая выход слабому и давая дорогу сильному.
Но только это совсем неверно – во всех смыслах.
Неверно прежде всего, будто сильнейшее и лучшее выживает в борьбе за существование при всех условиях. В общем, на всем протяжении биологической истории это верно постольку, поскольку из амебы развился человек. Но в колымских, например, краях кокосовая пальма никак не привьется, а мох растет с большим успехом. Мох оказывается здесь более приспособленным. Значит ли это, однако, что пальма является более низкой организацией?
Но если упрощенный дарвинизм, против которого некогда с такой энергией боролся Михайловский, вообще – метод рискованный, то в социальной области он ведет прямо уж к абсурдным выводам.
Видеть в самоубийствах орудие природы, ее «предохранительный клапан» – значит не только оправдывать самоубийство, но и клеветать на природу. Там, где «природа» – т.-е. естественно-исторические законы в их противопоставлении социально-историческому развитию человека – действуют непосредственно, в мире растений и животных, там самоубийства вообще нет. Природа не нуждается в этом клапане, она достигает другими путями своих целей.
Самоубийство – явление не биологического, а социального порядка. И здесь оно, конечно, не случайно и не «бесцельно», а служит некоторым объективным целям; но это не цели природы, а цели общественности – в том виде, в каком мы находим ее перед нами. Если самоубийство и впрямь «предохранительный клапан», то не природы, а порядка или беспорядка общественности, т.-е. человеческих отношений, как они складывались до сих пор.
Сологуб не скажет ведь, что самоубийства безработных, как единственное нередко средство избежать голодной смерти или погружение на дно нищенства и преступности, очищают землю от одних только ненужных и слабых. Если верно, что в ряды безработных попадают часто наименее нужные капиталу, наиболее слабые работники, то столь же верно, что не только они, а также наиболее непокорные, мужественные, решительные, те, что не умеют мириться с унижением – ни своим, ни чужим. Таких безработных было немало за последние годы, и немалая доля их попала в списки самоубийц.
Вряд ли также Сологуб думает, что самоубийцы в тюрьмах и ссылке, самоубийцы нередко в борьбе за свое достоинство и достоинство других так-таки сплошь худшие или слабейшие дети своей страны. Еще можно, пожалуй, признать, что тюремные самоубийцы слабее тех, что умеют сохранить себя среди ужасов тюрьмы, – но слабее ли эти самоубийцы по сравнению со всем остальным населением страны? Тюрьма, правда, дело исключительное. Но ведь именно в своей внешней исключительности тюремные самоубийства лучше всего свидетельствуют, что дело тут вовсе не в абсолютной, природной слабости и непригодности, а в остроте и безвыходности конфликта между личностью и внешними условиями. А этих условий личность для себя не выбирает и по произволу своему не создает.
Сологубом явно руководило намерение: не «поощрять» самоубийц, а, наоборот, укорить их, ударить по самолюбию кандидатов в самоубийцы и тем удержать их от рокового шага. Цель похвальная. Но против социально-обусловленных, массовых явлений, постоянных или временных, как алкоголизм или как эпидемия самоубийств, голая проповедь вообще бессильна. Вон патриотические французы как стараются подтолкнуть своих женщин на поприще усиленного деторождения; убеждают их, пугают загробными осложнениями, тычут им в лицо оскорбленного гения нации, но из всего этого ровнехонько ничего не выходит. Мало подвинул дело и Золя своим проповедническим романом «Fecondite» («Плодородие»). Тут свои большие социальные причины, их нужно понять и на них воздействовать. А в обход их пойти – никуда не придешь.
Не желая «оправдывать» самоубийства, – как будто в этом вопрос! – Сологуб клеймит самоубийц как низшую, не заслуживающую внимания расу. Он не замечает, что этим самым он без всякого основания оправдывает нечто третье, в самоубийствах повинное.
Вот Леонид Андреев в тех же «Биржевых Ведомостях» разбил самоубийц на два стана: с одной стороны – от неразумия и безволия, с другой – от разума и воли. Увы! Эта симметрическая классификация продиктована гораздо больше склонностью Андреева к словесно-полярным антитезам, чем серьезным размышлением. Самоубийства так же редки в царстве политического неразумия и безволия, где еще неограниченно господствует наследственный разум и нерасчлененная воля – общины, сословия, церкви, как и на тех высотах, где напряженная воля служит ясно сознающему разуму. Но где индивидуальная воля и личный разум только-только отодрались от быта и вступили с ним в конфликт; где после первой драматической стычки «быт» оказался господином положения, а неокрепшая мысль, не находя выхода, стала метаться, как подстреленная птица, – там самоубийства естественно должны принимать эпидемический характер. Этих людей, оторвавшихся от старого уклада, который держал их некогда в сотах своих, и не доработавшихся до субъективной идеи, которая служила бы им крепким духовным хребтом, Зинаида Гиппиус[277]277
Гиппиус-Мережковская, Зинаида Николаевна (псевдоним Антон Крайний) – принадлежала к группе первых декадентов, выступивших в 90-х годах против предшествовавшей им школы реалистов-общественников с проповедью символизма и мистического мироощущения. Ею выпущено несколько томов рассказов и стихотворений, роман «Чортова кукла» и драма «Маков цвет» совместно с Мережковским и Философовым. Является одним из самых ярых врагов Советской власти.
[Закрыть] назвала – по роману Уэльса[278]278
Уэльс, Герберт Джордж (род. в 1866 г.) – современный английский писатель, автор фантастических рассказов и научных и социальных утопий: «Машина времени», «Первые люди на луне», «Борьба миров» и др. В 1916 г. выпустил большой пацифистский роман «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна». В 1919 г. приехал в Россию и имел беседу с В. И. Лениным. Впечатления от этой поездки описаны им в небольшой брошюре «Россия во мгле». Политическую характеристику Уэльса читатель найдет у Л. Д. Троцкого в его книге «О Ленине».
[Закрыть] – «лунными муравьями», беспомощными, неспособными на усилие, – ни на натиск, ни на отпор: «ножки неловко одна за другую скрутятся – повалится, дух вон». Слабы они, что и говорить, но эта слабость в них не личная, не структурой их мышц или нервных тканей, а эпохой обусловленная. И жестокая уверенность Сологуба, будто для очищения расы необходимо от них избавиться, совсем ни на чем не основана. Другая эпоха может их выпрямить, в героическое время они могут и чувствовать и действовать героически.
Художник-Сологуб, к счастью, совсем иными глазами глядит на жизнь, чем Сологуб-комментатор.
Бесспорно, слаб душою его самоубийца Игумнов («Улыбка»), слаб он мальчиком – слабее того уличного плутишки, который взял у него поносить новенькие рукавички, да и не вернул. Плутишка развернулся в плута и вышел в люди, а Игумнов со своей больной улыбкой неудачника в свое время утопился в Неве. Но ведь, может быть, у этого слабого Игумнова – при иных условиях – раскрылись бы драгоценные душевные черты, которых нет и в помине у того «сильного» малого, что стащил у него рукавички. Во всяком случае, это не исключено. И художник вовсе не ставит своей ставки на «сильных»: всей душою Сологуб с Игумновым.
Слаб и другой его самоубийца, студент Иконников («Опечаленная невеста»): он и руки наложил на себя потому, что взялся за «великий подвиг и не мог его совершить». Но ведь слаб-то он был только по отношению ко взятому на себя подвигу: – выбрал себе тяготу невмоготу, – а никак не по сравнению с теми безыменными, которые подвигов на себя никаких не берут и потому благополучно совершенствуют расу.
Нет, с выживанием «лучших» в общественной среде дело вовсе не обстоит так просто.
Когда пароход претерпевает катастрофу, то спасаются – как мы твердо знаем из недавнего опыта – не сильнейшие и не доблестнейшие: спасаются прежде всего пассажиры первого класса. Выживает, как более приспособленный, директор кампании, гнавший ради барышей судно на смерть; гибнут на своих постах герой-телеграфист и матросы, гибнут, без различия качеств, пассажиры трюма.
То же и с общественными катастрофами: лучше всего вооружены господа пассажиры первого класса, они не знают голодного отчаяния и голодного самоубийства; но значит ли это, что выживающие пассажиры комфортабельных кают сами по себе непременно более ценны, чем самоубийцы общественного трюма? Кто посмеет это вслух утверждать?








