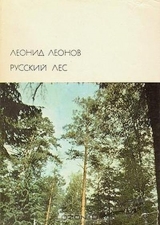
Текст книги "Русский лес (др. изд.)"
Автор книги: Леонид Леонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Раскидывая платья и белье, Поля достала со дна чемодана рисунки, сделанные на картонках канцелярских папок и меловых обложках старых журналов.
– Только чур, не смейся... ладно? – и со страхом ждала приговора.
– Ну что ж, это совсем неплохо... из тебя, пожалуй, выйдет толк. – Уже Поля протягивала ей второй и третий, а Варя все держала первый, оказавшийся сверху. – И знаешь... подари-ка мне вот этот, ладно?
– О Варька, я сделаю тебе гораздо лучше! – обрадовалась Поля успеху своего первого испытанья.
– Нет, мне хочется именно этот, – и неожиданная для нее краска смущения выступила в Варином лице. – Он очень похож тут. Как живой, если бы не эти закрытые глаза. Это Коля Бобрынин?
– Нет, что ты! – ужаснулась Поля. – Это же Антиной.
– А-а... – облегченно вырвалось у Вари. – То-то меня поразило, что у него зрачков нет, как у мертвеца. Но все равно, я отбираю это у тебя на память... о первых шагах архитектурной знаменитости.
Не дожидаясь авторского согласия, она сунула рисунок в ящик стола и, чувствуя на себе вопросительный взгляд подруги, самым невозмутимым тоном спросила что-то о Родионе. Маневр удался на славу, и Поля по детски забыла про этот незначительный эпизод. О, Родион... если бы Варя знала, как он вырос за последний год! Лошкаревские педагоги просто избегали спрашивать у него уроки, потому что он отвечал с обстоятельностью, которой они не в состоянии были проверить, и сам задавал вопросы, заставлявшие их терять душевное равновесие. Между прочим, он наполовину решил одно головоломное уравнение, над которым бились самые головастые математики прошлого века, да так и не добились ничего. Кстати, за два дня до ее отъезда Родион уехал в Казань для поступления на физико-математический факультет.
– И ты, пожалуйста, не щурься, Варька, но представь себе, этот долговязый мальчуган вздумал утверждать передо мною...
– Ладно, ты мне доскажешь потом историю вашей ссоры, – прервала Варя, поднимаясь. – Какая у тебя программа на сегодня? Может быть, съездишь со мной на биологическую станцию?
– Мне надо сделать кое-какие покупки, – уклонилась Поля.
– Отлично. Тогда обедать будем вместе, в шесть. Будь добра, не опаздывай и не заблудись. Во всяком случае, я подожду тебя с обедом.
Разговор закончился вовремя: электрический чайник уже закипел на столе, а через край ванны тоненькой струйкой начинала переливаться вода.
3
Поля еще в дороге составила расписание действий, куда входило посещение театров, художественных галерей, архитектурных памятников и, в первую очередь, Мавзолея Ленина, этой заглавной страницы в большой книге, куда предстояло и ей вписать собственное имя. Но список был рассчитан на длительный срок до начала занятий, и, перед тем как приступить к генеральному обходу столицы, ей хотелось привести в исполнение некоторые свои ребячьи причуды, за последние полгода сложившиеся в неодолимую потребность.
У Родиона на чердаке, где из голубятни открывался богатейший вид на Енгу и где втайне от всего мира читал он Поле свои стихи, среди пыльной рухляди и в кипе дореволюционных еженедельников она наткнулась на часто повторявшееся объявление одного профессионального астролога. Будучи в близких отношениях с потусторонними сферами, он за рубль девяносто пять копеек почтовыми марками предсказывал будущее, произвольно умножал доход клиентов, отращивал на плешивых незаурядные волосы, бесследно изгонял страдания, бессонницу, вредных насекомых, детские пороки и совершал многое другое, что может придумать проголодавшийся плут с небогатой фантазией. Судя по напечатанному сбоку изображению сравнительно моложавой личности в чалме и с исходящими из чела молниями ясновидения, ему теперь было бы не свыше шестидесяти, и если только за годы революции не оказался замешанным в менее благовидные предприятия, он вполне мог бы сохраниться и до нынешнего дня. Поля сберегла пожелтевший адресок с намерением утолить при случае свое законное любопытство безгрешно-чистого существа к биологии и быту вчерашней жизни. Именно ввиду того, что уже не застала в своей стране отживших профессий – царей и банкиров, водовозов и свах, – а факир этот был единственным из обломков прошлого, доступным для обозрения, ей представлялась последняя возможность под выдуманным предлогом постучаться к нему в дверь и с тем же смешанным чувством почтения и страха, с каким разглядывала палеонтологические древности у Гвидоненки, заглянуть в тусклые, как бы непромытые спросонья очи таинственного старого мира.
Вторым того же рода предприятием был у Поли намечен визит к отцу. Она не была знакома с ним даже по фотографиям, а мать, видимо из нежелания ворошить прошлое, воздерживалась в присутствии дочери от оценок своего бывшего мужа. Однако, судя по редким и всегда недоброжелательным статьям в специальной печати, это был угрюмый, несговорчивый, устаревшего мировоззрения человек, далекий от понимания задач современного лесного хозяйства... и дай бог, чтобы описываемые там промахи да ошибки получались у него бессознательно! Надо думать, в сочетании с неуживчивыми чертами характера это и стало причиной распада семьи. Не желая вникать в обстоятельства той загадочной истории, Поля безоговорочно принимала сторону матери, фельдшерицы в межрайонной больничке, незаметной и всеми уважаемой труженицы. Кроме печатных отзывов, в основу заочных Полиных представлений об отце легло одно краткое, как промельк при свете молнии, воспоминание раннего детства.
Всякий раз, когда среди душной летней ночи слышала замирающий клик паровоза, в Полином воображении неизменно возникали пузырьки горьких лекарств, выпуклые очки с колючим блеском на массивной золотой оправе и за ними выцветший, безразличный взор человека, склонившегося над ее кроваткой; Поля болела корью перед самым бегством Елены Ивановны в Енгу. Ни у кого в Лошкареве не имелось таких дорогих очков, на самом деле принадлежавших врачу и ошибочно отнесенных к Вихрову, и примечательно, как самый металл их, условиями воспитания и ходом политических событий скомпрометированный в глазах комсомолки, определял дальнейшее развитие и не очень благородное содержание этого образа. Постепенно предубеждение против отца превращалось в жгучую потребность отомстить за мать, высказать в лицо ему честное комсомольское суждение о людях подобного сорта... Еще дома Поля не раз упоенно рисовала себе, как однажды сквозь анфиладу парадных, устланных коврами комнат, мимо горничных в раскрахмаленных наколках она войдет в полутьму профессорского святилища со старорежимной несдвигаемой мебелью, с плюшевыми гардинами, пропитанными развратным запахом сигар, с чернильным прибором под раскинутыми крыльями двуглавого бронзового орла... С порога и без поклона, не садясь, она поблагодарит пожилого обрюзглого господина, привставшего над письменным столом, за то, что тринадцать лет без судебных напоминаний высылал деньги на ее прокорм... И вот дочка пришла сказать, что выросла и стоит перед ним налицо, так что не было с маминой стороны какого-либо вымогательства, скажем, на мертвенькую, хотя и сам за тринадцать-то лет мог бы лично удостовериться в существовании своего ребенка!.. И теперь, свободный от дальнейших обременительных отцовских обязательств, может он хоть водку пить, хоть в бубны бить. И затем она исчезнет навсегда, оставив отца вычерчивать свои тоскливые диаграммы годовых приростов у осины. О, только бы по-девчоночьи не разреветься при этом!
Однако с приближением цели все Полино существо начинало противиться задуманной расправе; причиной была не трусость и не брезгливая боязнь испачкаться через мимолетное прикосновение к дурному, а что-то еще, чего не умела выразить словами, может быть – опасение наткнуться на какое-то непредвиденное разочарование. Так что после ванны, часом позже спускаясь по лестнице, Поля совсем уж никуда не торопилась – в подсознательном расчете, что при благоприятных обстоятельствах у нее и времени не останется на свидание с отцом. Еще длились тополевая поземка в Благовещенском тупичке и праздник над городом, когда она выходила на простор магистральной улицы. Поля дважды повернула налево, попала в поток перекрестного движения, и вдруг все приметные ориентиры оказались потерянными, и стало ясно, что заблудилась в огромной волшебной сказке, о чем столько лет мечтала у себя в Лошкареве.
... Нет ничего заманчивей на свете, чем прогулка по незнакомому городу в осьмнадцать лет – без присмотра старших, без боязни опоздать к уроку да еще с такими дополнительными радостями бытия, как пятьдесят рублей, выданных мамой на утоление самых необузданных желаний. Избранная Полей улица как раз изобиловала всякими соблазнами, и в одной из витрин полулежали в.завлекательной пестроте книжные новинки, причем от одного созерцания заголовков уже как бы повышался культурный уровень прохожих, а в другой – шестнадцать выдающихся мастеров с помощью научных достижений завивали шестнадцать столь же выдающихся красавиц, а в третьей матово светилась такая чудесная и любых размеров алюминиевая посуда, что невольно возникало раздумье, как обходился род человеческий до открытия этого великого материального благодеяния. И почему-то цветов на улице уже не было, распродали, зато на всех углах красовались теперь эмалевые тележки со стеклянными флаконами, и всякие ответственные работники вокруг задумчиво потягивали из бокалов цветные воды, сообразные их складу души и настроениям. Страшная сила повлекла, туда и Полю, потому что еще пылал летний день, но, пока искала в сумке подходящую монетку, две небесного цвета цистерны низким дождичком пробрызнули застойную, с бензиновым перегаром духоту, и таким образом Поле удалось сберечь мамины деньги для более существенных потрат.
Она мужественно пыталась миновать искушения, но они догнали, одолели – мороженое на лучинке, ранняя черешня, засахаренные орешки... и опять, из-за нового ее платья, что ли, ей везло на хороших людей. Так, например, стрелка весов в кондитерском магазине показала двести десять граммов, хотя в кассу было уплачено лишь за двести, и продавщица не пожелала вступать в пререканья по этому поводу. Когда же Поля зашла послать две совершенно необходимые и с одинаковым текстом телеграммы «Поздравляю тебя с началом жизни», одну по совершенно секретному адресу, в Казань, а другую самой себе, в Варин тупичок, для придания дополнительной праздничности этому необыкновенному дню, то сдачу ей выдали самыми новенькими, еще хрустящими бумажками. Снова не удавалось Поле справиться с уймой мелких распадающихся свертков, и меланхолический аптекарь, верно какой-нибудь несостоявшийся алхимик, сам предложил ей увязать покупки в один пакет... Итак, Поля шла, и жизнь ей представлялась чудесным эскалатором из сказки: стоило лишь вступить на начальную ступеньку, чтобы через положенное количество лет, не успеешь дух перевести, оказаться на самом верху. И действительно, в ее стране имелось все необходимое для счастья – и различные пальмы, и апатиты, и отзывчивые человеческие сердца; она шла, и люди навстречу ей попадались только веселые и нарядные, уж такая была эта улица, и теперь Поля сама улыбалась всем, даже подвыпившему точильщику с его деревянной машиной на плече; она шла, отдаваясь царившему вокруг всеобщему возбуждению, происходившему, наверно, от сознания громадного простора впереди и манящей новизны всего на свете, кроме лишь стареньких рыжиков или рваников, как ласкательно за верную службу называла свои разношенные туфельки. И едва вспомнила о них, тотчас в нише необыкновенного нарядного дома объявился могучий и черный, весь как бы из щеток составленный волшебник, возвращающий обуви молодость.
– Весь сияешь... Вижу, замуж идешь, красивый товарищ?
– О, еще... в тысячу раз лучше! – смеялась Поля, следя, как сквозь колдовское мельканье рук проступает зеркальный блеск на потрескавшейся рыжей коже.
Она уже не замечала времени, и вдруг ей показалось, что расшалилась не к добру. Правда, она подсчитала в уме, что три часа непрерывного блаженства обошлись ей всего по двадцать четыре копейки за минутку, но зато теперь следовало подсократиться в темпах, чтоб во всеоружии встретить какой-нибудь главный и притаившийся за уголком соблазн. Очень кстати станция метро оказалась рядом, и, перебегая с одной платформы на другую, Поля принялась кататься по всем доступным пока маршрутам, потому что и метро входило в список объектов, подлежащих осмотру и удивлению. Сверкающие поезда мчали ее во мрак тоннелей, и по пути, как во сне, то и дело вспыхивали голубые или нежно-розовые мраморные залы. Здесь могла бы Поля наблюдать, как осуществляется ее мысль об участии художника в оформлении общественных сооружений, но сейчас почему-то она не видела ничего перед собой, кроме массивного, как мясной прилавок, письменного стола с бездарной бронзовой чернильницей, – и по ту сторону ждал ее холодный, изготовившийся к поединку человек, судьбою назначенный ей в отцы. Поле все хотелось забраться от него куда-нибудь в противоположный конец города, подальше, но когда она на всякий случай назвала соседу адрес Лесохозяйственного института, на территории которого помещались вихровские апартаменты, оказалось, что ей надо сходить на ближайшей остановке. Пассажиры сразу расступились, давая ей проход к двери и к самой суровой правде... Это была конечная станция метро, эскалатора здесь не было. Людской поток вынес Полю наружу.
Только тут она заметила, какой – не то чтобы пасмурный, а душный и безвыходный стоял денек. Асфальтовый чад и пыль летней окраины охватили Полю. Город наступал здесь на изрытую, как после артиллерийской подготовки, равнину. Тракторные катки с урчаньем устилали дымящейся лавой ответвление шоссе, между пыльных картофельных полей, туда, где стройной чередой, сразу в дюжину корпусов, вылезали из почвы красноватые этажи. Один из чернорабочих этого индустриального наступления, отирая черную испарину с лица, показал Поле дорогу. До здания отцовского института, помещавшегося в загородном дворце старомосковского вельможи, было двадцать минут ходу по щебенчатой дороге, между опытных делянок и подсобных теплиц. Здесь у загорелого, как сама она, наклонившегося над грядкой практиканта Поля спросила, где проживают лесные профессора, и ей указали сразу два, через улицу, четырехэтажных каменных строения, с квартирами педагогического персонала. Чуть на отлете стоял третий, победнее, о двух этажах, деревянный, с угла на угол перевитый цветущим вьюнком, и с навесом над входной дверью; в палисаднике сушилось штопаное бельишко на веревке. Странное чутье подсказало Поле, что ей как раз сюда и надо. Она дважды прошлась мимо подтекавшей водоразборной колонки, где мальчишки самозабвенно месили ногами желтую отличного качества грязь. Обстановка несколько не совпадала с представлениями Поли о роскоши отцовского быта: враждебное чувство пока не меркло, но уже покрывалось трещинками ребячьих сомнений. Еще оставалось время повернуть назад... но вдруг из глубины за рощей, где проходила окружная дорога, донесся петушиный, призывающий крик маневрового паровоза.
Тогда, подчиняясь неодолимой силе своей реки, Поля пересекла улочку с нестерпимо зеленой травкой, пробивавшейся сквозь булыжник, поднялась во второй этаж и безошибочно, вопреки всякой логике, позвонила у самой невзрачной двери, без ожидаемой медной дощечки с научными титулами Вихрова и даже в клочьях войлока, набитого для утепления восемнадцать лет назад, когда родилась она, Поля.
Ей пришлось дополнительно постучать кулаком. Брякнул засов, и в полутемной прихожей с фонариком на потолке Поля увидела некрупную, моложавую, верней – вовсе без возраста, профессорскую работницу с неестественно низко посаженной головой, в темном, по-раскольничьи распущенном на плечи платке, как еще недавно повязывались все пожилые крестьянки на Енге. Это сбивчивое впечатление вскоре разъяснилось, и опять в сторону, противоречивую Полиным ожиданиям.
– Ой, какая же ты пригожая-то девонька... верно, с зачетом к Ивану-то Матвеичу? – приветливо догадалась горбатенькая, снимая мыльную пену с рук. – А профессор-то наш, непутевый, третьевось в тульские Засеки со студентами укатил... ишь грех-то какой! – Она приласкала взглядом незнакомую девушку, украдкой любуясь то ли свежестью ее, то ли робостью. – Что-то не припомню я тебя... видать, новенькая?
Так было даже лучше для Поли: прийти, утолить любознательность и уйти неузнанной; от первоначального плана не оставалось и следа.
– Я как раз новенькая... – кивнула Поля и улыбнулась через силу.
– То-то, я гляжу, руки-то дрожат. А ты не трясись, не зверь у нас Иван-то Матвеич. Эва, студенты-то души не чают в нем! Иные без дела, ровно в клуб, по субботам к нему забираются. – Она сообщала это с такой безыскусственной простонародной приветливостью, что нельзя, бессовестно было бы не верить каждому ее слову. – Сымай свою шляпочку, складай свои вещицы, у нас не украдут... Обещался вернуться засветло. Нет чего хуже, как я гляжу, в другой раз на экзамент собираться. Пойдем, девонька, я тебя на хорошенькое местечко усажу, обвыкнешь пока, – прибавила она, замыкая дверь на засов.
Она пустила Полю вперед и не позволила на кухню заглянуть: «Нечего тебе чужую стирку глядеть!» – а провела прямо в кабинет и усадила в протертое, заслуженное кресло; впрочем, кухня приходилась из двери в дверь, так что Поле поминутно слышны были то размеренный стук корыта о раковину, то плеск сливаемой воды. Стоило повернуть голову – и Поля, не подымаясь с места, могла ознакомиться с расположением и содержанием обеих комнат вихровской квартирки.
Трудней всего Поле было привыкнуть к мысли, что каждая пядь этого скрипучего, крашенного охрой пола была когда-то на коленях исползана ею, маленькой. Без сомнения, в былые годы детская у молодых Вихровых могла помещаться только в соседней, – гораздо меньшей, но самой веселой и солнечной из всех. Там в углу непонятно, подобно сметенному сору, лежали всякие разобранные механизмы, и виден был часовой токарный станочек на верстаке. Кроме того, накрытый тряпицей от пыли, висел мужской костюм на стене, железная кровать стояла под байковым одеялом, а из-под нее, сломясь в голенищах, выглядывали аккуратные, вроде и не отцовские сапоги, – как успела разглядеть Поля, вихровская койка помещалась за книжным шкафом в самом кабинете. Значит, завелся тут кто-то третий, и тогда у Поли впервые родилось ревнивое желание хоть глазком взглянуть на человека, занявшего ее место у отца.
– Не скушно тебе там одной-то, девонька? – время от времени спрашивала горбатенькая с кухни.
– Нет, ничего, в самый раз, – стараясь попадать в тон ей, отзывалась Поля.
Все рушилось у Поли: обстановка квартиры до такой степени противоречила придуманному заранее, что казалась почти нищей, хотя здесь имелось все необходимое для жизни и работы, только с явным подчинением первого второму. Не было здесь плюшевых гардин, да они и не обязательны для жилища, где хозяева, по лесному обычаю, встают и ложатся со светом; не только золота не виднелось нигде, но и старинных, с позолотой, фолиантов, живописно нарисованных враждебным воображением, книг-олимпийцев, свысока, сквозь зеркальные стекла наблюдающих бесполезную суету смертных. Лишь настоящему ученому нужны именно такие книги-труженики, с оборванными корешками и полосками исписанных вкладок: их можно марать заметками, совать в рюкзак перед экспедицией, даже употреблять для баррикадного боя, тем более что все не уместившееся на дощатых прогнувшихся полках громоздилось на подоконниках и даже подпирало потолок, увязанное в плотные, непробиваемые блоки. Как всегда, изощренная логика предубеждения неохотно отступала перед ясной логикой жизни...и тут Поле открылось, хоть и не сумела бы выразить это словами, что жизнь всегда умней и убедительней любых выдумок, какими люди из различных побуждений стремятся умножить красоту правды или усилить уродство зла.
По обиходу опрятной, двусветной комнаты, где сидела Поля, можно было сделать кое-какие выводы о характере ее хозяина. Наверное, то был жесткий к себе человек, не очень умелый в устроении собственного быта. Скупой на время, он не признавал никакой литературы, кроме той, какая помогала ему добиваться истины в его науках, но, судя по названиям книг в ближайшем шкафу, он отправлялся за нею в самые отдаленные области знания. Немало и сам он побродил по России, чему свидетельством были десятка два деревянных изделий, каких за любые деньги не купить в столице, – резная спинка северной прялки, маленькая поэма в дереве, вологодский туес с киноварным всадником на бересте, гроздь расписных тамбовских ложек цвета старого меда, по заказу долбленные чаши из березового и орехового капа, чьей-то слепотой оплаченный резной ларец, пара изысканных девичьих, лощеного лычка, лапотков с деревенской золушки и другие бесхитростные сокровища, мужицким гением добытые в русском лесу. Ничто не указывало на какую-нибудь личную прихоть Вихрова, кроме, пожалуй... И тут, легонько приподнявшись, Поля разглядела за стопкой рукописей вещь, отливавшую настоящим золотцем и единственную здесь, на какую польстился бы вор. То была дорогая, в размер открытки, чеканной бронзы рамочка для любимого существа, и Полю соблазнила возможность без труда разведать кое-что о нынешних привязанностях Вихрова.
– То-то гляжу, незнакомая... постарше-то я всех знаю, – снова и снова начинала из кухни горбатенькая, стуча корытом в стенку. – А ты жизни-то не трусь... ничего с тобой сверх того не приключится, что тебе отпущено. И экзаменты свои сдашь, и на работу укатишь, и деточек народишь, и станешь ровно яблочко печеное, вроде меня, и посмеешься былым горестям своим. Ты что же, лесоводство пришла сдавать али таксацию?
– Нет, я таксацию, – машинально повторила Поля неизвестное ей слово.
Чтобы скоротать время, горбатенькая спрашивала и еще что-то, а Поля отвечала наугад, не сводя глаз с золотого блеска на столе. Любой ее шорох вызвал бы подозрение на кухне... но, значит, река всегда сильней былинки. Поле удалось неслышно достигнуть отцовского стола. Рамка оказалась тяжелая, литой бронзы, и под стеклом находилась отличная, образец любительского мастерства, фотография молодой, неподдельно очаровательной женщины. В промокшем, облипнувшем сарафанишке, верно после летнего ливня, она сидела на гигантском пне, напоминавшем трон лесного владыки, причем откол служил ей высокой, готической спинкой, и безудержно смеялась с закинутой головой, как возможно это только при друзьях, после веселого приключения, и в самой ранней, беззаботной младости. Кто-то, лишний в этом документе и наискось отрезанный Вихровым, протягивал цветущую калиновую ветку, и рябое солнце пополам с брызгами дождя сеялось на голые ноги женщины с соскользнувшим грубым башмаком, на выдавшиеся вперед ключицы, потому что подпиралась руками при этом. Поля сперва узнала место, – только на Енге еще встречались подобные растительные исполины; потом с холодком восторга она признала мать. Документ относился ко времени до замужества Елены Ивановны, когда та звалась просто Леночкой. И оттого, что никогда Поля не видала матери в такой легкой, почти беспечной радости, ею овладело необоримое желание тайком вынуть фотографию из-под стекла и унести с собою.
Она и сделала бы это, если бы скрип половицы не заставил ее обернуться. С порога, нащурясь и по деревенски подпершись ладонью, на нее улыбалась горбатенькая.
– Поленька... что ж ты мне сразу-то не открылася, Поленька? – мягко, чтоб не спугнуть застигнутую врасплох, попрекнула она. – Аль ты меня не признала? Ведь я Таиска, сестра Ивана-то Матвеича... Таиска я, не помнишь? – еще поразборчивей назвалась она в надежде, что звук ее имени пробудит в Поле детскую признательность к первой няньке, но ничего, кроме растерянности и смущения, не отразилось в Полином лице, а та не посмела обнять племянницу влажными руками. – Да ты вглядись в меня, девонька!.. Чего там отыскала?
– Я тут маму свою нашла... – откликнулась Поля и поняла ошибку в определении возраста Таиски: лицо ее и впрямь походило на яблоко, только до срока сорванное, обвядшее, подсохшее на ветру, но что-то девичье, нерастраченное еще сохранилось в ее взгляде.
– Да и где меня запомнить, уж столько годов! – продолжала та, и морщинки заструились вокруг ее глубоко запавших глаз. – Ведь мы с тобой и не прощалися. Ивана-то как раз в командировку услали... тут тебя Леночка и увела с собою. Так в одну ночку все у нас и свернулося, как молочко... – Вдруг она засуетилась, всплеснула руками, стала на столе прибирать, чтоб чайком напоить гостью.
Как это в обычае у простых русских женщин, хотелось Таиске всплакнуть немножко и в обнимку до ночи просидеть, перебирая события невозвратных лет... Но после сделанных об отце открытий Поле было впору бежать отсюда без оглядки. Она старалась не думать, что означала находка на отцовском столе: и без того каждая лишняя проведенная здесь минута казалась ей изменой маме.
– Я сыта, и мне ничего не надо. Я ведь мимоходом забежала, в милицию прописываться шла... – твердила Поля без разбору, что в голову придет.
– Так ведь не разоришь ты нас, Поленька, мы богато живем. А к отцу-то можно и непрописанной... Ишь кто-то по лестнице подымается, не Иван ли: вот и пообедаете рядком. Давай, говорю, шляпку-то, я ее на гвоздь! – и, как когда-то, ногой притопнула на непоклонную, но Поля не отозвалась на шутку, и та отступила, померкнув. – Где ж ты, доченька... аль у чужих людей где приткнулась?
– Нет, я у своей подруги старинной остановилась... – и опустила голову, защищаясь от ее глаз.
Тогда Таиска приняла рамочку из ее рук и бережно вернула на место.
– А можно бы и у отца... Эка квартирища, хоть табуны в ей гоняй, а жильцов трое всего! По утрам, как в лесу, перекликаемся...
– У меня все есть, мне ничего не надо, – упорно повторила Поля. – Так что вы не сердитесь на меня, Таисия... Таиса...
Она сбилась и замолкла.
– Матвеевной меня зовут, – с холодком подсказала горбатенькая. – Отца-то твоего, вишь, Иваном Матвеичем, а я старшенькой ему сестрицей довожусь. И правда твоя, чего у нас хорошего. Живем в отдалении... в театр ежели, так трамваем на полтора целковых ехать надо. Да и то сказать, старики нонче скушные пошли, мору на них нет...
Она по-старушечьи, насухо, вытерла губы тыльной частью руки, отошла от двери в сторонку, как бы выпуская пташку на вольную волю... но подняла глаза на милую Поленьку и простила ей черствую неблагодарность, такую понятную и по молодости и по давности истекших лет.
– Коли не желаешь отцовских-то харчей отведать, девонька, дозволь уж, какая есть, вкруг тебя посидеть.
И чтобы вторично не обидеть ясную и кроткую преданность Таиски, Поля примирилась с необходимостью подарить целый час престарелой тетке, для которой она была вдобавок и весточкой с родины. Горбатенькая сама была с Енги, повыше Лошкарева, из Красновершья, живала в людях в Шихановом Яму и у брата в Пашутинском лесничестве, так что Поле пришлось описывать все известные ей по району изменения за минувшее время. Она покорно села у окна, выходившего на учебную рощу института; молодые сосенки выстроились там по линейке, такие непохожие на своих вольных енежских сестер, точно присмиревшие из опаски, чтоб не уволили их за нерадивость.
Как ни спешила Поля, разговор затянулся. На каждую мелочь Таиска отзывалась ответным воспоминанием и, не сдержавшись, обронила наконец три скупые слезинки о том, что хоть и грустное, а не воротишь. Слушать ее было интересно и немножко жутко, потому что каждое мгновенье Таиска в душевной простоте могла обмолвиться о чем-то самом главном, приоткрыть семейную тайну Вихровых, чему ревниво и целомудренно противилось все Полино существо.
Чтобы отвлечь в сторону нежелательный разговор, Поля высказала вслух догадку, что раньше, тогда, этих сосенок в окошке не было. Оказалось, дендрарий был заложен при самом основании института, но действительно четыре гектара на правом крыле, уничтоженные на дрова в годы гражданской войны и разрухи, Иван Матвеич подсаживал самолично вскоре после перевода в Москву.
– И в ту пору они стояли там... твоего росточку были, Поленька. Как водила я тебя туда гулять, ты с ними за ручку здоровалася, ёжичками звала. Разве упомнишь: годков-то!..
Нет, Поля еще помнила их, – только не глазами, а, пожалуй, поверхностью исколотых пальцев. И оттого, что Таиска принялась описывать, сколько Иван Матвеич жизни вложил в эту крохотную рощицу, она спросила у тетки в упор о том, что так мучило ее все время пребыванья тут: за что же, если он такой, бранят ее отца?
– А как же, как же не бранить-то его?! – горько посмеялась горбатенькая. – За то и бранят, что лес бережет.
– От кого же он его бережет... от народа? – враз насторожилась Поля, и в голосе как бы струнка прозвенела, естественный отголосок постоянного стыда перед теми счастливцами, чьих отцов не бранят никогда.
– Не от народа, а от топора, Поленька. У топора глаз нету, – тотчас отвечала Таиска. – Железный он, на рукоятку надетый.
– Интересно, как же ему стеречь его приходится, лес... С ружьем, что ли, вокруг ходит?
– Разве обойдешь его весь-то! Вот он и пишет книжки про то, что все меньше остается лесу у нас. Сама же сказала, что уж за Пустошa принялися... Да ведь кабы он еще тайком зудил, отец, а то ведь все книжки у него проверенные и от начальства дозволенные...
– Постойте-ка... – перебила Поля, неподкупно отстраняясь от протянутой к ней руки. – Я только спросить хочу, кто же, ведь народ хозяин лесу-то? И потом: известно ли Ивану Матвеичу, какая стройка идет в стране... и зачем его рубят, этот самый лес?
Тонкими, некрестьянскими пальцами Таиска раздергивала на волокна какой-то подвернувшийся ей лоскуток.
– Видишь, Поленька... ведь он лесник, отец твой. Дело его такое, раз он к лесу приставлен. Скажем, заболела ты... и нежелательно, скажем, Леночке тебя в постельке видеть. Вот и сбрехнет иной доктор-то в угоду матери, что ты здоровенькая. Ему-то что, ты ему чужая!.. Так ведь за такую неправду взашей гнать его надоть али даже в казенный дом сажать о сорока решетчатых окошечках... не так ли? Вот и он обманывать народа своего не желает...
Иначе объяснить она не умела, да и у самого Вихрова ответ на Полин вопрос занял бы слишком много времени, каким, к несчастью, не располагала ни Поля, ни, судя по всему, ее страна. Таиска потерянно улыбалась, как повинную опустив голову. Она переставала узнавать свою Поленьку в этом гневном, вдруг таком непримиримом существе, хотя, с другой стороны, и самой Поле показались поспешными черные обвинения, брошенные на Вихрова.








