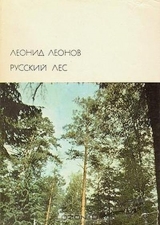
Текст книги "Русский лес (др. изд.)"
Автор книги: Леонид Леонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
– Ты чем-то опять расстроена, сестренка?.. опять?
– Да... но теперь это совсем другое... – И прятала глаза и руки от Вари, чтобы та не разгадала, какая у ней ничтожная и неумелая душа.
3
Близился прием в вузы, но, вместо того чтобы заняться срисовыванием гипсов или повторить к экзамену курс десятого класса, Поля целые дни тратила на прогулки по набережным, стараясь подобрать слова для того предположительного расчета со старым миром – не про запас, а просто из самолюбия: не идти же в райком комсомола, чтоб ей отстукали там на машинке приличную предсмертную речь. Дар слова немедля покидал Полю после первой же школьной фразы о значении пролетарской революции для всемирного счастья трудящихся... и потом она в отчаянии озиралась в лабиринте придаточных предложений, словно гвоздями, утыканных знаками препинания. Что-то мешало ей подняться в помянутую Родионом, трудную даже для выговора огневетровысь, означавшую в переводе на Полин язык человеческую чистоту. Выбившись из сил, она взглянула на ноги себе – ее держал свинец все той же неразгаданной отцовской тайны.
На ученических собраниях бывало, Поле в особенности удавались выступления о пользе критики в деле общественного воспитания. Впервые она задумалась о возможных мотивах и способах применения этого средства и сразу запуталась среди детских вопросов: так почему все же печатались ужасные вихровские книги, вносившие смуту в умы юного поколения, по утверждению Грацианского; почему сведущие в лесных делах современники не помогли ему окончательно добить противника или, напротив, немедленно умолкали, едва посмев выступить на защиту Вихрова; почему, наконец, сам Вихров, если хоть чуточку дорожил своей советской честью, не ударил разка два-три-четыре по морде своего клеветника за его оскорбительные, высокомерные намеки... пускай бы даже в обход обязательных милицейских постановлений!.. Поля догадывалась, что в основе этого неразрешимого узла лежит нечто темное, обычно скрываемое от маленьких. В поисках правды и, следовательно, своей чистоты Поле оставалось обойти живых свидетелей прошлого, всех – кроме Грацианского, о повторном свидании с которым помышляла теперь почти с содроганьем... Однако Наталья Сергеевна всякий раз торопилась куда-то, а при встречах была такая неприступно-ласковая, словно провидела всю тысячу скопившихся у Поли бестактных недоумений. Тогда-то в развитие возникшей надежды Поля и решилась еще раз сходить к Таиске и в задушевной, наедине, беседе выпытать хоть крупицу запретного знания... даже если бы оно повредило маминой репутации. Ввиду отсутствия телефона на квартире у отца она принялась звонить к нему на службу в институт, пока ценой тоскливых уловок не выяснила, что профессор выбыл из Москвы в какой-то уральский заповедник.
... Нет, притворяться так не смогла бы никакая русская женщина. Таиска не всхлипнула, увидав племянницу на пороге, не кинулась целовать, чего всю дорогу опасалась Поля, а только расцвела, задрожала вся и повлекла с собой куда-то, лишь бы не выпустить ее из рук на вторую вечность.
– Вот, мы с тобой на кухоньку, там попроще, – бормотала Таиска, заражая Полю своим волнением. – Сережа нонче обещался с запозданием вернуться, а тревога взревет – так и вовсе в депо ночевать останется... никто и не помешает нам. У меня чисто на кухоньке, вдоволь наглядимся друг на дружку.
Она втиснула гостью в угол между фанерным шкафиком и столом с проношенной до ткани, но нигде не порезанной клеенкой, и принялась было колоть тоненькое поленце на лучину, чтоб развести огонь в подтопке, а Поле почему-то ужасно как понравилось, что вот, лесной профессор, а сидит без дров! – но потом занозила ладонь, сбилась и, решась на расточительство, поставила чайник на электрическую плитку.
– Опять обомрет отец-то, как узнает, кто тут без него побывал... Уж ты извини его за отъезд, Поленька, должность его такая, лесниковская.
– Ничего, еще успеется... – отмахнулась Поля, лишь бы избегнуть бесполезных и утомительных объяснений. – Да зачем же для меня электричество-то жечь?
– Я его неполный налила, чайник-то, всего на три стаканчика. Да и то сказать, не полуношники мы. О прошлый-то месяц на семь целковых не дожгли. Медку покушай, башкирского... ученик Ивану моему кадушечку прислал. – И вот уж невозможно стало отказываться от теткина угощения. – Ну, про тебя я не спрашиваю, раз здоровехонька сидишь. Что Леночка-то пишет?
– Я только одно письмо от нее и застала по возвращении, старое... Почти наизусть его выучила. Пишет, простудилась немножко, но потом выздоровела.
– Побранить бы ее, чтоб не сидела на сквозняках... нечего форсить в наши-то годы! – Таиска постаралась представить, что сейчас творится на Енге, занятой немцами, померкла и, своеобычно оправив платок на голове, искоса взглянула на Полю: – Далеко ездила-то, махонька?.. за продуктами али просто так, в путешествие?
– Нет, мы окопы ездили рыть. Нас там много было, московских девчонок, несколько тысяч!
– То-то, гляжу, обгорелая ты, ровно пеночка с топленого молочка стала. Это очень неплохо, в святом деле хоть малую частичку на себя принять, – кивала Таиска, сокрушаясь на мозоли в Полиных ладонях. – Спасибо тебе за труд твой, защитница ты наша.
– Какие мои труды! – вспыхнула Поля. – Вот я сижу с вами, и мед передо мной... а знаете, как сейчас нашей сестре достается... Иная, может, раненого из боя тащит, а другая, того хуже, вся растерзанная на допросе перед фашистом стоит... И чужие кругом, и в окошко не выпрыгнешь!
Ей и стыдно было за незаслуженную похвалу и немножко приятно, что кого-то, кроме мамы, могут радовать ее первые шаги в жизни. Захотелось поделиться с Таиской впечатлениями – и как пахнет на глубине гнилая, синяя глина, и как один изменник заставил их рыть эскарп валом в обратную сторону, так что немецкие танки легко брали бы ров с разгону, и как потом при общем гадливом молчании уводили его, закрывшего лицо руками, а Полю назначили участковым бригадиром на прорыв, – не для смеху, а чтоб росла на практической работе, так что впоследствии она сама подсчитывала кубометры и подавала команду воздух при налетах все того же воздушного негодяя. Однако ничто не заслуживало внимания по сравнению с историей старого Парамоныча.
Он пришел однажды посмотреть на работу московских девчат и представился им бессменным, от начала колхозной жизни, начальником свинофермы, видневшейся как раз по ту сторону прудишка, за потоптанной рожью; ходил еще без палки, славянской породы образец, гвардейского роста и с такой чисто выставочной бородой, какою нынче только в опере и полюбуешься. С тех пор он довольно часто навещал девушек – отвести душу с молодыми, да и тем работалось спорей от его ласкательного присловья: «А ну, подналягте, любезные и усердные мои внучки, подмогните солдатикам... то-то расцалуют, как из сражения возвратятся». – «Самокритику забыл... ты б уж лучше побранил нас, дед», – хором отвечали девушки. «А нельзя, – степенно возражал тот, разводя выпрямленной ладонью. – Хорошего-то коня кнутом только спортишь: он тебя бояться зачнет. Русского понимать надоть, его похваливать надоть под руку, он тогда вдвое себя обнаруживает...» Впрочем, как ни бодрился, а заметно тосковал по своему разоренному хозяйству, от коего на его попечении оставался только боров, особой грамотою отмеченный на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и якобы по соображениям хрупкости уже непригодный к перевозкам с места на место. Когда фашистский летчик удачным попаданием лишил борова жизни, Парамоныч предоставил его целиком на довольствие москвичек... К слову, налетчик имел обыкновение внезапно выскакивать из-за пригорка, причем всегда шел вдоль траншей и так низко, что верилось, при желании можно было достать его лопатой.
Разумеется, небезопасно бывало прятаться от него и в пруду, так что Полю однажды залило с головой от взрывного шквала, пронесшегося по воде, но почему-то все живое, заранее оповещенное воем мотора, стремилось туда, за исключением одного Парамоныча: то ли боялся намочить свою знаменитую бороду, то ли негоже ему было, с его-то медалями и Георгиями на рубахе, склоняться перед немецким щенком. «Молодой, видать, козелок... ишь попрыгивает, ишь озорует, а не надоть бы... ох, не надоть бы. У самого небось сестренки на выданье... то-то хлебнут бедухи за братние-то непригожие дела», – приговаривал Парамоныч и грозился перстом вслед желтобрюхому, пока не стегануло однажды старика свинцовым дождичком от виска до паха.
Таиска выслушала рассказ с печальной и светлой улыбкой.
– Ведь наши, они – гордые перед врагом-то. Досытя поди наревелися на дедушку? – спросила она спокойно и степенно, а Поле показалось, распрямилась и даже похорошела при этом.
– Всего было! Тут мы его и предали земле... и я рыла, – закончила Поля, а Таиска взяла ее за руку, и Поля не отняла. – Вот, больше-то ничего там и не было, пожалуй!
Они помолчали одну положенную над свежей могилой минутку, и, странно, Поля вдруг с небывалой остротой почувствовала свое кровное родство с этой женщиной, только не через Вихрова пока, а именно через простреленного Парамоныча. Теперь совсем легко стало перейти и к главной цели посещения; незначащим тоном она осведомилась у Таиски, не попадался ли ей в жизни человек с фамилией Грацианский.
– Кто ж его, склизкого, не знает? – помедлив и не без какой-то опаски, ответила та. – Заклятый дружок Иванов... он с мамашею вместе живет, за вокзалами вторая остановка. Ртутная такая старушоночка, запасливая!
– Значит, вы бывали у них, тетя Таиса?
– Да, случилось разок... – усмехнулась Таиска с тем холодком отчуждения, с каким старики поминают про особо замысловатых греховодников. – Послал меня как-то Иван книгу ему в подарок отнести, так она меня дале прихожей и не пустила. Только ведь глазастая наша-то, вихровская, порода: заглянула я скрозь стеклянную-то дверь, батюшки, а они там при раскрытых окнах рис на полу проветривают... смешно, ровно на гумне!
– А зачем же они его... ну, проветривают-то? – не поверила Поля.
– Мало ль зачем... недосмотришь, плесень заведется али жуковина какая лущить почнет. Вот и пропал весь чехауз! Про черный день хранят, ежели что... пока частная торговлишка не наладится.
– Как интересно... – прошептала Поля, и опять чудно ей стало, что вот укоряет своего товарища в смертных грехах, а сам украдкой с мамашей рис проветривает. – Это каких же они черных-то дней боятся?.. если с советской властью случится что?
– Да ведь разные дни-то бывают... иные с солнышком, а то и с чернинкой, – уклонилась Таиска и, в свою очередь, спросила, зачем ей, Поленьке, понадобился этот человек.
Непостижимое оцепененье охватило Полю, как бы руки отнялись и в горле пересохло. Таискин намек приводил ее к недавнему и самому грозному варьянту ее подозрений. Но прежде всего нужно было удостовериться, что не женщина, не мать ее, была причиной давней распри Вихрова с Грацианским, и Поля решилась на прямой вопрос, хотя даже невысказанный помысел об этом казался ей кощунственным.
– Скажите, тетя Таиса... мама встречалась когда-нибудь с этим человеком?
– Еще бы не встренуться. Посля революции, в двадцать ли первом или втором, не упомню, недели две он у Ивана в Пашутине прогостил... и Леночка была там же. Это уж потом, как в Москву перебрались, кошка черная промеж их проскочила. И скажи, пять годов потом этот Сашенька носу к нам не казал, да вдруг и заявился: вроде как дружка старинного проведать. И всегда этак-то, без упрежденья: изморось с усов посмахнет, обымется с им по-братски, вобьет Ивану клинышек в больное-то место и айда по другим своим делишкам!.. В тот раз, как Леночка-то нас покинула, а Иваша-то у меня, впервой в жизни, замертво пьяный лежал, слышу – стучат вроде. Глянула, а на пороге Сашенька: ведь экой нос у человека, издаля мертвое тело учуял! Очень он тогда рвался на Ивана-то полюбоваться, да не пустила я его...
Судя по неуловимым очертаниям событий, причудливо проступавших из неизвестности, самый жестокий повод для распри как будто отпадал: конечно, не притащился бы в тот раз, злодей, если бы хоть в малой степени был причиной распада вихровской семьи... Очень уместно, едва закипел чайничек, во всем районе выключили свет; наступившие потемки еще более сблизили молодую и старую, облегчив им взаимную откровенность.
– Минуточку, по порядку давай... – очень волнуясь, прервала Поля. – А тебе не приходилось слышать, чтобы отец... или кто другой попрекал маму ее дворянством?
Та лишь руками всплеснула:
– А чего в ей дворянского-то? Старьевщиков-татар на Руси, что с мешками по дворам ходили да шурум-бурум кричали, тоже князьями кликали... Только и есть, что в барской усадьбе выросла. Дураку-то не объяснишь, что иные в куски побиралися, да вольней жили. Ведь я ее полумертвую на руки приняла, Леночку-то... Прямо сказать, из петли ее Иван вынул!
4
За давностью лет Таиска многое путала в той плачевной повести, но слышала из верных уст, что трехлетнюю Леночку на рождестве однажды привели и, позвонив, покинули на лестничной площадке у городской сапегинской квартиры. Все было учтено в этом акте родительского отчаяния – от праздничного настроения обеспеченной полунемецкой семьи до бумажной, неплохо задуманной золоченой коронки на головке ребенка; пожалуй, лишь это и подтверждало его непростонародное происхождение. Имя и возраст значились в сопроводительном письмеце, черной ниткой пристебанном девочке на спинку. Само счастье стучалось в сапегинскую дверь... да и нельзя было смотреть без умиления на крохотную фею, настоящую рождественскую Christkind, – как вразвалочку, падая и не ушибаясь, скользила она по паркету вкруг зажженной елки, как радовалась жизни, как безропотно выносила ласки и любознательность со стороны хозяйских мальчиков... Незадолго перед тем вдова Сапегина лишилась престарелой компаньонки и чтицы; это решило судьбу подкидыша. Леночку увезли на Енгу, где ей предстояло последовательно пройти весь круг приживальческой жизни: стать игрушкой богатых, девчонкой для побегушек, забавкой холостых барчуков, сиделкой при параличной благодетельнице, главной плакальщицей и затем цепной грымзой в прихожей – стеречь шубы пирующих на поминках наследников.
Леночка заняла в усадьбе четвертое место после старухи, веерной пальмы, выращенной из косточки покойным Ильей Аполлоновичем, и еще – синей кусачей собачки, вечно дрожавшей, как душа подлеца. Ниже размещалась сравнительно немногочисленная челядь, местные просители и всяких земных благ окрестные поставщики, из коих следует мельком помянуть захудалого лесного мужичонку Калину Глухова за его дикие, исключительной целебности меды. При господском столе девочка быстро усвоила благородные манеры и беглую немецкую речь, а в летние каникулы с ней делился своими умеренными познаниями один сверхсрочный студент, всюду сопровождавший несчастливую в браке молодую хозяйку на правах репетитора ее детей. В дареных платьях Леночка выглядела настоящей барышней, умела при случае занять важного гостя и не портила прелестных окружающих пейзажей. Казалось, крестьянки, приносившие на продажу свои изделия и товары, просто не замечали ее, но девочка рано начала чувствовать на себе их изучающие недобрые взоры, смягченные покорностью бедных. Вместе с тем Леночке так и не далось подобострастие ее предшественницы, с каким та осведомлялась по утрам у дряхлеющей барыни: «Как вы спали, матушка, где вас блошки кусали?» – и уж вовсе не научилась вникать сквозь щелку, о чем шепчутся челядь и внуки насчет бабушкиной кончины, или же выслушивать ночные назидания старухи, когда ей не спалось... К слову, обычно они строились в виде злоключений некоей отвлеченной уличной девицы, наказанной за неблагодарность к благодетельнице и за доверчивость к первопопавшемуся офицеришке. Лишь доведя до хныканья пятнадцатилетнюю девчонку, старуха прощала ей воображаемую вину с обещанием захватить с собой, когда наконец бог отпустит ее на родину в Померанию; именно там она и познакомилась с покойным Сапегиным, кончавшим тамошний университет. Прожив полвека на русских хлебах, она постоянно жаловалась на повреждение здоровья, происшедшее от несовершенств этой страны.
Тем временем упадок усадьбы достиг предела; заждавшиеся внуки прижизненно тянулись за наследством, а покупателя на оставшуюся часть Облога не предвиделось. Зимами жизнь теплилась в уцелевшем крыле дома, где не так дуло из подполья и меньше промерзали углы. Для сокращенья расходов старуха постепенно суживала круг челяди, должность конюшего объединила с кучером, дворецкого с конторщиком; надо было как-нибудь перебиться до первого погожего утра по окончании русско-германской войны. Но вместо ожидаемого замиренья угрожающие слухи докатились до Енги, и, хотя ничего пока не случилось с пошатнувшимся царским режимом, население родовых дворянских гнезд стало ощущать тоскливую шаткость бытия, знакомую гарнизонам дальних осажденных крепостей. Уж на собственном сапегинском дворе откровенно поговаривали о том, как порасправятся с барами вернувшиеся из окопов солдатики, и то, чего наслышалась в ту пору Леночка о своем народе от старухи, еще долго заставляло ее бледнеть при мысли когда-нибудь оказаться с ним лицом к лицу. Зависимое положенье, всегда на грани между милостью и опалой, когда Леночку на недели ссылали в людскую, к челяди, рано научило ее сравнивать нарядную праздность своего существования с суровым укладом окружающей жизни. И раньше сгорала от стыда, когда у церковной паперти, к примеру, высаживала из коляски грузную, отовсюду видную опекуншу свою, бычиху в просторечии мужиков; теперь же и вовсе под любыми предлогами Леночка избегала показываться с Сапегиной за воротами, чтоб не раздражать терпеливого, все запоминающего судью, такого зрячего, несмотря на потупленные в землю очи. Не отрываясь, день и ночь он глядел сквозь стены усадьбы, видел и запоминал, и ничто – ни Леночкино сиротство, ни ее собачонкой покусанные в детстве ножки, ни горький хлеб невольницы, ни оскорбительные приставанья барчуков, – ничто не могло оправдать перед ним ее принадлежности к осужденному феодальному строю. Точно так же как другие девушки того же возраста живут розовой мечтой, Леночка жила своими ночными страхами... и напрасно, пусть из благих побуждений, старался Вихров потушить в ней эти полусознательные пока проблески ответственности перед народом.
По словам Таиски, знакомство Полиных родителей состоялось вскоре после прибытия нового лесничего на место службы. Еще в лазарете после раненья он задумал обширную работу, направленную против помещичьей расправы с лесами, и в его положенье было бы неразумно не полистать находившихся буквально под рукой документов по известной ему тяжбе с красновершенскими мужиками за Облог; в начале лета он и отправился в усадьбу порыться в сапегинском архиве, разумеется, с разрешения владелицы. Когда выезжал из дому, ни его сомнительное красноречие, ни давность того позорного для русского дворянства дела не внушали ему надежды на успех, но во второй половине дня обильный июльский ливень просверкал над алыми, задымившимися после зноя клеверами; верилось, что наступившая в природе благожелательность непременно должна распространиться и на помещиков. И тут, на въезде в вековой сапегинский парк, едва вывернул из-за пруда на лиственничную аллею, вихровские дрожки сразу поравнялись с девушкой, поразившей его даже не красотой, а, напротив, какой-то кроткой домашней обыкновенностью. Судя по непокрытой голове и короткому, городского покроя платью, она была здешняя, но не из барышень, потому что босая и с цветной ярмарочной гребенкой в смоченных волосах. Она шла в ту же, что и он, сторону, к белевшему за деревьями дому, занятно отгребая воздух согнутой в локте рукой, как бы торопясь уйти от шелеста настигающих колес. Возможно, девушка испытывала неловкость перед незнакомым чиновником за мокрое платье, прилипшее к телу на спине и груди.
Началось с того, что Вихров побранил дождик, замочивший их обоих в дороге; она заступилась с горячностью, точно тот доводился ей дружком: «У каждого своя работа». На вопрос, не гостит ли она у Сапегиных, девушка отвечала, что с начала войны и в связи с упадком хозяйства даже наследники перестали навещать это гиблое место. «Одна я вот уж семнадцать лет гощу, совсем загостилася», – не сдержалась она, а Вихров отметил деревенские обороты в ее речи. Было ему немножко неловко, что он едет, а она пешком идет, но не решался покинуть дрожки, чтоб не обнаружить своей хромоты. Единственно для поддержания разговора лесничий признался в целях своего посещения. Та посмеялась его простодушию: не было в мире сил, способных прервать послеобеденный сон старухи; кроме того, всю прошлую зиму Феклуша таскала к себе в кухню на растопку какие-то шурстящие бумаги с бывшей половины Ильи Аполлоновича.
– А я уж думала, вы у нас лес торговать приехали. А то заждались мы покупателей!
– Куда, у меня своего много, – махнул рукой Вихров.
Как и предупреждала девушка, в тот раз его не приняли, но дня через два он, уже в урочное время, снова подкатил к площадке у той самой террасы, где когда-то Демидка продал пленную белку; и, видно, имелись у Вихрова дополнительные причины облачиться по такой жаре в парадный вицмундир с отложным бархатным воротником. Вся в оборках и подушках, Сапегина полулежала у себя в кресле, уставясь в портрет супруга, висевший в простенке между жирандолями под серой от пыли кисеей. Ее отечное стеариновое лицо принимало все более плачущее выраженье, по мере того как Вихров излагал свои лесные намеренья, по его мнению – небезразличные для любого порядочного, проживающего в России человека, и наконец испуганно покосила глазком на гостя, когда тот ввернул для убедительности, что его труд займет не менее тысячи страниц. Возможно, ей представилось, что сейчас этот мужиковатый чиновник с бородкой и в сапогах вытащит из-за пазухи кипу исписанной бумаги и примется вышибать из барыни дух посредством чтения чепухи, как нередко поступал с женою и покойный Илья Аполлонович. Да и в самом деле было что-то неприличное в том, как с бесстыдством молодости Вихров отнимает у старухи считанные минуты, оставшиеся до отъезда в Померанию... Но вдруг хозяйка оживилась, и слезливый огонечек засветился под ее парализованным веком.
– Приятно... образованный... нашего круга, – разбитым голосом заскрипела она, теряя слова в одышке. – Видишь сам, какая... в ловушке... подсобил бы... такой молодой, обаятельный.
– Я, со своей стороны... в меру сил... – заражаясь ее манерой отрывистой речи, заспешил лесничий и в знак готовности отложил недокуренную папироску на плюшевую скатерть, позади кузовка с клубникой, выложенного кленовыми листьями.
– Домой ехать пора... кости... с чем ехать-то, а? Закладные в банк... нечем... обобрали всю... психопат начал, внучики закончили... обаятельные... уж ты бы мне... а там хоть вчистую вывози!
Дело приобретало неожиданный оборот, а Вихров в практической жизни отличался редкостным простодушием. Видимо, речь шла о деньгах, он стал соображать срок ближайшей получки.
– Собственно, я с радостию, если согласитесь подождать... в данную минуту, будучи вынужден... устраиваясь на новоселье, сам не при деньгах.
– Э, какие твои деньги... – простонала помещица на его плебейскую непонятливость. – У меня на Облоге тыщ восемь еще... Поди у тебя все лесные жулики знакомые... прислал бы какого подлеца похлеще: все одно обормоты раскрадут. И тебе самому... – Голова ее обессиленно откинулась, и только пальцы бегали по колену, досказывая, что, дескать, и маклеру достанется на табак.
Сперва до лесничего как-то не дошло, на что его нанимают... Но вдруг ему живо представился лежащий под образами отец с согнутыми коленями, а рядом пьяненький Калина на пеньке, и все поплыло в его глазах. Всегда несколько книжная – потому что рано уехал из деревни – вражда к этому сословию внезапно набухла мужицкой кровью... и, пока подыскивал словце – плеснуть в глаза высокомерному барству, на звонок хозяйки стали являться всякие услужающие фигуры: огненно-рыжая девочка со смородинной наливкой, лакейского вида нетрезвый старец в чем-то чесучовом с хозяйского плеча и, наконец, девушка из лиственничной аллеи, та самая, которую Вихров трепетно ждал весь тот час. Двое первых смотрели на старухину руку и исчезали после им одним понятных мановений.
Сапегина издала какой-то полувопросительный звук.
– Это я, – спокойно отвечала та, третья.
– Не вижу... называться надо, – нажимисто скрипнула старуха.
– Ну, это я, Элен, – послушно повторила та, но губы ее повело, как от лимона.
– От рук отбилась... какая! Вот, полюбуйся-ка на нее, батюшка: она на меня ос наводит.
Минутку девушка с закушенными губами смотрела в пол.
– Да вы же сами три дня назад варенья спросили, а не скушали... вот осы и летят! – и что-то позвенело в ее голосе, потом улеглось. – Хорошо, я уберу...
– Так уж и доела бы, раз третий день стоит. Господи, вот и паленым пахнет... сожжет она меня живую.
Это прогорала скатерть под вихровской папироской; он втихомолку потушил и спрятал улику в карман. И опять девушка помолчала ровно столько, чтоб перевести задержанное дыхание.
– На стол здесь будем накрывать или на террасе?
– Там, там... Вот, покажи ему сундук с бумагами... не тот, который... а другой. Угости там, с водочкой... этого господина в сапогах, – и еле приметно кивнула на лесничего, теперь уже без обиды, даже с живым интересом наблюдавшего усадебные распорядки. – Ну, чего торчишь, загляделась... мужчина сидит... ступай!
Привычная ко всему девушка не ответила, только чуть приметно пошевелились кончики пальцев и дрогнула взведенная бровь.
Что-то помешало Вихрову немедленно покинуть усадьбу, не простонародное упрямство добиваться цели вопреки всему, а скорее потребность как-то загладить перед девушкой вину своего присутствия при оскорбительной для нее сцене. Выйдя из гостиной, он неуклюже попытался пожать ей руку, но Леночка отпрянула, не поняла, взглянула свысока, а он успел разглядеть ранние морщинки вкруг ее глаз.
– И сколько же вам платят за такие поношения? – тихо спросил он.
– А вам к чему это?.. нанимать, что ли, собираетесь?
– Просто так, из интересу и сочувствия.
– Так чего ж мне платить: я тут своя. – И сменила разговор: – Сразу водкой займетесь или сперва сундук посмотрите?
– Предпочту начать с сундука, – вполне оправдывая ее ожесточенье, иронически поклонился Вихров.
– Тогда... здесь прямого ходу нет, придется нам с вами двором идти.
Мимо заросшего бурьяном каретника без кровли и через полутемный кабинет, где над старинной конторкой в солнечном луче, пробившемся сквозь закрытый ставень, посверкивал перекрещенный с алебардой курдский ятаган, девушка повела гостя по винтовой лестнице и, пока тот взбирался вверх, отомкнула дверь в святилище исторического деятеля и переводчика. В низковатой комнате с полупустыми книжными полками пахло мышами и соломой, вороха поеденной бумаги устилали пол; цветные сумерки сочились сюда сквозь вставные, во фрамугу единственного окна, витражики из византийской базилики.
– Вот, глядите... тут все, что от Феклуши уцелело, – сказала вихровская спутница и, отвернувшись, присела у затянутого паутиной подоконника.
С чувством почтительного смятения взирал пашутинский лесничий на валявшиеся вокруг разрозненные издания и бесценные манускрипты, достойные национального музея, созданные чьим-то вдохновенным подвигом, может быть украденные у огня изуверов, чтобы со временем пройти длинный путь из мешка малоазиатского мусорщика до парижского антиквара, купленные русским барином на крепостные труды вихровских дедов и теперь невежеством собственника обреченные на тление. Он взял с полу попавшую в поле зрения нарядную книгу, иконографию венецианских дожей, и смахнул рукавом с гравированного на меди Николы Контарена узкий землистый следок от босой Феклушиной ноги. Потом в поднятом наугад, наискось исписанном листке с улыбкой прочел сапегинское рассуждение о неминуемости деспотического византийства для любой российской государственности. Нет, едва ли здесь нашлась бы хоть в полторы строки справка о безвестном енежском мужике, застреленном в неравной борьбе; еще бесполезнее было искать ее в железном, тоже наполовину опустошенном сундуке, где, видимо, хранились самые отборные сокровища. Судя по расплывшейся надписи на обложке, сверху оказался отрывок из древнегреческого евангелия; рыжие потеки дождей посмыли киноварь и золотце тысячелетней красоты, и Вихров прикинул в уме, сколько ж русского льна и леса ушло за облезлый, скоробленный пергамент, который он держал в руке.
– Крыши-то чинить надо, малоуважаемые господа! – с сердцем заметил он и бросил чужую собственность назад, в яму.
Вслед за тем он невольно пожалел свою спутницу, безучастно притихшую у окна. Чтоб смягчить давешнюю старухину выходку, он сказал, что, пожалуй, обиды от больных и престарелых недействительны, хотя, конечно, всякий подавленный, невысказанный гнев лишь умножает степень рабства. Ему пришлось спросить, слышит ли она.
– Еще бы! Вот вы про крыши ругаетесь, так они везде у нас текут. Старуха ничего тут чинить не хочет. Мы деньги на отъезд копим. – И, несколько оживясь, спросила вдруг, в какую же сторону отсюда лежит страна Померания.
– Значит, вы вместе со старухой решили из России уезжать?
– Небось обманет, а то и поехала бы. Ведь страшно тут одной-то остаться.
– Чего страшно-то?
– А убьют.
Он нахмурился.
– Кто вас убьет?
– А мужики, – отозвалась она, дрожащими пальцами расставляя на подоконнике в кружок, усиками к центру, всех сохлых бабочек, чудом пробившихся сюда за четверть века. – Знаете, как они нас ненавидят? Даже во сне вижу, будто вечер и они входят вон в те ворота... сюда, на расправу! – и показала на входную арку, белевшую за окном, в проеме темно-зеленых парковых кулис. – Человек одиннадцать, в черном все, ровно от обедни... значит, помолясь. Трактирщик Золотухин впереди...
– И, как же, с топорами они... или просто с кольями? – с жгучим любопытством осведомился Вихров, потому что сам не раз думал о том неминуемом, что возникает на границе терпения и в защиту попираемой народной жизни, – словом, о санитарной рубке, на языке его профессии.
– А не видать... руки-то за спиной у них. И будто уж залилось с заднего крыльца и дымище ползет понизу, а я в сирень спряталась, не дышу, и, главное, не ловят они меня, а только глазком смотрят искоса, куда побегу.
– Чушь какая. Кто же это вас так... старуха напугала?








