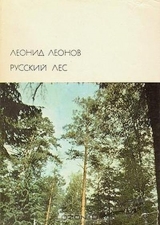
Текст книги "Русский лес (др. изд.)"
Автор книги: Леонид Леонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Глава шестая
1
Пашутинский лесничий был очень занят в ту осень. Свое хозяйство он принял в расстроенном состоянии из-за происходившей тогда первой мировой войны. Наукой там не занимались и раньше, несмотря на фундаментальную лесную библиотеку, а с сокращением ассигновок оборвались и мелиоративные работы. Вместе с тем новая лошкаревская ветка приобретала важное значение во фронтовых перевозках; беспорядочная рубка на дрова для железной дороги и близлежащих столиц грозила разорением кряжевых енежских боров. Требовались немалые усилия – без людей и средств производить хотя бы частичное лесовозобновление на вырубках. Война приостановила ремесла, сельское строительство, даже ремонт кордонов. Жизнь замирала на Енге.
Бедственное состояние страны, брошенной в пучину разрухи и военного поражения, требовало передачи национальных судеб в руки самого народа. После Февральской революции законным наследникам России стало в особенности дорого все уцелевшее от алчности вчерашних хозяев, – зеленое достояние в том числе. В свою очередь, это заставляло вспомнить и о людях, занятых сохранением и посильным умножением леса, по прежнему – главной базы всенародного возрождения. Так, енежская общественность сочла долгом отметить подоспевшее семидесятилетие Лисагонова Минея Ильича, объездчика с девятого кордона и неутомимого вихровского помощника, скромным обедом с приглашением двадцати пяти его товарищей. В те месяцы, тотчас после свержения самодержавия, еще не вошло в обычай замечать мелкие винтики государственного механизма: в частности, ни лошкаревскому ревизору лесоустройства, большому чиновному барину, ни местному священнику о. Тринитатову, с которым пашутинский лесничий находился в неприязненных отношениях, не было никакого дела до дремучего лесного старчища, полвека просидевшего на охране Пустошeй. Тем не менее, несмотря на гнилую апрельскую дорогу, поименованные лица заявились сами – занять очередь у этой возможной двери в завтрашний день России, даже с дарами: ревизор привез компас для определения всех четырех сторон света, а батюшка под аплодисменты собравшихся извлек из-под рясы бутыль мягчительного напитка домашней гонки, известного на Енге под названием тенерифа, изготовляемого батюшкой во благовременье из меда с добавлением некоторых заповедных трав... Таиска, к тому времени перебравшаяся к брату на постоянное жительство, смогла последовательно перечислить Поле все обстоятельства того крайне памятного пиршества.
Начали под редьку с произнесением подобающего слова о пользе лесов, причем Иван Матвеич впервые выдвинул пока еще туманное требование, ставшее основным тезисом его первой книги: об уравнении леса в гражданских правах с другими источниками народного благосостояния. Лошкаревский гость солидно возразил, что, в отличие от прочих, лесу истощение не грозит, ибо он есть источник, постоянно возобновляющийся, на что Егор Севастьяныч, заслуженный фельдшер местной больнички, очень уместно указал, поглаживая громадные сивые усы, что все выдающиеся на земле леса уже теперь известны наперечет, тогда как рудники и шахты с каждым годом открываются все новые... Вслед за тем провозгласили примирительный тост во здравие России, и хотя стаканы зазвенели в особенности дружно, а грибным Таискиным издельям сразу был нанесен значительный урон, уже тогда видно было, что каждый вкладывал в это высокое слово свое особое содержание. Когда же после пирога с соленой рыбой лошкаревский ревизор предложил выпить за героическое племя лесников, молодой Вихров задиристо осведомился, имеет ли его превосходительство в виду горстку послушного начальства, не сумевшего отстоять от разграбления даже водоохранные русские леса, или же ту миллионную меньшую братию, рядовых тружеников леса, которые с бессильным гневом наблюдают лесную разруху. Сразу и не на шутку запахло скандальцем.
– Так что же нам надлежало делать, по-вашему, господин Вихров? – суховато спросил лесной генерал.
– Кричать обществу о происходящем в доверенной вам области, драться и даже умирать, черт возьми, если сие требуется по ходу выполнения обязанностей.
– Надеюсь, как обер-офицеру леса вам известно, что частновладельческие леса не подлежат юрисдикции нашего с вами департамента?
– Значит, народу придется силой восполнить этот пробел в лесном законодательстве! – Именно эта фраза и послужила причиной для последующего обвинения Вихрова в большевизме и отстранения от должности всего за неделю до Октябрьского переворота.
Спор перекинулся в дебри лесной статистики, недоступной большинству гостей, причем общее сочувствие было на вихровской стороне: одни дружили с его отцом, другие встречали его еще босоногим мальчонкой у Калины. Привыкшие ложиться со светом, лесники сонливо внимали перепалке, а на дальнем конце начинали шуметь песню обходчики, раздобывшиеся тем зловредным первачом из разбойничьего Шиханова Яма, что слыл в уезде за коньяк со зловещей маркой три мертвых косточки. В целях умиротворения и объединения сил о.Тринитатов поделился воспоминаниями, как во златые денечки юности самолично гонялся на башкирской байге под Уфой и даже получил жеребенка в приз. Разговор перекинулся на лошадей, а захмелевший Егор Севастьяныч похвастался выдающейся кобылой, незадолго перед тем приобретенной для медицинских разъездов; по его словам, до революции она возила какого-то видного архиерея, за что имела от него чуть ли не благодарственное письмо или что-то в этом роде. Тут все, кто еще был в состоянии, отправились лично ознакомиться с фельдшерской покупкой.
Ночь выпала на редкость бурная, весна с хрустом ломала зиму, гортанное журчанье слышалось отовсюду. Поеживаясь спросонья, конюшонок вывел красавицу из стойла, и все принялись наперебой высказывать свое восхищение. Широкогрудая и рослая, вся в яблоках и промывах, как небо той ночи, она прядала ушами, перебирала копытами, стараясь стать по ветру, настолько усилившемуся к полночи, что едва не гаснул огонечек в щелеватом железном фонаре; дело происходило в середине апреля... Один лишь батюшка отозвался о покупке кисловато, за что фельдшер причислил его к вреднейшей породе знатоков, готовых брюзжать и на солнышко, лишь бы не уронить достоинства в глазах почтеннейшей публики, и даже назвал его власоглавом, что крайне ожесточило о.Тринитатова. За недоуздок отведя кобылу под защиту дровяной поленницы, где было малость потише, и обрекая остальное общество на мучения от ознобляющего ветра и какой-то мокрой, сыпавшейся с неба пакости, батюшка приступил к более обстоятельной экспертизе: оттягивал своей жертве губы, поочередно подымал ноги за щетку, стучал над глазом, дул в лошадиную ноздрю, после чего прикладывался ухом к подбрюшью в намерении подслушать, как сие отражается внутри испытуемого животного, которое в отместку без особого успеха норовило ухватить его зубами то за рукав, то за некоторое другое место. Затем, кашляя и чихая, все пошли назад, чтобы в условиях домашнего уюта продолжить лошадиную дискуссию; по долгу хозяина, Вихров замыкал шествие. Тут-то и раскрылось значение необъяснимого вначале красноватого сиянья над черной хвойной кромкой Пашутинского лесопитомника.
– Любопытствую узнать, что именно в нашем уезде способно предаваться столь яркому и продолжительному горению? – спросил у фельдшера шедший впереди о. Тринитатов.
– Это уж оно затихает, батюшка, а часа два тому столбищем полыхало... – возбужденно отвечал за хозяина конюшонок, и Вихрова точно знобом прохватило насквозь. – Не иначе как мужики Сапегино дожигают... больше нечему!
Правда, два других села находились как раз в направлении пожарища, но в уме у всех Сапегино раньше других стояло в очереди на огонь, и, пожалуй, нельзя было выбрать ночки удачнее, чтобы спалить окаянную бычиху.
Первая мысль лесничего была о Леночке. Делом минуты было сорвать с гвоздя овчинный полушубок и дать наказ, чтоб в санках догоняли по дороге на Красновершье; через Максимково было короче, но рождалось опасение за мосток на Склани, ежегодно смываемый в половодье. Расклоченное небо неслось вверху, сминаясь в багровую пену над заревом, которое постепенно меркло и вскорости совсем погасло. Взамен, пока Вихров сквозь бурю добирался до большого леса, в сизом молоке тумана обозначился какой-то кособокий и несообразно тусклый предмет, предназначенный для свечения: видимо, луна. Сквозь призрачную муть, по сторонам хлюпающей дороги, проступали отвесные, обсосанные какие-то, потому что как бы без крон, стволы. Нога то и дело по колено проваливалась в изглоданный снег на обочинах.
Никогда так не торопилась весна; разноголосый гул множества усилий стлался по лесу, причем отчетливо выделялись то вздохи оседающего наста, то сипенье проснувшейся воды, и все это перекрывалось бурлацким уханьем ветра, помогавшего реке сдвинуть лед.
Ничего не разобрать было вокруг, и, лишь добравшись до незнакомой лощины, Вихров сообразил там по двум скрещенным, трущимся друг о дружку соснам, что идет прямиком на Максимково. Уже собравшись продираться сквозь ельник на соседнюю просеку, лесничий попытался точнее определить место, и тут во мгле впереди ему почудилась движущаяся человеческая тень, почти невероятная здесь в такую непогоду. Кто-то действительно двигался навстречу, подобно ему поминутно оступаясь в промоинах дороги, а это означало, между прочим, целость моста на Склани; тень тащилась с непокрытой головой, насквозь промокшая и, как тогда, в лиственничной аллее, выкинув вперед полусогнутую в локте руку, что было для Вихрова приметой самого дорогого существа на свете. И верно – то была Леночка.
Много лет спустя, на одной из вихровских проработок в Лесохозяйственном институте, Грацианский громово напомнил собравшимся последующее неблаговидное поведение государственного служащего в отношении помещичьей нахлебницы, видимо предоставляя ему на выбор спрятаться от нее за деревом либо опросить побасовитее, обнажив огнестрельное оружие, что она поделывает ночью в казенном лесу. И никому в тот раз в голову не пришло, какого же сам он мнения был о тех, в чьих глазах выслужиться хотел в качестве блюстителя гражданских добродетелей... И если бы даже Вихров мог предвидеть, какое горе причинит ему эта девушка впоследствии, он повел бы себя так же, то есть самовольно, весь дрожа, мял бы ей окоченевшие руки, пытаясь вернуть Леночке речь и передать клочок своего тепла, или, как если бы уже принадлежала ему, растирал ее ледяные и влажные под легкой жакеткой плечи, в особенности ту уже бесчувственную впадинку под лопаткой у Леночки, откуда, по его предположению, должна была войти в нее весенняя смерть... и все глядел в полузнакомое теперь, мокрое лицо с частым подергиваньем в углах рта, с провалами глазниц, растушеванных до самых скул.
– Держись, родная моя, тут недалеко... баню для шпалотесов топили. Бежать не можешь?.. а ты попробуй, только бы добраться поскорей! – бормотал он, кое-как закутывая ее в свой полушубок и боясь догадываться, что у ней надето на ногах, тонувших в талой снежной кашице, и оглядывался в сотый раз, а саней все не было.
Леночка не узнавала его в лохматой, наудачу выхваченной из кучи, фельдшерской шапке, и вообще она никого не узнавала недели три потом; только лгала кому-то непослушным языком, будто вот вышла от угара пройтись и сбилась с дороги. Она говорила без передышки, причем отдельные звенья ее речи терялись за стуком зубов. Вдруг доверясь, Леночка бессвязно рассказала, как перед потемками налетел на усадьбу Золотухин со своей подкулачной свитой... и ничего они там не помиловали, даже сиреньки под террасой, потому что и сирень в том месте проклятая... и будто один на кричавшую Феклушу замахнулся, а ударить не посмел девчонку... нет, не посмел, видно, сообразил, что за такие-то обиды злей всего наказывает бог! Что же касается самой старухи...
– ...все в Померанию обещалась меня увезти, так и не увезла. Несчастье-то какое... и гребеночку потеряла. – Леночка собралась отвести налипшую прядь со лба, но забыла и вопросительно поглядела на поднятую было руку. – Ой, жалко мне гребеночки... Теперь уж не возьмет меня с собой в Померанию! Вот я и вышла погулять с больной головой, а уж тронулась река-то... – И значит, дом пашутинского лесничего представлялся в ее сознании единственно безопасным местом на земле...
– Да пойдемте же, черт возьми! – в голос закричал Вихров, чтобы сквозь весенний шум как-нибудь пробиться в ее помраченное сознанье.
... Леночку спасли русская баня, Таискина преданность брату и та беспамятная воля к жизни, что провела ее двенадцать верст по ночному ненастью. Целый месяц длилась ее ночь, выздоровление началось однажды утром. Когда впервые раскрылись ее глаза, вся розовая яблоня-сибирка гляделась в распахнутое настежь окно, с горстку опавшего цвета нанесло ветерком на одеяло. Необыкновенная новизна сквозила в природе, когда похудевшая и без посторонней помощи Леночка с крыльца спустилась на траву, пестревшую первыми одуванчиками. Голова легонько кружилась от пьяноватого запаха тлеющих опилок, нагретых полуденным припеком, но, пожалуй, еще больше кружилась – от вольной обширности неба, где проносились облака, такие громадные, а бесшумные совсем. Чувство непрощенной вины заставило девушку обойти деловитого шмеля на цветке: он был свой тут, и за работой, а она – пришлая, из сгоревшего Сапегина, нахлебница, пригретая по милости добрых людей. Близ колодца встретилась местная незнакомая молодайка с коромыслом на плече; на робкий Леночкин поклон она отвечала приветливо, но с холодком: муж на войне, законные дети и тяжесть двух полных ведер давали ей право на такое, чуточку высокомерное достоинство. Никто не мучил Леночку ни жалостью, ни любопытством, но все было известно всем... и в конце концов нужно же было кому-нибудь ежедневно записывать показания флюгера на пашутинской метеостанции и количество выпавших за сутки осадков... Рождалась слабая пока надежда, что вчерашнее забыто и осталось позади; страшная ночь прошла для Леночки бесследно, если не считать, что очень озябла тогда и, кажется, на всю жизнь. Кроме того, образовалась привычка, чуть сумерки, забиваться в дальний угол, ближе к печке, но Таиска всякий раз изобретала предлог подвести Леночку к окну и показать пустой деревенский проселок на Красновершье, – такой ухабистый, душу осенью изорвешь, такой безлюдный, какими они бывают по окончании кровопролитной войны.
На Леночкино горе, два месяца сряду ни капли не пролилось с небес, так что и записывать вроде было нечего, а вынужденное безделье обостряло в ней чувство дарового, незаработанного хлеба. Ничто не изменилось, когда после усиленных, через Таиску, намеков ей дополнительно поручили отбор хвойных семян и испытанье их на всхожесть. Работа была доступна и школьнику, а отсутствие знаний мешало Леночке отдаться ей настолько, чтобы без стыда и наравне со всеми садиться за обед... Значит, Вихров понимал ее душевное состояние, если по собственному почину заговорил о ее отправке на учебу; кроме того, ему хотелось, чтобы повидала жизнь и других мужчин, прежде чем согласиться на предложение хромого и скучного лесника. Леночку подбодрила эта мысль: только перемена места могла излечить ее от изнурительного ожиданья, что завтра и сюда нагрянут за нею по следу... У Егора Севастьяныча нашлись связи на лошкаревских курсах медицинских сестер, а Таиска за неделю изготовила ей необходимое приданое от холстинкового бельишка до старомодного, еще с буфами на рукавах, полузимнего пальтишка, приобретенного ею на батрацкие гроши года за два до вселения к брату.
– Спасибо вам... жива не буду, а отработаю! – жарко шепнула Леночка на прощанье, уже одетая.
Вихров отечески разгладил пальто у ней на спине, все сбивавшееся горбом, несмотря на перешивку, и тут же, при закрытых дверях, передал ей часть очередной получки с обещаньем делиться и впредь.
– Берите же, я сказал... таким образом. Я не привередлив к жизни, и мне рано копить на старость. Это не подарок, а лишь переходная сумма, которую я сам в вашем возрасте получал от посторонних лиц. При схожих обстоятельствах можете передать кому-нибудь, попавшему в нужду, этот должок... Теперь все зависит от вас одной. Знания помогут вам быть более полезной людям. Любите жизнь, помогайте ей стать чище... а когда вернетесь, будете лечить бесплатно мои стариковские недуги... Всё, таким образом.
– Да вы еще совсем не старые, – без особой уверенности вставила Леночка, а Иван Матвеич подумал, сколько усилий потребуется в будущем, чтобы изгнать эти униженные, за годы полной зависимости впитавшиеся в ее речь приживалочьи интонации. – Ишь еще ни сединки...
– Это потому, что при чистке сапог я той же щеткой приглаживаю волосы, чтоб не пропадало добро. Теперь марш в телегу... Егор Севастьяныч сердится: слепни совсем заели его красавицу!
Пашутинскому лесничему было тогда едва за тридцать. Леночке же он если и не казался стариком, то самым моложавым из наставников человечества; она сделала неловкую попытку поцеловать ему руку. Вихров накричал ей что-то о необходимости – наравне с ее бездарным страхом жизни – искоренять в себе и остальные рабские привычки, грохнул дверью и даже на крыльцо не вышел платком в дорогу помахать.
2
Начатая работа над книгой и связанные с нею выезды в столичные библиотеки помогли лесничему почти без переписки пережить двухлетнюю разлуку с Леночкой. Его послания в Лошкарев, состоявшие из житейских советов, умещались на корешках денежных переводов, но самая мысль о будущей встрече ускоряла его работу; если правильно, что любое выдающееся произведение, помимо главной тематической цели, диктуется побочной, – скрытой от читателя в творческой биографии автора, для Вихрова она состояла в том, чтобы с помощью своей книги ввести эту девушку в лес, как в родную семью, и пусть она посильно поможет ему в борьбе за своих новых друзей. Для этого ему предстояло через тоненькую струйку чернил, медлительно стекающих на бумагу, пропустить целое озеро исторических справок и статистических доказательств, собственных наблюдений и мыслей о мире, добытых инструментом его ремесла. Уже оставалось перебелить почтенную стопку разгонисто исписанных листков, как вдруг ясно стало, что его широкие обобщения не подтверждены достаточным материалом, что обилие поэтических образов лишь ослабляет научную ценность книги, что вместо задуманного исследования получается поэма о горькой лесной судьбине.
Утром однажды, перечеркнув все, он положил перед собой чистый лист и с первых же строк запутался в определениях леса как предмета науки. Их к тому времени скопилось достаточно, взаимно непримиримых, потому что в каждом отражался обособленный взгляд на место леса в экономике эпохи и, следовательно, принадлежность автора не только к научному, но и политическому течению. Жаркие споры велись под столь же оживленный аккомпанемент топоров, так что у людей несведущих возникало законное опасение, уцелеет ли самый виновник разногласий ко времени выяснения истины. Даже понимая важность этой, порою только догматической борьбы, Вихров решил приблизить дело к здравому смыслу, то есть впрямую к интересам народного хозяйства и коммунистических потомков... Итак, книга должна была начаться критическим обзором исторических понятий о лесе с параллельными сводками убыванья его в России, по ходу работы потребовалось уточнить, откуда пошла формула вульгарного понимания леса и дерева как фабрики и рабочего, производящих древесину. Цитата встречалась ему где-то в трудах Тулякова, и ученик обратился письмом к учителю за дозволением при, случае ознакомиться с источником в подлиннике.
Встреча состоялась в очередной приезд молодого лесничего в Петербург, года полтора спустя после революции, в том же мрачноватом кабинете с тяжкими стегаными гардинами в предохранение от жизни, действительно несколько шумной в ту зиму. Все там оставалось по-прежнему с тех пор, как студент Вихров в последний раз приходил с зачетом; только вместо сигарного ящика на громадном, с Дворцовую площадь, столе уже выстроилась для генерального наступления фаланга аптекарских пузырьков, а на ближнем краю, откуда раньше свисали яростно исчерканные рукописи, теперь, судя по корешкам, поселились те утешительные книги, что проникают в подобные квартиры с черного хода, незадолго до гробовщика, – библия, траволечебники и нечто шарлатанское о звездах – с энциклопедией тибетских знахарей, Жуд-Ши, во главе. Туляков находился за порогом возраста, когда любые огненные впечатления действительности полегоньку вытесняются созерцанием начавшегося внутри телесного разрушенья. О происшедших переменах еще обстоятельней рассказывали отускневшие глаза старика, сидевшего за столом в шубе с поднятым воротником. Пахло тлеющим фитилем лампады, предусмотрительно погашенной домашними за то время, пока Вихров находился в прихожей. Профессор пожурил молодого человека за рискованное путешествие в столицу, видимо пешком, ради столь очевидных пустяков.
– Вы зря раздевались, коллега, – пробубнил бывший учитель. – У нас прохладно, и не следует искать неприятностей сверх отпущенных на нашу долю историей.
– Ну, мне пока не по чину беречь себя от неприятностей, – сказал бывший ученик. – Кстати, доехал я великолепно, и, кроме того, отличная ростепель на дворе.
Вслед за тем скользкий разговор о причинах всероссийских бедствий, в особенности явно фальшивый тон туляковского изумления по поводу восстановленного движенья на железных дорогах заставили Вихрова сократить визит и круто перейти к цели посещения. Старик не подавал вида, что узнал своего студента, но Вихров сразу понял, что тот помнит его еще мальчиком с дровяного склада. Книга находилась на верхней полке под пыльным потолком, основательно продымленным от неопрятной железной печки.
– Возьмите сами... кажется, третья справа, в кожаном переплете, – сказал Туляков, кивая на библиотечную лесенку. – Должен предупредить, однако, книга написана по-басурмански. Я не помню, была ли она в русском переводе.
– Ничего, я немножко маракую по-басурмански, – уже с верхней ступеньки и без нажима посмеялся Вихров.
Это было забытое сочинение Пютона «Traite de l'economie forestiere»[2]2
«Трактат по лесной экономике» (франц).
[Закрыть] , и можно легко представить противоречивые впечатления столичного барственного лесовода при виде кухаркина сына, без затруднения листавшего ученые откровения на иностранном языке.
– Вам нужна бумага? – ища какого-то сближения, спросил Туляков.
Вихров благодарно кивнул, не отрываясь от страницы:
– Не трудитесь, я принес с собою... – и посмотрел год издания. – Черт, как трагически мало знали люди еще вчера!
– Ну, в ту пору людское невежество с лихвой окупалось количеством и отменным состоянием лесов, – брюзгливо заметил профессор. – Видимо, главные истины о лесе будут открыты, когда он вовсе исчезнет с лица земли... и я считаю, что это вполне в силах человеческих. Так для чего же вам потребовалась эта справка, мой молодой коллега?
Скупо, но достаточно отчетливо Вихров изложил хозяину тему своей работы и связанные с ней затруднения. Тот с ироническим почтением отозвался о намерении пашутиyского лесничего взяться за святое дело защиты лесов, в прошлом оказавшееся не по зубам наиболее выдающимся русским лесоводам; он также пробурчал что-то о вреде самонадеянности как в личной, так и в общественной деятельности.
– Я пришлю вам свою книгу, если ее когда-нибудь выпустят в свет, – невозмутимо пообещал Вихров, продолжая делать выписки.
Туляков достал из стола пересохший табак и без приглашения курить подвинул гостю через стол.
– Что-то я не припомню вас... но, насколько я понял из письма, вы слушали у меня лекции и даже знакомились с моими позднейшими зловредными твореньями?
– Да... и, кроме того, имел неоднократный случай убедиться в вашей доброжелательности к молодым, – на пробу намекнул Вихров для проверки своих сокровенных догадок.
– Весьма лестно услышать хоть что-нибудь приятное о себе. Может быть, пообедаете со мною?.. У меня сегодня разварная макуха на обед. Это готовится из жмыха... не едали?
– Приходилось в детстве... но благодарю, я уже ел сегодня, – рассеянно кивнул Вихров, не принимая вызова и улыбаясь одной, в особенности наивной странице Пютона.
– Позволительно спросить в таком случае, в какой степени вы разделяете мои суждения о лесе? – осторожно, не без скрытого волнения осведомился Туляков.
Все поведение гостя показывало, что туда, в енежскую глушь, еще не дошла совсем недавняя туляковская брошюра с возражениями против национализации лесов, жестко освистанная год спустя, а покамест встреченная зловещим молчанием современников, в том числе и самых близких учеников.
– Очень склонен разделить, – поднял голову Вихров, – если речь идет не о последнем вашем прискорбном выступлении, а о постоянстве лесопользования. – Имелась в виду та самая система лесного хозяйства, когда в целях сохранения источника древесины ежегодная вырубка производится в объеме полученного за год прироста. – Но я с досадой прочел это ваше недавнее сочинение, по счастью, самое краткое из написанных вами. Не хочу извиняться за прямоту... мы вступаем в грозную и неизвестной длительности полосу жизни, когда успех величайшего дела будет зависеть от строгости современников и поколений в отношениях между собой. Считаю эту статью вашей жестокой ошибкой. Впрочем, у вас и раньше попадались опасные неточности, дорогой профессор.
– Объяснитесь... поподробнее, – запнулся тот, как в шахматах передвигая пузырьки на столе.
– Насколько я сам разбираюсь в этом... мне всегда казалось обывательским ваше сравнение лесов и добываемого в них сырья с капиталом и рентой. Лес есть сумма производительных, а не производственных сил... Его можно назвать капиталом лишь в случае, когда он становится средством эксплуатации людей.
Туляков так и рванулся было к нему через стол:
– По-моему, в таком виде ваша формула равным образом бессмысленна. Производительные силы потому и производительные, что проявляются в производстве В чем глубокомыслие вашего противопоставления? – Он запутался сам и рассердился. – И вообще, смею напомнить вам, мой не слишком молодой и недостаточно вежливый проситель, что еще в первом томе своего Лесоустройства, задолго до того, как вы появились у меня на кухне, я уже цитировал Маркса и даже получал шейное воздаяние от надлежащего начальства.
– У вас это звучит так, словно вы именно и открыли Маркса для русских лесников, – отвечал Вихров, еле удерживаясь от прихлынувшего задора – Я до сих пор помню ваши благодеяния и вовсе не хочу обидеть вас подозрениями... но неужели Туляков способен требовать одобренья своих очевидных ошибок в качестве благодарности за те пособия, которые он регулярно посылал мне в студенческие годы? – Он по возможности бегло произнес эту, внезапно осенившую его догадку, и хозяин даже не пытался опровергнуть ее. – Мне только хотелось предупредить вас, учитель, что небрежное пользование высшей экономической математикой может завести вас в довольно безрадостные дебри.
– Это... угроза?
– Нет, но стремление удержать крупнейшего русского лесовода от повторного паденья, таким образом.
Серые, заросшие щеки Тулякова налились краской:
– Итак, вы читали ту мою... действительно ужасную брошюру?
– Да, – складывая свои записи, сухо заговорил Вихров, – и мне, видавшему вас когда-то в таком блеске, было грустно читать вашу браваду, объяснимую лишь непонятным мне озлоблением. Сперва я собирался писать вам открытое письмо, но решил, что будущая моя книга будет лучшим ответом. Не сердитесь на меня, я друг ваш... Я всегда считал ваши книги лесной классикой, и неприличный тон мой объясняется не столько дурным воспитанием... а прежде всего опасением за их дальнейшую теперь участь. Таким образом, на вашем месте я обошел бы книжные прилавки России и скупал бы, на последние гроши скупал бы свое злосчастное изделье вот для этой железной прорвы, – кивнул он на печку, – скупал бы, пока юное поколение не подросло. Чего же вы перепугались в революции – вы, сколько мне известно, крестьянский сын, подзабывший своих темных вологодских родичей? Ступайте пешком по стране, в армяке, если потребуется, прислушайтесь к гулу пробужденья в русском лесу, постарайтесь проветриться на этом бодрящем ледяном сквозняке. Да, вы очень больны, учитель. – Он встал, полагая сказанное достаточным для своего немедленного изгнанья, которого не последовало; это подбодрило его. – Слушайте-ка, я бы мог сразу захватить вас с собой на Енгу... хотите?
– Ну, знаете ли... до сих пор никто еще не пытался лечить меня подобными прижиганиями, – растерянно вставил Туляков, не находя в себе сил для раздражения.
– А вы не задавались вопросом, профессор, почему же прочие воздерживались от этого лекарства?
Кажется, Вихров намекал на свойственную людям этого круга интеллигентскую деликатность, не позволяющую огорчать последние минуты старости, в то время как по моде, века принято было не щадить их. Значит, прочие примирились с бесславным концом Тулякова, и кухаркин сын был первым, применившим огонь для его воскрешения к жизни. Тут оба они слегка умилились; старик неожиданно похвалил в госте высокое понимание взаимной гражданской ответственности, выраженное Вихровым в образе веревки, какою связываются люди при восхождении на вершину недоступного иначе ледника, когда нельзя ни упасть, ни уклониться в сторону без того, чтоб не расстроить порядок движения... Их глаза встретились. Туляков понуро побрел к окну, где внезапно возникла дробная уличная перестрелка.
– Я мог бы объяснить, как это получилось у меня, – глухо сказал он, разглядывая что-то сквозь оплывший ледяной натек на стекле, – но боюсь, что, пока не устроится новый порядок, никто и слушать не станет длинных туляковских рацей по личному поводу, а потом... потом все равно станет поздно.
– Отойдите от окна, Николай Фомич, – сказал Вихров после второй пулеметной очереди.
– Вы правы, молодой человек, люди трагически мало знали... и вчерашние всегда будут знать трагически мало. Это горько для живущих... но было бы хуже для прогресса, если бы действительность приводила нас к обратному заключению, – продолжал он раздумывать вслух. – Да, вы правы, я настолько постарел и несправедлив к жизни, что уже не очень уверен в своем моральном праве на кусок хлеба из будущих урожаев, а это, естественно, озлобляет... Но вы правы самой беспощадной правдой на земле, правдой честной и непримиримой молодости. По утрам всегда представляются наивными сомнения сумерек. Во всяком случае, не пожелаю вам в моем возрасте выслушать такое от способнейшего из ваших учеников... про возраст, армяк и браваду. Кстати, она при вас... моя брошюрка?








