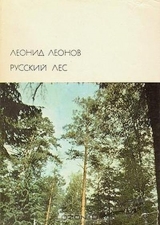
Текст книги "Русский лес (др. изд.)"
Автор книги: Леонид Леонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Глава пятая
1
Начальные успехи германского вторжения, обусловленные несчастным стечением политических обстоятельств к лету 1941 года, хоть и не решали исхода войны, тем не менее помогли первонападающему глубоко вклиниться в советские просторы. Было что-то самоубийственное в решимости, с какой он ринулся в эту пучину с вершин всеевропейского могущества. Как и наполеоновская, ранним июньским утром ворвавшаяся в пределы России, германская армия двинулась к своей гибели испытанной столбовой дорогой через Смоленск. Легкие военные успехи на западе заглушили в тогдашних немцах их врожденную любознательность к окружающему миру, в том числе к восточному соседу, к его истории, национальному характеру, к существу политических перемен, происшедших в образе его жизни.
Потери германского фашизма росли по мере расширения фронта и приближения к своему концу. В условиях жаркого вражеского нажима перед советским командованием стояла пока задача во что бы то ни стало сдержать натиск врага. Горе пораженья и сознание исторической опасности вызвали к жизни партизанскую ярость, и вот отныне объятые пламенем русские деревни доставались завоевателю по цене, какою на западе он покупал иные крепости. Так началась священная всенародная война, в которой советский народ, кроме своей земли, отстаивал ценности, принадлежавшие и самым отдаленным поколениям.
Острие бешенства враг устремил к русской столице. Она мнилась ему завершающей ступенькой ко всемирному владычеству, как будто даже овладение ею могло повлиять на ход большой истории. Москва нужна была ему любая, пусть мертвая, в руинах: чем кровавей трофей, тем величественней он выглядит в глазах дикаря. Но хотя эскадрильи вражеских бомбардировщиков редкую ночь не летели на затемненный город, Москва вопреки всему оставалась невредимой... правда, чуть посерела под пеплом войны, как пылится всякое жилье, откуда надолго отлучается его хозяин. В остальном столица жила с прежней полнотою ощущений, только спектакли нередко прерывались антрактами воздушной тревоги, а участники и болельщики шахматных турниров сбирались с противогазами на боку. По мере приближения к осени недавняя беспорядочность движений всюду сменялась точной и слаженной отработкой. На помощь обширной индустрии протянулись миллионы подсобных рук, железнодорожные депо готовили сверхплановые бронепоезда, заводы минеральных вод мастерили грозные минометы, солдатские жены штамповали коробки противотанковых мин.
Так свыкалась Москва с военным бытом, а ночные дежурства прочно вошли в распорядок рабочего дня. Чуть сумрак, Поля без понуждений поднималась с Варей на крышу, причем обе научились без рукавиц скидывать термитные зажигалки, прежде чем успевал раскалиться стабилизатор, С восьмиэтажной высоты девушкам виднее были подмосковные дороги в багреце надвинувшейся войны. Наверно, где-то там с посошком и с котомкой двигался на восток Павел Арефьич, а на возу с больничным скарбом, замыкая хвост беженской колонны, тащилась и Полина мать. Но проходили дни, и ни Варин отец, ни Елена Ивановна не появлялись в Благовещенском тупике обнять дочек... Однако не страхи за близких или тем более за личную безопасность владели Варей и Полей в ночные часы перед налетом, а чувство несоответствия их ничтожных усилий и громадности горя, грозившего родной стране. Ежедневно в газетах встречались описания солдатских подвигов, сопровожденные портретами героев; в большинстве это были молодые люди, ровесники подружек и тоже воспитанники комсомола. Всякий раз по прочтении сводки девушки молчали, не подымая глаз. И утреннее чаепитие, хоть и без сахара, представлялось им теперь гражданским преступлением, настолько противоестественным для человеческой природы, что даже не упоминалось в перечне военных запретов... Внештатная и добровольная работа в фабричных яслях поблизости также не облегчала их угнетенного состояния.
Оно началось еще до бомбежек, когда Москва стала заметно пустеть, разгружаясь сразу с двух концов. С одной заставы прямо в бой, как и сто тридцать лет назад, отправлялись отряды народного ополчения и молодежь – на строительство оборонительных сооружений, а с вокзалов другой, стороны, в зауральскую глушь, – эшелоны заводского оборудования имосковской детворы во избавление ее от случайностей полуосажденной столицы. Теперь малышей увозили в переполненных автобусах, и город долгим прищуренным взглядом провожал их, затихших, как воробьи в дождик... причем все знали, что это еще наиболее поправимая из разлук...
Лишь внизу, под окнами дома 8-а, по-прежнему звучали детские голоса, отчего рождалась надежда, что положение на фронте обернулось к лучшему, и теперь постановление Государственного Комитета Обороны об эвакуации детей не успеет дойти до Благовещенского тупика. Но однажды в начале августа и после беспокойной ночи Варя проснулась как бы от толчка резко наступившей перемены. В рубашке, как была, она выглянула наружу, но не нашла там ничего угрожающего для жизни. Ее разбудило отсутствие привычного детского щебета, на весь день наполнявшего Варю праздничным ощущением бодрости и уверенности, множественности чего-то и достатка.
И едва осталась наедине с мыслями и пустым небом, Варе почему-то припомнился единственный лесок на Енге, точнее – ей одной известный, затянутый плауном лесной уголок, потому что лошкаревская молодежь предпочитала для прогулок соседний обрывистый мыс с нависшими над рекой соснами. И когда подруги разбредались с ребятами пошептаться или нежно погулять, сплетя похолодавшие руки, и Бобрынин тоже уводил свою девушку, всякий раз новую, – но никогда Варю! – она незаметно исчезала на скрытую в сосняке полянку и, расплеснув руки, бросалась навзничь, и лежала так, одна, большая и нескладная, как лодка бакенщика Ильи с раскинутыми веслами, глядя в небо над собой, пока оно не начинало слегка покачивать ее на своей материнской волне... Ей живо представилось, что теперь на том же самом месте лежит другой, еще теплый, еще легко можно было опознать его, даже с открытыми глазами лежит, но уже такой мертвый, что вот муравьишка ползет по лицу и взбирается на отускнелую роговицу зрачка, а тому безразлично. Варя пошатнулась и уронила что-то звонкое с подоконника при этом. Поля увидела ее скомканную на полу, с лицом в коленях.
– Да что с тобой, Варька?
– Не трогай меня... сейчас пройдет. Взглянула вниз – и закружилась голова.
Напрасно старалась Поля оторвать Варины руки от лица.
– Выпей глоток. Уж я решила спросонья, что опять летят... Сколько сейчас?
– У меня остановились. Убери воду. Рано еще, и воскресенье сегодня... спи.
Не сводя глаз с подруги, Поля подошла к балкону, Но ничего там уже не было: ни леска на Енге, ни убитого Бобрынина, а лишь громадный небесный простор, легкий, синий, беспощадный. И такова была прозрачность воздуха, отстоявшегося за ночь и по-осеннему пахнувшего укропцем, что даже сюда, на восьмой, доносился цокот копыт комендантского патруля. Перелом лета сказывался во всем, но, пожалуй, сильнее всего в пыльной, износившейся листве тополей... Вдруг Поля поняла все – детская площадка внизу была пуста, и сейчас крикливый каравай, в отличие от Вари будивший ее по утрам, показался ей самым вдохновенным симфоническим творением жизни.
– А ведь знаешь, это очень плохо, – сообразила Поля, снимая с веревки выстиранное накануне платье.
– Что плохо... что?
– На фронте. Представляю, что творится на железных дорогах: всё дети, дети... и железо им навстречу. И значит, это надолго, иначе их не стали бы увозить.
Тем временем Варя успела справиться со своим испугом:
– Конечно, это не на полгода... но, нет; и не навсегда.
Одевались, уже не торопясь никуда; они так сжились за эти полтора месяца, что нередко одни и те же мысли одновременно приходили им в голову. Так, обе с одинаковой горечью подумали, что отныне из-за выезда яслей они могли бы спать хоть до обеда... Когда сквозь стенку к ним просочился детский смешок, девушки разом бросились туда, захватив последнюю конфетку: расплатиться за радость.
Они ошиблись, Наталья Сергеевна готовила прощальный завтрак внучке, почти снаряженной в дорогу. Никогда девочка не выглядела такой оживленной. Незадолго перед тем они посетили зоопарк, и больше всего Зоеньке понравился лев, огрызавшийся на муху. Вся квартира знала историю этого старого бабушкиного должка, задержанного из-за количества порванных чулок у москвичек. Сидя с зеркальцем в кроватке, девочка наводила солнечный лучик на бабушкин рот, звонко радуясь удачам... и действительно, было что-то очень похожее в том, как бабушка пыталась сцапать дрянного зайчишку, и тот вывертывался, неунывайка, и снова резвился по ее лицу.
– Ты поедешь по веселой реке на красивом пароходе, – говорила при этом Наталья Сергеевна, выбирая последние кетовые икринки из опустевшей масленки. – Каждую ночь ты будешь ночевать на новом месте, пока не доберетесь до белого домика на высокой зеленой горе. У тебя будут тысячи подруг, и вас обучат самым хорошим песенкам на свете... – Здесь девочка задала свой какой-то встречный вопросик, и бабушка отвечала с удивительным для такой минуты спокойствием, что нет, только больные пароходы ночуют в гараже, а здоровые, как и люди на войне, работают на открытом воздухе день и ночь. – Да войдите же наконец... у вас что-нибудь срочное, девушки? – раздраженно сказала она на повторный шорох за приотворенной дверью.
Никогда подруги не заставали у Натальи Сергеевны такого беспорядка: зимние вещи валялись на полу, а не политая с вечера геранька повяла на подоконнике, верно от предчувствия разлуки с маленькой хозяйкой. Варя удачно пояснила свой приход желанием проститься перед отъездом на земляные работы. Соседка смягчилась, предложила сесть, – Поля примостилась на поручень кресла рядом с Варей. По старой памяти, она пощурилась на себя в овальное зеркало с трещиной наискосок, откуда ей снова ответили тем же две одинаковые, похудевшие, но уже вполне московские девчонки, и Поле было приятно, что с нее постерся наконец смешной лак провинциальной новизны.
– Вы едете вместе с Зоенькой? – спросила Варя у соседки.
– Нет, я остаюсь в Москве.
– Я потому справляюсь, что... вам-то уж незачем подвергать себя московским опасностям, которых так легко избегнуть.
– Ну, я столько повидала в прошлом, товарищ Чернецова, что впереди остались сущие пустяки, – улыбнулась Наталья Сергеевна. – Не может быть, чтобы в таком большом деле, как война, даже для старухи не нашлось бы подходящей нагрузки... не отнимайте ж у меня это! Кроме того, из близких у меня никого нет на фронте, а это нехорошо. – И сразу предложила присмотреть за комнатой подруг на время их отсутствия, тем более что приняла подобные же поручения от доброго десятка жильцов, ушедших на фронт; некоторые даже доверили ей деньги на оплату коммунальных расходов, под личную расписку, разумеется, как сразу, с внезапным оттенком сухости оговорилась она. – Словом, на семейном совете мы с внучкой приняли окончательное решение разъехаться... на некоторое время.
– Но Зоенька будет скучать без бабушки, – сказала Поля, любуясь на просвет нежными, как сияние, кудряшками на затылке у ребенка.
– О, вряд ли... там ей будет лучше, без меня. – По мнению Натальи Сергеевны, чрезмерная привязанность стариков со временем неминуемо становится обузой для их любимцев. Кроме того, за последние полгода зрение ее настолько подпортилось, что пришлось бы отказываться от заказов, если бы количество их не сократилось само по себе; своевременная разлука избавит девочку от нежелательного зрелища человеческого разрушенья, а впоследствии и от других горьких и утомительных обязанностей. – Насколько я вижу пока, вы опять не согласны со мной, милый товарищ Чернецова?
Обычно так начинались их частые отвлеченные споры. Варе многое и нравилось в этой жестковатой, немногословной женщине иного века и чужой среды, но почему-то всякая мысль ее немедленно будила в ней дух противоречия.
– Но это уж совсем неправильно, – тотчас зацепилась Варя. – У вас получается, что вроде как родители и не должны рассчитывать под старость на хлеб от своих детей... так? Но ведь людям ничто не дается даром, и к некоторым обязанностям их надо приучать с детства. – Она даже привела в пример потомков, которые получат в свое распоряжение чистый, стерильный от зла мир не просто так, по юридическому порядку наследования, а лишь под строгим обязательством сберечь и умножить исполинский труд отцов. – Неправильно, а пожалуй, и вредно для них же... Не отрекайтесь же, Наталья Сергеевна, от своих священных прав, для охраны которых специально создаются суровые законы!
Кивая и улыбаясь на пылкую девушку, молодую и справедливую, но бездетную, Наталья Сергеевна укладывала приданое внучки в тесный холстинковый рюкзак с вышитой на клапане собачкой, причем явно намеренно задерживала в пальцах эти крохотные пушистые вещицы, словно хотела запомнить их через прикосновение. Она отвечала Варе, что самые высокие из законов – это записанные в сердце, подразумевающиеся, и чем больше таких у общества, тем выше его моральный уровень. Именно поэтому товарищ Чернецова, как будущая учительница, и должна не только привить, а сделать бессознательной потребностью своих воспитанников основные гражданские добродетели... такие, как любовь к отечеству, уважение к старикам, хозяйскую бережность к социалистическому достоянию.
– Конечно, Варя, все зависит от личного вкуса... но вряд ли мне когда-нибудь потребуется защита советского суда. Все равно я не смогла бы проглотить кусок, добытый от продажи с торгов имущества моей Зоеньки! – закончила она и озабоченно взглянула на будильник.
Такого поворота Варя предвидеть не могла.
– Вам пора отправляться? – и приподнялась, с уважением глядя на старуху.
– Нет, сидите. В нашем распоряжении еще целых семь минут. Мы с Зоенькой успеем проститься на пристани. – И, не дожидаясь, пока Варя соберется с силами для дальнейших возражений, обратилась к ее подруге: – Вы уже повидались с отцом... хотя бы для проверки ваших суждений о нем?
– Я была, но не застала дома, – краснея, призналась та.
– Непременно застаньте. – Кажется, присутствие Зоеньки толкало ее на искренность. – Вопреки всему, что мне известно о нем, ваш отец представляется мне достойным человеком и добросовестным ученым.
– Вы читали его сочиненья? – стремительно вырвалось у Поли.
– Нет, но... как я уже сказала прошлый раз, мне довелось неоднократно встречаться с этим... ну, его противником. Кроме того, я слышала... правда, случайно и отрывками, ваш разговор с ним в бомбоубежище. К сожалению, у меня нет времени рассказать подробней, но критик вашего отца принадлежит к той породе увлекающихся судей, которые видят действительность не такою, как она есть, а скорее как она отражается в их подозрительной и... не всегда благожелательной натуре. Такие не способны к объективным оценкам и к старости жестоко расплачиваются за свои ошибки и увлечения. Впрочем, у вас на зависть прямая дорога впереди, Поля... вам не придется в потемках нашаривать цель существования и, следовательно, оступаться и падать, как... ну, иным из нас. – Она говорила все это, поглядывая на дверь, и, видимо, в стремлении смягчить свой таинственный намек советовала Поле не торопиться с выводами о своем отце, потому что они могут повести к необдуманным поступкам и поубавить ее веру в людей.
– Это вы все верно говорите. Смотря как упасть, а то ведь на всю жизнь ушибешься, – соглашалась Поля невпопад, потому что никак понять не могла Наталью Сергеевну, которая старалась одновременно и обелить перед собою и наказать этого человека за что-то давнее и непрощенное, а Варя вдобавок связала это с тем, как Наталья Сергеевна все поглядывала на дверь при этом, словно ждала кого-то, кто не шел и все ниже падал в ее глазах.
– Вот и все. Теперь собирайся, Зоенька, нам пора, – сказала соседка и стала прилаживать ей на спинку вещевую сумку с привязанной сбоку эмалированной кружкой.
Девушки отправились проводить последнюю партию московской детворы, но все кончилось рано, и тот знойный бездельный августовский денек навсегда врезался в Полину память. Не хотелось возвращаться в опустевший дом после прощания. Они пошли бродить по городу, побывали на главнейших столичных площадях, навестили Пушкина и всё старались найти такую точку, чтобы он посмотрел на них; погоревали о Большом театре, обезображенном маскировкой, причем в обсуждении летящих коней на фронтоне принял участие безусый артиллерист с зенитной батареи на прилежащем сквере; улыбнулись кремлевским звездам и с прощальным волнением прослушали полностью отыгрыш башенных курантов. Был всего лишь полдень, а поезд на Брянск отходил близ полуночи. Мимо с лязгом кузовов проносились армейские грузовики, а из-за облаков поминутно лихорадил вой самолетов, набирающих высоту; все неслось куда-то по громадным государственным заданиям, все – кроме них двоих, обреченных на безделье. Варя вслух выразила предположение, что при коммунизме не будет выше кары за наиболее низкие поступки, чем отлучение от труда.
Спустившись к реке, они двинулись по пустынной набережной в расчете хоть как-нибудь растратить свое постылое богатство. Тогда-то Поля и придумала зайти в кино напоследок: хотелось хотя бы через очередной выпуск хроники соприкоснуться с войной и, может быть, увидеть одного лошкаревского паренька, давно не славшего ей своих треугольничков. И действительно, едва с экрана сошли саперы, чинившие мост на фронтовой переправе, а тульский оружейник, повесив замок на дверях, отправился на передовую с двумя взрослыми дочерьми, немногочисленным зрителям было показано фронтовое выступление артистов. Тут-то среди солдат, на опушке сильно побитого лесишка, Поля с жутковатым холодком отыскала Родиона; он слушал певца с опущенной головой, поглаживая винтовку на коленях. Хотя он сидел спиною к Поле, но даже во тьме, на ощупь, среди тысячи подобных она опознала бы его по косичке запущенных волос, сбегавших в юношескую ложбинку затылка.
Это полминутное киновидение, похожее на дождик в сумерках, надолго наполнило Полю свежей радостью. Оно неотступно сопровождало ее, когда, ликуя, поднималась с Варей за вещами по затемненной лестнице и когда из теплушки глядела на покидаемую Москву с аэростатами заграждения в гаснущем небе... да и позже, когда, выбившись из сил от борьбы с вихлявой, плохо прилаженной лопатой, присаживалась на край траншеи перевести дыхание, даже когда, замертво падая от усталости, черпала солдатскую кашу, сваренную в настоящей походной кухне. О, Родион был живой, живой... и верилось по-ребячьи, что, как только дослушает фронтовой концерт, тотчас и вернется к ней, на уединенную лошкаревскую голубятню.
Вот если бы где-нибудь, хоть во сне, вот так же посмотреть на маму!
2
Первое время, пока неумело толклись на месте, едва поспевая от зари до зари выкинуть из траншеи положенные два кубометра грунта, они еще разнились чем-то друг от друга, но потом, когда платьишки обтрепались, а поверх загара впиталась глиняная пыль, такая густая, что и гребнем не разодрать волос, все эти московские девушки, на многие километры раскиданные под сжигающим небом, стали походить на сестер – с тем дополнительным священным сходством, что достигается через одинаковый и беззаветный труд войны. У каждой из них имелись свои неповторимые печали, но они без следа растворялись в упорном, побеждающем множестве и поровну распределялись на всех, чтобы потом вытечь вместе с потом, начисто выгореть на солнцепеке. Через неделю, как только Поля втянулась в тягости, выпавшие на долю ее поколения, старая болезнь воротилась к ней с новой силой.
Из-за приближения фронта работа велась круглые сутки на сменку. И ночью не стихал ожесточенный скрежет лопат, смешанный со скрипом повозок и мычанием угоняемых в тыл гуртов: шоссе проходило в полукилометре от фронта работ. Подруги уходили спать на откос в дальнем конце уже готового противотанкового эскарпа; накаленная за день глина жгла сквозь разостланную плащ-палатку. Прямо перед ними, волшебно и чуточку не дотянувший до лебединого озера, мерцал в луне прудишко, обсаженный осокорями и с гадким илистым дном; из-за отсутствия леска в окрестности в него-то и бухались девушки с разлету от одного воздушного стервеца, что повадился к вечерку в два-три захода на бреющем полете пугать работающих женщин. Не иначе как завсегдатай кегельбана откуда-нибудь из-под Цвиккау, он был настолько постоянен в своей неодолимой страстишке, что все очень скоро признали его желтобрюхую неопрятную машину по круглому масляному пятну позади белого, в диске, креста и по особо закатистому, с переходом в хохоток, звуку его пулемета. Ночью он не прилетал, не видно попаданий ночью, – и оттого нельзя похвастаться в письмах к старенькой маме эпизодами своей безопасной и увлекательной охоты.
В ту ночь подруги лежали, не ощущая тела от усталости и слушая крадущиеся звуки совсем близкой войны с пропадающим среди них плачем младенца из колхозного табора, ночевавшего под насыпью у шоссе.
– Чего ты не спишь? Спи... Завтра с утра переходим на новый участок.
– Душно... боже, как хорошо сейчас на Енге! Если бы ты знала, как мне хочется нырнуть в реку с обрыва и какая же я грязная, Варя...
– Зато ты у меня стала ужасно самостоятельная... хоть и забавная, вся в полоску. – Она имела в виду цветные струйки с Полина беретика, пролиновавшие ей шею и плечи после утреннего дождя. – Ну, о чем ты думаешь сейчас?
Поля сказала, что, по ее мнению, московская соседка неспроста отпускала внучку в эвакуацию без себя: в сущности, Наталье Сергеевне оставалось в жизни только умирать, и бесчеловечно совершать это на глазах у любимого существа. Несомненно, она что-то предчувствовала в прошлый раз и, конечно, после разлуки с Зоенькой перестала спускаться в подвал по ночам, и... может быть, именно в эту минуту большая черная капля, сверкнув стабилизатором в луне, проходит перекрытия дома 8-а в Благовещенском тупике.
– Я все продумала, Варя: умирать надо в одиночку. Звери это знают лучше нас. В этом смысле они деликатнее людей.
Приподнявшись на локте, Варя встревоженно взглянула на подругу, лежавшую на спине с закинутыми за голову руками. Она накричала бы на нее, если бы не эта серебристая дорожка, сбегавшая из глаза по Полиной щеке...
– Знаешь, обожаемое существо, мне опять не нравятся ни направление твоих мыслей, ни тон, каким ты их высказываешь, – строго сказала Варя. – Напротив, я совершенно уверена, что через сутки старуха уже укатила вслед за внучкой. Ты не представляешь, на что способны бабушки из этой среды... Кроме того, у тебя остались в Москве тысячи более близких, чем Наталья Сергеевна, кровь стынет в жилах от раздумья, что может случиться с ними. Почему именно она одна вспомнилась тебе?
Впрочем, ей удалось полегоньку распутать Полин клубочек. Судя по всему поведению Натальи Сергеевны в утро расставанья, она знала о Грацианском гораздо больше, чем высказала тогда в предотвращение какого-то темного, грозящего Поле зла. И как ни стыдно было из личных соображений пускаться в такие доводы, но в случае гибели Натальи Сергеевны Поля утрачивала последнюю возможность разгадать этого человека и свалить с себя груз отцовской тайны.
– Слушай, я решительно предлагаю тебе бросить раскопки этой мертвечины, – брезгливо приказала Варя. – Поверь, в случае хоть капли какого-нибудь правдоподобия, этой историей давно заинтересовался бы следователь по особо важным делам. А я-то надеялась, глупая, что окончательно вылечила тебя... моей поездкой в Лесохозяйственный институт. Да кто же это сломал тебя так, Поленька? Неповинная в чужом прошлом, ты можешь бесстрашно глядеть любому человеку в лицо в этой стране.
– Любому? – прищурилась Поля. – Ха, ты говоришь... любому?
– Да... – чуть дрогнула Варя, смутясь насмешливого блеска в ее зрачке, и опустила глаза. – Я считаю Родиона достаточно разумным пареньком... и в конце концов он не получает от твоего папаши миллионного приданого, нажитого каким-либо предосудительным способом.
– А мне этого и не надо! – с недоброй страстностью сказала Поля. – Я говорю: мне и не надо заглядывать кому-то в лицо, чтобы меня простили за нечто, чего я даже не знаю, И не беспокойся: как-нибудь выздоровею и сама, без следователя. Имей в виду... на этот раз речь идет не об отце. Я много думала и прихожу к заключению, что когда затяжная война, то убивают не только на фронте...
– Не понимаю. И вообще последнее время ты часто болтаешь как в лихорадке, на непонятном языке. Переведи же мне все это на человеческий... – взмолилась Варя.
Но Поля и сама не располагала пока ничем, кроме догадок; подобно детям, она переставляла во всех сочетаниях азбучные кубики известных ей второстепенных обстоятельств в расчете добиться наконец доступного ее пониманью слова. Оно уже получалось порой, но для проверки его нужно было торопиться в Благовещенский тупичок, прежде чем рухнет туда из самолетного люка не только изготовленная, как ей казалось тогда, но уже и на воздух поднятая фугаска.
Разговор оборвался из-за донесшейся к ним воркотни дальнобоек.
– Слышишь?.. – упавшим голосом спросила Варя.
– Боюсь, что скоро потребуются наши окопы. Да, мы слишком много времени тратим на всякую болтовню. Завтра же подниму вопрос о повышении нормы хотя бы до двух с половиной кубометров.
Разговор о Полиных раздумьях подруги возобновили недели через две после возвращения домой...
То ли от неловкости, что ее застали в комнате у девушек, то ли раскаиваясь в допущенной при расставании откровенности, Наталья Сергеевна встретила Полю с суховатостью, исключавшей всякую возможность посторонних вопросов. Вручив ключ и квитанцию на оплату жилой площади, она извинилась, что без разрешения жиличек прибрала их комнату: дни стояли пыльные, а рамы не закрывались круглые сутки, чтоб не продавило стекол взрывной волной. «Да, пожалуйста, пожалуйста... какие пустяки!» – в голос, виновато и невпопад сказали подруги, потому что обе ошиблись в своих предположениях относительно соседки. Наталья Сергеевна не убежала вслед за внучкой и была невредима, как вся остальная Москва.
В отмену девичьих опасений, выяснилось при беглом осмотре, столица стояла нерушимо. Кремлевские часы по-прежнему вели хронометраж истории, Пушкин обдумывал стихи о героизме потомков, бронзовые кони на театре рвались куда-то... прямо на выставку сбитых в Подмосковье вражеских самолетов, на площади внизу. Благодаря любезности опять подвернувшегося лейтенанта девушки смогли заглянуть в кабину, на обгорелое сиденье, потрогать рычажки и кнопки, с помощью которых осуществляется убийство. Поля зашла и с другой стороны, но нет – знакомого масляного пятна на фюзеляже не оказалось. Значит, тот еще летал, еще не отказался от мысли прострелить Полю Вихрову во славу своего фюрера. И вдруг, словно вполне вещественно в душу ей вложили это знание, Поля поняла, что скоро, хотя и не завтра, она встретится со своим убийцей один на один, если не считать смерти, которая будет терпеливо ждать на табуретке поодаль.
Стоило закрыть глаза, и Поля в подробностях представляла себе эту встречу со старым миром, жуткую и тем пленительную, что это и будет ее экзамен на человеческое звание. Поле не дано было знать, какая сила перекинет ее из благополучной Москвы на край прифронтового села, всего лишь накануне занятого немецкой частью... верно, тот же вихрь, что гонит из края в край эшелоны железа и людей, что холодит лицо при развертывании газетного листа и временами как бы приотрывает от земли, втолкнет ее в обыкновенную крестьянскую избу, где еще сохранились лоскутные, такие нарядные от солнца дорожки на полу, а на окнах – привычные для русской деревни растеньица в побитых крынках, скажем ночная красавица и ванька мокрый, с поникшими от жары листочками; жалостный образ увядшей гераньки в день отъезда соседкиной внучки не покидал ее. Конечно, Полю втолкнут с размаху, так что упадет плашмя, и, пока комочком будет валяться в ногах у главного палача, она с молниеносной решимостью, как это бывает в подобных случаях, уточнит план бегства. Надо будет бесконечно глупым голоском попросить разрешения полить эти бедные зеленые создания, и, конечно, фашисты и их приятельница на табуретке поддадутся на ее уловку в расчете, что тогда-то советская девчонка и раскроет им сокровеннейшие замыслы Красной Армии, ее полководцев. С позволения палачей она приблизится к окну, а тогда ей останется только вышибить телом стекло и промчаться пятьдесят шагов до обрыва, откуда она и бросится в свою Енгу, крылато – как Ермак и Чапаев... А если не успеет, то в кратком, предварительном разговоре уж она выскажет хлыщеватому господину со свастикой на рукаве все, что думают о нем и ему подобных девчата Советской страны!
В общем, это было наивное мечтание о мужестве, в разных вариантах знакомое многим молодым людям, так же как полет во сне, признак настающей зрелости. В связи с этим невольно вспоминался один драгоценный вечер на Енге. Как-то вскоре после выпускных экзаменов Поля сидела с Родионом на знаменитом мысу Влюбленных, над речным простором, причем, вся в мать, озябла немножко, и Родиону пришлось накинуть на нее край старого почтальонского плаща, сохранившегося от отца в фамильной укладке. Было так чудесно кругом, что Поля даже позволила Родиону ужасно горячей рукой придерживать на ее плече дальний краешек крылатки, чтоб не сорвало ветром, если бы случился невзначай. Это нисколько не мешало им обсуждать некоторые наболевшие мировые проблемы и среди них свойственное юности влечение испытать себя на чем-нибудь страшном и большом, как это делали Максим Горький и другие выдающиеся деятели человеческого прогресса. Помнится, молодые люди уже договорились без недоразумений, что мыслящий человек может узнать свою цену лишь через количество труда или глубину самоотверженности, на какие он способен. Однако, едва коснулись душевного порыва, с каким герой, подобно птице, кидается в подвиг с высоты, Родион высказал глупейшее предположение, что это доступно не каждому, а только поработавшему над собой, потому что якобы для броска с той огневетренной, как он выразился, высоты – надо еще добраться до нее. Такой оговоркой он явно ограничивал массовость столь желательного явления, как подвиг, и Поля в обиде за сверстников даже спихнула с плеча Родионову руку и обозвала его наиболее жалкой фигурой нашего времени... неужели затем лишь, чтобы теперь заочно согласиться с ним?
В самом деле, война уже не раз искушала Полю всякими блистательными возможностями благородных поступков, какие редко подвертываются в мирные дни, но всегда что-то тормозило ее – не то чтобы отсутствие убежденности или сомнение в готовности своей к подвигу, то есть недостаток презрения к боли, а нечто совсем другое. Так, ей казалось, между прочим, что смерть есть величайшая трибуна, и не к лицу советскому человеку уходить из жизни без последнего обличительного выступления в адрес тех, кто умерщвляет все живое, чего ни коснется хотя бы дыханием. Нет, она еще не знала, какие именно неповторимые, видно, несозревшие пока слова кинет она в лицо своему убийце.








