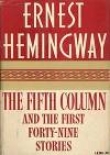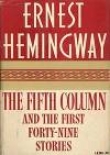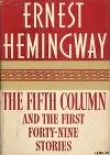Текст книги "Прощай, Хемингуэй!"
Автор книги: Леонардо Падура
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
– В чем дело? – заговорил он, и Конде удивился: это не был старческий голос.
– Я хотел бы поговорить с вами, Торибио.
– А кто ты такой?
– Вы меня не знаете, но мой дед был вашим другом. Его звали Руфино Конде.
Старик сделал усилие, чтобы улыбнуться.
– С ним надо было держать ухо востро. Прохвост был, каких поискать…
– Знаю. Я помогал ему с петухами.
– Руфино ведь помер, правда?
– Уже давно. После того, как запретили бои. Петухи были главной его страстью в жизни.
– Моей тоже. Даже не верится, что столько лет прошло с тех пор, как запретили бои. Вон все уже поумирали. Не знаю, какого дьявола я-то еще живу. Ведь последнее время почти ничего не вижу.
– Сколько вам лет, Торибио?
– Сто два года три месяца и восемнадцать дней…
Конде улыбнулся. Сам он иногда не мог вспомнить собственный возраст. Но для Торибио Стриженого каждый день имел значение, ибо все больше приближал его к концу этого на удивление долгого подсчета. В самых ранних воспоминаниях Конде Торибио представал уже стариком и непременно рядом с петухами: он осматривал птицу, проверял у нее шпоры, расправлял крылья, определял силу ножных мышц, осматривал когти, открывал петуху клюв, ощупывал ему шею, а затем ласково гладил птицу, обреченную сражаться и умереть. Руфино, редко хваливший своих соперников, считал Стриженого одним из лучших знатоков петушиных боев на Кубе. Наверное, именно поэтому Хемингуэй нанял Торибио, и на протяжении многих лет тот был единственным тренером его бойцовых петухов.
– Сколько лет вы проработали у Хемингуэя?
– Двадцать один год, вплоть до его смерти. И его петухи потом перешли ко мне. Это было целое состояние. Папа их мне подарил. Так и написал в своем завещании.
– Хороший он был человек?
– Тот еще сукин сын, но петушиные бои любил. И я ему был нужен, понимаешь?
– А почему он сукин сын?
Торибио Стриженый ответил не сразу. Казалось, он тщательно обдумывает, что сказать. Конде постарался представить, как функционирует его мозг, сформировавшийся в XIX веке, в доинформациогную эру, когда еще не было кино, самолетов и шариковых ручек.
– Как-то раз он взбеленился и оторвал голову петушку, сбежавшему во время тренировочного боя с арены, которую мы соорудили в «Вихии». Я не выдержал и полез с ним драться. Мне от него досталось, ну и ему от меня тоже. Я сказал, пусть засунет своих петухов себе в задницу, и назвал его преступником, потому что с бойцовыми петухами так не поступают.
– Но когда петухи получают в бою серьезные раны, к примеру лишаются глаз… то хозяева обычно приканчивают их.
– Это другое дело: бой есть бой, и ведется он между петухами. Прикончить птицу, чтобы она не мучилась, не то же самое, что убить ее со злости.
– Вы правы. А что было потом?
– Он прислал мне письмо, в котором просил прощения. Но с мозгами у него было не в порядке, потому что он не сообразил, что я не умею читать. Я простил его, и он нанял для меня учителя, который обучил меня грамоте. Но от этого он не перестал быть сукиным сыном.
Конде улыбнулся и закурил.
– Почему вас называли Стриженый?
– Это петушатники из моего городка так меня прозвали, когда я был еще мальчишкой. Однажды меня подстригли машинкой, ну, знаешь, какой лошадей стригут, после нее остаются такие коротенькие волосы торчком, и вот кто-то из них увидел меня и говорит: «Гляди-ка, вылитый стриженый петух». С тех пор и пошло… Я ведь всю жизнь провел рядом с петухами.
– Мой дед очень уважал вас как петушатника.
– Руфино был один из лучших. Правда, хитрый, стервец. Проигрывать не любил.
– Он говорил, играть надо тогда, когда у тебя преимущество.
– Потому-то он никогда и не бился с моими петухами. Я знал, что он смазывает своих птиц перед боем. Наносил себе на шею толстый слой вазелина и, пока петухов купали и взвешивали, то и дело хватался рукой за загривок, как будто у него шея болит, а потом, когда брал в руки петуха, прямо-таки его намыливал… Такой был хитрюга.
Конде снова улыбнулся. Он любил слушать подобные истории о своем деде. Они переносили его в утраченный мир, в жизнь, которая на свободной территории его памяти очень походила на счастье.
– А Хемингуэй разбирался в петухах?
– Ясное дело… Я же его и обучил, – заверил Торибио и попытался поудобнее устроить в кресле свой скелет. – Сам посуди, разбирался ли он, если перед своим отъездом с Кубы, перед тем как застрелиться, он говорил мне, что, когда закончит книгу про тореро, начнет писать другую, про петушатников. Я должен был быть ее главным героем, он собирался рассказать в ней о моих лучших птицах.
– Это была бы хорошая книга.
– Хорошая, что и говорить, – подтвердил старик.
– А он был азартный? Играл по крупной?
– Еще бы, он прирожденный был игрок. Ставил на качках, на петушиных боях… И ведь везло сукину сыну – почти всегда выигрывал. А как выиграет, напьется и иной раз спустит либо раздарит все выигранные деньги. Они для него ничего не значили, главным для него были сами бои. Он просто бредил ими и восхищался отвагой бойцовых петухов. Любил наблюдать за тем, как петух, лишившись глаз после двух метких ударов шпорой, продолжает биться, не видя соперника. Это зрелище сводило его с ума.
– Странный он был тип, верно?
– Сукин сын, я же сразу тебе сказал. По мне, так внутри у него сидел какой-то демон. Потому он и пил столько… Чтобы утихомирить своего демона.
– Да, наверное… А вы жили в усадьбе?
– Нет, никто из его работников в усадьбе не жил. Даже Рауль, который постоянно при нем находился и был как бы тенью Папы. А потом, ведь все, за исключением Рауля и меня, были местными, из Сан-Франсиско. Рауль, к примеру, жил совсем рядом, чуть ли не напротив усадьбы.
– А по ночам Хемингуэй оставался в доме один?
– Ну, не совсем один, с женой. И у него почти всегда были гости. Правда, уже в конце, когда Папа состарился, он иногда просил Каликсто остаться посторожить ночью у нижнего входа или в бунгало, где у него был гараж.
– Вот как? А я думал, он сам перед сном обходил усадьбу.
– Ну, это случалось, когда он не слишком напивался. И все же Мисс Мэри чувствовала себя спокойнее, когда был сторож…
Что-то не укладывалось в выстроенную Конде схему: все было гораздо проще без этого ночного дежурного, о котором ему никто не сказал, даже всезнайка Тенорио. Но возможно, на сей раз память подвела Торибио. Поэтому Конде продолжал допытываться:
– Так кто все-таки был у Хемингуэя ночным сторожем в последние годы?
Торибио немного приподнял веки и попытался сфокусировать взгляд на фигуре своего собеседника. По-видимому, это далось ему с превеликим трудом.
– Ты полицейский, что ли?
– Нет-нет, я не из полиции. Я, в общем-то, писатель…
– Твою мать, уж больно ты смахиваешь на легавого. Я их на дух не принимаю. Не выношу, и все тут.
– Я тоже, – с легкостью заверил Конде, не слишком погрешив против истины.
– Ну ладно… Понимаешь, я однажды целых три дня провел за решеткой по вине одного легавого: тот застукал меня на подпольных боях. Вот сука… Как будто важные шишки из правительства не устраивают петушиные бои… Так о чем ты меня спрашивал?
– О стороже. Кто у него был сторожем в последние годы?
– Ну, в самом-самом конце, перед тем как они уехали и Папа застрелился, там был некий Иснага, здоровенный такой негр, он приходился двоюродным братом Раулю. А сперва-то сторожил Каликсто, он вообще был на все руки, пока в один прекрасный день не ушел…
– В целом ведь люди подолгу работали в усадьбе?
– Еще бы им не работать, если Папа так здорово платил, даже очень здорово. От него никто не хотел уходить. Как-то мы подсчитали, что он один содержал около тридцати человек…
– А почему ушел Каликсто?
– Почему – не знаю. Знаю, как это произошло. Однажды под вечер они с Папой поднялись на верхний этаж Башни и проговорили там невесть сколько времени. Видать, не хотели, чтобы кто-нибудь их подслушал. А вскоре после этого Каликсто уехал. Вообще уехал из Сан-Франсиско. Что-то, видно, серьезное приключилось между ними, не иначе, ведь они знали друг друга очень давно и познакомились еще до того, как Каликсто ухлопал одного парня и его посадили.
Конде ощутил знакомую дрожь, какой не испытывал с тех пор, как ушел из полиции. Стало быть, верно, что полицейский никогда не бывает бывшим? – задумался он, хотя знал ответ: ни полицейский, ни закоренелый мерзавец, ни извращенец, ни убийца не обладают правом на приставку «экс».
– Что это за история с убийством?
Старец медленно проглотил слюну и потер руки. Ни с того ни с сего у Конде возникло ощущение, что кто-то в глубине квартиры слушает их разговор.
– Я не больно-то много об этом знаю. Каликсто вообще был довольно замкнутый тип, да и характер у него… Знаю только, что у него произошла ссора в каком-то баре и он убил человека. Отсидел чуть ли не пятнадцать лет, а когда вышел, Папа дал ему работу, потому что знал его еще до тюрьмы.
– И куда потом делся Каликсто?
– Я его больше не встречал. Не знаю, как Руперто. Он был у Хемингуэя капитаном его катера и чаще бывал в Гаване. Помнится, однажды он что-то такое болтал насчет Каликсто, или мне так кажется…
– Каликсто, скорее всего, уже умер.
– Наверняка, он же был старше меня. Так что…
Торибио умолк, и Конде не спешил задавать очередной вопрос. Старику было явно не по душе поминать стольких покойников. Наконец Марио взглянул в его глаза, погруженные в глубокое раздумье, и решил перейти в атаку:
– Торибио, не слышали ли вы случайно, чтобы кто-нибудь в «Вихии» упоминал про некоего типа из ФБР?
Старик заморгал:
– Кого?
– Ну, сотрудника американской полиции. Она называется Фэ-бэ-эр.
– А, ФБР… Понятно. Да нет, что-то не припоминаю такого.
– А где в усадьбе находился загон для петушиных боев?
– Чуть пониже дома, между подъездной дорогой и гаражом. Аккурат под манговым деревом…
– Такое старое дерево… Белое манго, да?
– Оно самое.
– Недалеко от фонтана?
– Примерно так.
Конде едва сдерживал ликование. Выстрелив наугад, он неожиданно попал точно в цель.
– А почему вы называете Хемингуэя Папой? Я имею в виду, если он был такой сукин сын…
Старик осклабился, обнажив темные десны, усеянные белыми пятнышками.
– Он был такой чудной, второго такого не сыскать. Мог совершенно спокойно отлить прямо в саду или испортить воздух в присутствии гостей. А иногда остановится, как будто задумался о чем, и давай ковырять в носу, вытаскивать козявки и скатывать их в шарики. Терпеть не мог, когда ему говорили «сеньор». Зато платил больше, чем другие богатые американцы, и требовал, чтобы его называли Папой… Говорил, что он для всех нас как папа…
– Ну, а вам Хемингуэй чем-то помог?
– Помог? Да вроде нет. Я хорошо работал, он мне хорошо платил, вот и все. Он говорил, что коль скоро он лучший в мире писатель, то и петушатник у него должен быть лучший в мире. Потому-то он и попросил у меня прощения после той стычки.
– Кому из вас Хемингуэй больше всего доверял?
– Раулю, тут и говорить нечего. Если бы Папа попросил подтереть ему задницу, Рауль выполнил бы его просьбу не моргнув глазом.
Слабый шорох за стеной подтвердил подозрения Конде насчет того, что их подслушивают. Однако он не чувствовал себя вправе подойти к двери и распахнуть ее. Но кого из семейства Торибио мог заинтересовать их разговор, состоявший в основном из рассказов старика, наверняка хорошо известных его домочадцам? Конде терялся в догадках и потому продолжил расспросы, деля свое внимание между Торибио и вероятным тайным слушателем.
– Хорошо вам работалось в усадьбе?
– Да, особенно после той ссоры. Хемингуэй понял, что я мужчина, и относился ко мне с уважением… Да и вообще там можно было увидеть много интересного, такого, что украшает нашу жизнь.
– Что, например?
– Много чего… Никогда не забуду то утро, когда я увидел американскую артистку, ну эту его знакомую, которая частенько приезжала в усадьбу…
– Марлен Дитрих?
– Такая молоденькая американка…
– Ава Гарднер?
– Он называл ее дочкой, а я – галисийкой,[6]6
Галисийцами на Кубе называли не только уроженцев Галисии, но в целом испанцев.
[Закрыть] потому что кожа у нее была светленькая, а волосы черные. И вот однажды я видел, как она купалась голая в бассейне. Вместе с ним, и оба были в чем мать родила. Я как раз собирал сухую траву, чтобы устроить гнездо для наседки, и просто остолбенел. Галисийка подошла к бортику бассейна и стала снимать с себя все подряд. Осталась в одних трусах. И как ни в чем не бывало заговорила с ним, а он уже был в воде. Такие сиськи, я тебе скажу… А перед тем как спрыгнуть в воду, она и трусики скинула. Вот какая дочурка была у Папы.
– Черные были трусики? – Стремясь выудить из старика все, что только хранилось в его памяти, Конде напрочь забыл о тайном слушателе.
– Откуда ты знаешь? – недовольным тоном спросил Торибио.
– Я же писатель. А писателям полагается кое-что знать. Ну и как она тебе, ничего?
– Ничего? Какое там, на хрен, ничего! Она была как ангел, вот ей-богу, чистый ангелочек… И пусть Господь меня простит, но мой сучок сразу подскочил, как только я такое увидел: стоит она голенькая, нагнувшись, сиськи наружу, а кожа такая нежная, и рыжеватые волосики внизу поблескивают… Это было уже слишком… Ну а потом, когда они начали дурачиться в бассейне, я ушел. Это уже другая история.
– Верно, другая. А как же его жена?
– Мисс Мэри, конечно, знала о Папиных выходках. Однажды он поселил в усадьбе итальянскую принцессу, которая сводила его с ума. Он не рыбачил, не устраивал петушиных боев, не писал – вообще ничего не делал. И целыми днями не отходил от нее, словно старый верный пес, а когда заговаривал с нами, все время злился… Но Мисс Мэри ничего не говорила, молчала. В общем-то, она жила как королева.
Конде закурил еще одну сигарету, закрыл глаза, стараясь представить себе стриптиз Авы Гарднер, и почувствовал, как у него дрожат ноги. Роскошная картинка, от которой скоро совсем ничего не останется: Хемингуэй умер, Ава умерла, Стриженый вот-вот умрет. Выходит, бессмертны одни лишь черные трусики?
– Я сейчас уйду, Торибио, но прежде скажите мне вот что… Как по-вашему, Хемингуэй, убивавший львов и всяких других зверей, даже, оказывается, петухов, способен был убить человека?
Старик беспокойно зашевелился в кресле, заморгал и снова устремил взгляд на вставшего со своего места Конде.
– Не знаю, что ты за писатель, но то, что ты еще и полицейский, это точно. Меня не проведешь… Но я все равно тебе отвечу. Нет, я думаю, что он не был на это способен. Пошуметь он мог, любил похвастать своими трофеями, пустить пыль в глаза, чтобы все считали его самым-рассамым, но не более того.
Конде усмехнулся. Затем, стараясь ступать бесшумно, сделал три шага к двери и приоткрыл ее. Маленькая гостиная была пуста. Выходит, ему померещилось, что кто-то их подслушивает?
– Он и в самом деле был сукин сын?
– В самом деле. Человек, который способен ни с того ни с сего свернуть шею бойцовому петуху, – самый настоящий сукин сын. Тут и говорить нечего.
*
Он закинул за спину автомат и, преодолевая сопротивление негнущихся суставов, встал на колени и подобрал вещицу. Уже представляя, что это, он осветил ее фонарем. Щит, ряд цифр и три буквы блеснули на бляхе серебристого металла, прикрепленной к куску кожи. Подобно животному, почуявшему запах опасности, он оглянулся вокруг и вспомнил, что ему говорил Рауль о беспокойном поведении Черного Пса. Выходит, здесь побывал агент ФБР? Иначе как тут мог оказаться этот жетон, в такой близости от дома и так далеко от ворот? Эти мерзавцы снова установили за ним слежку? Он знал, что числится в списках фэбээровцев со времен войны в Испании, особенно с тех пор, когда он организовал охоту на своем катере за нацистскими подлодками у берегов Кубы и уже был близок к тому, чтобы раскрыть, от кого и в каком районе острова немцы получали горючее. Именно фэбээровцы поспешили тогда объявить о конце операции под тем предлогом, что его донесения были слишком неконкретными и он расходовал слишком много бензина. Знал он и о том, что Эдгар Гувер[7]7
Джон Эдгар Гувер (1895–1972) – директор Федерального бюро расследований (ФБР) США с 1924 по 1972 г.
[Закрыть] хотел причислить его к коммунистам в разгар маккартистских чисток, но кто-то отговорил его: не стоило связывать с коммунистами и им подобными человека, ставшего американским мифом. Однако жетон, обнаруженный в его владениях, выглядел как предупреждение. Но о чем?
Он поднял голову и всмотрелся в далекие огни Гаваны, протянувшиеся в сторону океана, который выглядел отсюда огромным темным пятном. Это был необъятный и труднопостижимый город, который упрямо стремился жить, повернувшись спиной к морю; город, знакомый ему лишь местами. Он знал кое-что о его вопиющей нищете и соседствующей с ней бесстыдной роскоши; гораздо больше – о его барах и аренах для петушиных боев, дававших выход стольким страстям; довольно много – о его море и его рыбаках, среди которых он провел значительную часть своей жизни; знал в общих чертах о его страданиях и горестях, проступавших сквозь показной блеск. И ничего больше, несмотря на то что столько лет прожил в этом городе с душою женщины, который так ласково принял его с самого начала, с первого приезда. Но с ним всегда происходило одно и то же: он никогда не умел ценить добрые чувства тех, кто его по-настоящему любил, и отвечать им взаимностью. Старый прискорбный недостаток, не имеющий ничего общего с позой или рисовкой. Сам он обычно объяснял этот изъян замкнутым характером своих родителей, близких и одновременно совсем незнакомых людей с собственной жизнью, скрытой за пуританским лицемерием, которых он так и не смог полюбить, потому что они сами навсегда разрушили в нем простую и естественную способность – способность любить.
Подал голос Черный Пес, прервав нить его воспоминаний. Собака заливалась где-то в конце усадьбы, в низине, откуда начинался подъем к бассейну, причем лаяла без остановки, с непонятной настойчивостью. К ней присоединились два других пса, прибежавших со стороны входа. Не сводя глаз с границы своих владений, он сунул жетон в карман шортов и взял в руки автомат. Попробуй только вернуться за своей бляхой, сволочь, я живо продырявлю тебе мозги, – пробормотал он, спускаясь по склону, и посвистел псу. Лай затих, и вскоре Черный Пес подбежал к нему, виляя хвостом, но продолжая ворчать.
– Ну что, ты его видел? – спросил он, разглядывая помятую траву по обеим сторонам изгороди. – Я знаю, ты хороший сторож и никому не дашь спуску… Но сейчас тут уже никого нет. Мерзавец удрал. Пойдем-ка проведаем Каликсто.
Он вернулся к бассейну и зашагал между казуаринами по тропке, приводившей к основной дороге напрямик, без зигзагов и поворотов, какими изобиловал подъездной путь. Ему было приятно идти под этими гордыми и благородными деревьями. Они были ему как верные друзья: он впервые увидел их в 1941 году, когда вместе с Мартой приехал в усадьбу и решил купить ее, потому что уже убедился в том, что Гавана – подходящее место для занятий писательским трудом, ну а эта усадьба, расположенная так близко и так далеко от города, казалась не просто подходящим, но идеальным местом. Таким она и была на самом деле. Поэтому его так встревожила судьба этих деревьев, когда в 1944 году, после высадки в Нормандии, он получил известие о том, что на Гавану обрушился страшный ураган. Вернувшись в усадьбу на будущий год, он убедился, что почти все его бессловесные друзья целы и невредимы, и у него отлегло от сердца. Потому что это место, такое подходящее для того, чтобы здесь писать, вполне могло оказаться подходящим и для того, чтобы здесь умереть, когда наступит срок. Однако без своих старых деревьев усадьба теряла всякую ценность.
Снова задумавшись о смерти, он отвлекся от своей находки. Какого дьявола ты сейчас об этом думаешь? – спросил он себя и вспомнил, что в его распоряжении уже есть совершенно исключительный опыт, ведь он уже умирал однажды для всего мира, когда его самолет разбился неподалеку от озера Виктория во время последнего африканского сафари. Подобно герою Мольера, он получил тогда возможность узнать, что думают о нем многие из его знакомых. Не очень-то приятно читать сообщения о своей смерти, напечатанные в разных газетах, и убеждаться, что тебя не любят гораздо больше людей, чем можно было предположить, особенно в твоей собственной стране. Но он воспринял эти злобные высказывания как неизбежное следствие его отношений с окружающим миром и как отражение извечного человеческого обычая: не прощать чужой успех. В конце концов, эта мнимая смерть помогла ему обрести чувство свободы, с которым он мог жить теперь до своей настоящей смерти. Однако мысли о том, каким образом он должен умереть, превратились с тех пор в одну из навязчивых идей, прежде всего потому, что он опоздал умереть молодым или погибнуть геройской смертью. Кроме того, его испещренное шрамами тело начало слабеть. После той катастрофы у него возникли трудности с мочеиспусканием, он стал плохо видеть, хуже слышал. Забывал казалось бы навсегда усвоенные вещи. Его мучила гипертония. Пришлось сесть на диету и ограничить потребление алкоголя. И хроническая ангина набросилась на него с новой яростью… В крайнем случае смерть избавила бы его от всяческих ограничений и страданий, он боялся ее куда меньше, чем безумия, и единственно огорчало, что она неумолимо и властно положит конец его работе. Поэтому, не дожидаясь ее прихода, он должен был вновь отправиться на корриду, чтобы завершить переделку «Смерти после полудня», черт бы ее побрал, а кроме того, ему хотелось еще раз просмотреть «Острова в океане» и как-то закончить мерзкую историю из «Райского сада», запутанную и чересчур растянутую. Планировал он и еще раз поплавать среди небольших островков у северного побережья Кубы, подняться до Бимини, а затем вернуться в Ки-Уэст, к старым дружкам и многочисленным графинам с ромом и виски. Согревала его и мысль о том, что он еще сможет отправиться на новое сафари в Африку и даже провести осень в Париже. Но, наверное, это уже будет чересчур. Потому что, помимо всего прочего, он должен успеть решить, пока его не настигла смерть, сжигать рукопись «Праздника, который всегда с тобой» или нет. Это хорошая и искренняя книга, но в ней он высказывается слишком уж категорично, что ему потом наверняка припомнят. Какое-то тревожное чувство заставило тогда спрятать рукопись до лучших времен, когда для него окончательно станет ясна ее судьба: печатный станок или огонь.
Китти Каннел, подруга его первой жены Хэдли, бросила ему однажды в лицо, что ей отвратительна его способность злобно, эгоистично, коварно и жестоко обрушиваться на тех, кто его поддерживал. Наверное, Китти была права. Для того чтобы вспомнить Париж и те голодные, трудовые и счастливые годы, не обязательно было нападать на Гертруду Стайн, хотя мужеподобная старая интриганка того заслуживала. И уж вовсе не стоило поступать так с беднягой Скоттом, хотя Хемингуэя ужасно раздражало его безволие, неспособность жить и вести себя как мужчина, его озабоченность мнением сумасшедшей мегеры Зельды Фицджеральд относительно размеров его полового органа. Он уже толком и не помнил, почему обрушился на старуху Дороти Паркер, забытого Луи Бромфилда, тупицу Форда Мэдокса Форда. И в то же время ни словом не обмолвился о том, как закончилась его дружба с Шервудом Андерсоном, человеком, снабдившим его рекомендательными письмами и адресами, дабы помочь навести мосты и узнать тот послевоенный Париж, о котором он так мечтал. То, что он написал плохую пародию на своего старого учителя, желая отделаться от издателей Андерсона, которым обещал свои очередные произведения, было низостью, правда хорошо оплаченной новыми издателями. Ну, а последующее решение никогда не переиздавать «Вешние воды» уже не могло смягчить удар, нанесенный в спину человеку, проявившему к нему столько доброты и бескорыстия.
Десять лет назад, когда он отказался от избрания членом Американской академии искусств и литературы, его престиж вырос. Заговорили о его всегдашнем бунтарстве и ниспровержении идолов, о естественном образе жизни и творчестве вдали от академий и литературных обществ – то в усадьбе близ Гаваны, то на полях сражений в Европе. Это спасло его от маккартистского костра, в пламени которого хотели сжечь писателя ФБР и гнусный шеф этого ведомства Гувер.
Но никому и в голову не приходило, что этот отказ был вызван развившейся к тому времени неспособностью общаться с другими писателями и невозможностью выносить рядом с собой таких людей, как Дос Пассос и прежде всего Фолкнер. Заносчивый патриарх-южанин нанес ему удар в самое больное место, обозвав трусом: изящно и холодно определил его как наименее неудачливого из всех современных американских писателей, а причина того, что он наименьший неудачник, по словам этого подлеца, кроется в его наибольшей творческой трусости. И это говорится о нем, очистившем литературный язык от эвфемистической шелухи, дерзнувшем назвать яйца так, как они на самом деле называются, – яйца! Почему же Фолкнер не обвинил в трусости Скотта Фицджеральда? А Дос Пассоса? Бежать из Испании, дезертировать из рядов республиканцев в тот момент, когда в тебе больше всего нуждаются, – это самый трусливый поступок, какой только может быть совершен там, где по-настоящему проверяются люди, – на войне. Поставить жизнь одного человека выше интересов целого народа было безумием, так же как и утверждать, будто смерть переводчика Роблеса связана с тем, что до него дотянулись длинные щупальца Сталина. Никто не спорит, Сталин от имени пролетарской революции, которую он подмял под себя, в конце концов заключил пакт с нацистами, вторгся в Финляндию и захватил часть Польши; он уничтожил генералов, ученых и писателей, тысячи крестьян и рабочих, отправлял в сибирские ГУЛАГи любого, кто не подчинялся его приказам или всего лишь недостаточно горячо аплодировал, когда произносилось имя Вождя. Как это ни прискорбно, но, по всей видимости, верно и то, что он присвоил золото испанской казны и те деньги, что жертвовали Испанской республике многие люди – в том числе и он, Хемингуэй, – по всему миру… Но убивать ничем не примечательного переводчика, какого-то Роблеса? От всех этих писателей с их воспаленным воображением Хемингуэя тошнило, и потому он предпочел им простых, настоящих людей: рыбаков, охотников, тореро, партизан. Вот уж с кем можно было поговорить о мужестве и отваге. Кроме того, что-то в глубине души мешало ему искренне помириться с теми, кто были его друзьями, а потом перестали ими быть. Как он ни старался, ни разум, ни сердце с этим не соглашались, и неспособность к примирению стала для него своего рода наказанием за высокомерие и мужской фундаментализм, проявлявшиеся во многих жизненных ситуациях.
В любом случае он не желал видеть рядом с собой ни писателей, ни политиков. И потому все чаще отказывался говорить о литературе. Когда кто-нибудь спрашивал о его творчестве, он ограничивался коротеньким замечанием вроде «мне хорошо работается» или «сегодня я написал четыреста слов». Все остальное не имело смысла, ибо он знал: чем глубже ты погружаешься в свою вещь, тем более одиноким становишься. И в конце концов понимаешь, что так лучше и что ты должен оберегать свое одиночество. Разговоры о литературе – это пустая трата времени, и быть одному гораздо лучше потому, что только так и нужно работать, а еще потому, что времени для работы с каждым разом остается все меньше, и когда ты разбазариваешь его впустую, то чувствуешь, что совершаешь грех, которому нет прощения.
Поэтому он отказался ехать в Стокгольм и присутствовать на тоскливой и безвкусной церемонии вручения Нобелевской премии. Жаль, что эта премия присуждалась независимо от желания кандидата и что отказ от нее мог быть расценен как поза и дурной тон, хотя он действительно хотел так поступить, ибо, если не считать тридцати шести тысяч долларов, пришедшихся весьма кстати, награда, которой были удостоены такие люди, как Синклер Льюис и Фолкнер, его не особенно волновала, тем более что, откажись он от нее, его репутация бунтаря взлетела бы до небес. Но зато как приятно было перечислять, загибая пальцы, писателей, не получивших этой премии: Вулф, Дос Пассос, Колдуэлл, бедняга Скотт, извращенка Карсон Маккалерс, напыщенная южанка в бейсболке, выставляющая напоказ свои сексуальные предпочтения. Ну и еще, конечно, отрадно сознавать, что ты как писатель оказался прав. Вот только между этим и покупкой фрака с последующей поездкой на другой конец света лишь для того, чтобы произнести речь, лежала пропасть, которую он был не в состоянии перепрыгнуть. Он сослался на проблемы со здоровьем, возникшие после авиакатастрофы в Африке, и, получив чек и золотую медаль лауреата, расплатился с долгами, послал некоторую сумму Эзре Паунду, который незадолго до этого вышел из психиатрической лечебницы, а медаль передал одному кубинскому журналисту, с тем чтобы тот поместил ее в часовне Чудотворной Девы Милосердной в Эль-Кобре. Это был удачный жест, сделавший ему блестящую рекламу и улучшивший его имидж в глазах кубинцев, таких романтичных и сентиментальных, а заодно – причем одним махом – и в глазах того, кто пребывает над всеми.
– Это был хороший выстрел, ведь верно, Черный Пес?
Тот вильнул хвостом, но не взглянул на хозяина. Он очень серьезно относился к своей роли надежного сторожа. Сейчас его внимание было обращено на сову, громко ухавшую с верхушки королевской пальмы.
Кубинцы считали встречу с этой птицей дурным предзнаменованием, и он пожалел, что уже так поздно, – одна автоматная очередь, и со всеми предзнаменованиями, особенно дурными, было бы покончено, а возможно, он избавился бы таким способом и от проникшего к нему агента ФБР. Что они здесь вынюхивают, эти сукины дети, осмеливающиеся вторгаться в его владения?
В конце проложенной среди деревьев дорожки уже слышалась музыка. Она неизменно сопровождала Каликсто на ночных дежурствах, так же как пара здешних псов. Хемингуэй не понимал, как кубинцы могут часами слушать музыку, особенно эти слезоточивые болеро и мексиканские ранчеры, которые обожал Каликсто. По правде говоря, он много чего не понимал в кубинцах.
***
Он заметил ее, когда она уже подошла к бортику бассейна. На ней был легкий цветастый халат; распущенные волосы струились по плечам. Он обнаружил, что волосы у женщины выглядят светлее, чем он представлял себе по воспоминаниям, и снова восхитился безукоризненной красотой ее лица. Она что-то сказала, но он то ли не расслышал, то ли не понял, видимо, из-за того, что в это время бил руками по воде, чтобы не пойти ко дну, и руки казались ему тяжелыми и какими-то чужими. В это мгновенье она сбросила халат. Под ним оказался не купальник, а лифчик и трусики, украшенные прозрачными кружевами. Чашки лифчика смотрелись весьма вызывающе, и он смог разглядеть сквозь кружева розоватый ореол сосков. Эрекция наступила молниеносно и неожиданно. Уже давно она не происходила у него столь внезапно и мощно, и он с наслаждением ощутил в себе всесокрушающую потенцию. Женщина поглядывала на него и шевелила губами, но он по-прежнему не слышал, что она говорит. Теперь руки уже не казались ему тяжелыми, и он с вожделением следил за движениями женщины, радостно ощущая свой набухший пенис, грозно направленный на цель, словно меч марлина перед атакой, – именно так, ибо он находился в воде. А она завела руки за спину и с восхитительной женской сноровкой расстегнула застежки лифчика, открыв свои груди: они были круглые, налитые, увенчанные ярко-розовыми сосками. Его ликующий пенис изо всех сил призывал поторопиться, и он попытался позвать ее, но не смог: что-то ему мешало. Однако он сумел оторвать взгляд от ее груди и заметить сквозь воздушные черные кружева некую волнующую тень. Женщина уже держала руки на бедрах, ее пальцы потянули вниз легкую ткань, обнажив совершенно черные и блестящие волосы лобка, напоминавшие вершину смерча, зародившегося у пупка и разметавшегося между ног, и он не смог смотреть дальше: несмотря на все усилия, он почувствовал, что извергает из себя целые потоки, ощутил тепло пролившегося семени и его кажущийся сладковатым запах.