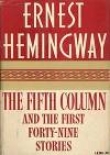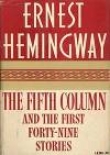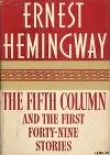Текст книги "Прощай, Хемингуэй!"
Автор книги: Леонардо Падура
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
– Я собираюсь выпить кофе. Принести тебе? – спросил Каликсто, удаляясь в сторону кухни.
– Нет, сегодня уже не буду. Остановлюсь на вине.
– Смотри не перебери, Эрнесто, – донеслось из кухни.
– Не бойся. И вообще иди к черту со своими советами раскаявшегося пьяницы…
Каликсто вернулся в гостиную с зажженной сигаретой в зубах. И с улыбкой заметил хозяину:
– В старые добрые времена на Ки-Уэсте я всегда тебя отправлял в нокаут. Что с ромом, что с водкой. Или ты забыл?
– Никто уже не помнит об этом. Тем более я.
– Ты побеждал меня только с джином. Но это питье для гомиков.
– Да, ты говорил это, когда мочился в штаны от такого количества выпитого…
– Ладно, я пошел. Чашку захвачу с собой, – сообщил Каликсто. – Мне сделать обход?
– Нет, лучше я сам.
– Я тебя еще увижу?
– Да, немного попозже.
Если бы Мисс Мэри была дома, то после обеда и бесед он прочел бы несколько страниц какой-нибудь книги – возможно, недавно полученного издания под названием «Печень и ее заболевания» некоего Г.П. Химсуэрта, где столь грубо описывались его печеночные недуги и их неутешительные последствия, – прихлебывая разрешенную порцию вина, как правило не допитого за обедом. Мисс Мэри играла бы в канасту с Феррером и Валери, а он издали молча любовался бы профилем девушки, которую Мисс Мэри предусмотрительно забрала с собой под тем предлогом, что та поможет ей в Нью-Йорке оформить необходимые юридические и финансовые документы. В конце концов, старый лев – все равно лев. Допив вино и немного почитав, он недолго оставался бы на ногах и вскоре пожелал бы всем спокойной ночи, после чего покинул бы Феррера, Валери и Мисс Мэри: им было известно, что с недавних пор у него вошло в обычай ложиться около одиннадцати, независимо от того, делал он обход усадьбы или нет… Сплошная рутина, примелькавшиеся детали, устоявшиеся привычки, ожидаемые поступки – все это, по его мнению, свидетельствовало о преждевременно наступившей старости, поэтому ему нравилось обманывать себя тем, что он якобы ощущает ответственность перед литературой, хотя не испытывал ничего подобного с далеких парижских времен, когда не знал ни кто издаст его книги, ни кто станет их читать, и вступал в ожесточенную схватку с каждым словом, как будто в этом состояла его жизнь.
– Вот ваше вино, Папа.
– Спасибо, сынок.
Рауль поставил откупоренную бутылку и чистый бокал резного стекла на крышку маленького бара, размещавшегося рядом с креслом. Хотя он служил у Хемингуэя с 1941 года, то есть с того времени, как писатель переехал сюда жить со своей третьей женой, он никогда не осмелился бы сделать ему замечание по поводу выпитого, и Хемингуэй знал, что Рауль не проболтается и не выдаст его Мисс Мэри. Он был так же безгранично предан хозяину, как и Каликсто, но невозмутимая и немногословная преданность Рауля чем-то напоминала собачью. Из всех слуг он был самым давним, самым любимым и единственным, кто, обращаясь к Хемингуэю «Папа», делал это так, словно тот на самом деле его отец. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было.
– Папа, вы действительно опять хотите остаться в одиночестве?
– Да, Рауль, не беспокойся. Кошки поели?
– Долорес вынесла им рыбы, а я покормил собак. Вот только Черный Пес не стал есть, возбужденный он какой-то. Некоторое время назад вдруг метнулся на заднюю сторону и начал там лаять. Я спустился туда и дошел до бассейна, но никого не заметил.
– Я дам ему что-нибудь. У меня он всегда ест.
– Что верно, то верно, Папа.
Рауль Вильяррой взял бутылку и наполнил бокал до половины. Хозяин научил его не наливать вино сразу, как только откроешь бутылку, а выждать несколько минут, чтобы оно задышало и отстоялось.
– Кто сегодня делает обход, Папа?
– Я сам. Каликсто уже предупрежден.
– Вы действительно хотите, чтобы я ушел? Хотите побыть один?
– Да, Рауль, и не волнуйся, все в порядке. Если ты мне понадобишься, я позвоню.
– Обязательно позвоните. Но я в любом случае зайду попозже вас проведать.
– Ты прямо как Мисс Мэри… Ладно, иди себе спокойно, я пока еще не превратился в развалину.
– Я знаю, Папа. Ладно, хорошего вам сна. Завтра я приду в шесть и приготовлю вам завтрак.
– А Долорес? Почему бы завтрак не приготовить ей, как обычно?
– Поскольку Мисс Мэри в отъезде, я должен быть вместо нее.
– Хорошо, Рауль, как хочешь. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, Папа. Как вам вино?
– Превосходное.
– Очень рад. Ну, я пошел. Спокойной ночи, Папа.
– Спокойной ночи, сынок.
У кьянти и в самом деле был изумительный вкус. Его прислала в подарок Адриана Иванчич, юная венецианская графиня, в которую он влюбился несколько лет назад и которую сделал Ренатой в романе «За рекой, в тени деревьев». Он пил темное кьянти, вспоминая терпкий вкус губ девушки, и это придавало ему бодрости и снимало чувство вины за то, что он пьет больше положенного.
Если он хочет еще пожить, никакой выпивки, никаких приключений, предупреждали его Феррер и все другие врачи. С кровяным давлением дела обстояли плохо, начавшийся диабет грозил усугубиться, печень и почки так и не пришли в норму после авиакатастроф, пережитых им в Африке, а зрение и слух могут еще больше ослабнуть, если он их не побережет. Целый ворох болезней и запретов – вот что от него осталось. А как с боями быков? Можно, но без излишеств. Дело в том, что ему позарез нужно было снова съездить на корриду, окунуться в ее атмосферу, чтобы закончить переработку «Смерти после полудня», дававшуюся ему с таким трудом. Он выпил бокал до дна и снова налил. Тихое журчанье струящегося по стеклу вина напоминало о чем-то, чего он никак не мог восстановить в памяти, хотя это было связано с каким-то событием в его жизни. Что бы это, черт подери, могло быть? – задумался он, и тут ему открылась ужасная истина, о которой он и раньше догадывался, но старался о ней не думать: если ему противопоказаны новые приключения, а старых он уже не помнит, тогда о чем писать?
Биографы и критики всегда особо подчеркивали его тягу к опасности, войне, экстремальным ситуациям – словом, к приключениям. Одни считали его человеком действия, ставшим писателем, другие – фигляром, искавшим экзотики и опасностей, чтобы добавить значимости тому, что он создавал как художник. Однако же все – те, кто расточал ему похвалы, и те, кто критиковал, – приложили руку к мифотворчеству вокруг его биографии, которую, и тут все мнения совпадали, он создал себе сам своими действиями в разных концах света. Истина, как всегда, куда сложнее и страшнее: не будь у меня такой биографии, я не стал бы писателем, сказал он сам себе и посмотрел бокал на свет, но не стал пить. Он знал, что обладает ограниченной и обманчивой фантазией, и только благодаря тому, что он рассказывал о действительно увиденном и пережитом, ему удалось написать свои книги, пронизанные той самой правдой, какой он требовал от литературы. Без богемной жизни в Париже и увлечения корридой он не написал бы «Фиесту». Без ранения в Фоссальте, миланского госпиталя и безнадежной любви к Агнессе фон Куровски не появился бы роман «Прощай, оружие!». Без сафари 1934 года и горького вкуса страха, испытанного при встрече с раненым буйволом, он не смог бы написать ни «Зеленые холмы Африки», ни два из своих лучших рассказов – «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» и «Снега Килиманджаро». Без Ки-Уэста, катера «Пилар», бара Sloppy Joe's, контрабанды алкоголя и историй, рассказанных Каликсто, не возник бы замысел «Иметь и не иметь». Без испанской войны, без бомбардировок и жестокого братоубийственного безумия, без страстной любви к бездушной Марте Геллхорн никогда бы не были написаны «Пятая колонна» и «По ком звонит колокол». Без участия во Второй мировой войне и Адрианы Иванчич не было бы романа «За рекой, в тени деревьев». Без долгих дней, проведенных в водах Мексиканского залива, без выловленных им серебристых марлинов и историй о других огромных марлинах, услышанных от рыбаков Кохимара, не появился бы «Старик и море». Без «Фабрики плутов», которые помогали ему в поисках нацистских подводных лодок, без усадьбы «Вихия», без «Флоридиты», ее напитков и ее завсегдатаев, а также без немецких подлодок, которые кто-то на Кубе снабжал горючим, он не написал бы «Острова в океане». А «Праздник, который всегда с тобой»? А «Смерть после полудня»? А рассказы о Нике Адамсе? Или эта треклятая история из «Райского сада», которая никак не вытанцовывается, хотя становится все длиннее и длиннее? Он-то это прекрасно знал – чтобы создавать настоящую литературу, он должен жить настоящей жизнью: сражаться, убивать, ловить рыбу, жить, чтобы иметь возможность писать.
– Нет, подонки, не придумывал я себе жизнь, – произнес он вслух, и ему не понравилось, как прозвучал его голос в абсолютной тишине. Он залпом допил вино.
С бутылкой кьянти под мышкой и бокалом в руке он подошел к окну гостиной и вгляделся в ночной сад. Он старательно напрягал зрение, пока у него не заболели глаза, пытаясь что-то увидеть в темноте, как это умеют дикие африканские кошки. Все-таки что-то должно существовать, помимо заранее предусмотренного, за рамками очевидного, что-то, способное придать некое очарование последним годам его жизни: не может же все сводиться к тягостным запретам, лекарствам, забывчивости и усталости, боли и набившей оскомину повседневности. В противном случае жизнь победила бы его, раздавила без всякой жалости, это его-то, провозгласившего, что человека можно уничтожить, но нельзя победить. Дерьмо все это, пустая болтовня и вранье, подумал он и налил себе еще вина. Ему было необходимо выпить. Ночь обещала стать бессонной.
Но только два года спустя он наконец понял, что, если бы Мисс Мэри оставалась дома, возможно, та злополучная ночь со вторника на среду не стала бы отправной точкой на пути, приведшем его к трагическому исходу.
*
На старой деревянной двери висело выцветшее объявление, гласившее: «Закрыто на инвентаризацию. Просим извинить за беспокойство». Откуда они его выкопали? – удивился Конде и озаботился судьбой прежнего объявления, которое Хемингуэй распорядился повесить на этой самой двери в усадьбе «Вихия»: Uninvited visitors will not be received.[3]3
Визитеры, прибывшие без приглашения, не принимаются (англ.).
[Закрыть] Именно так, категорично и по-английски, как будто только из англоязычного мира могли нагрянуть в этот уединенный уголок близ Гаваны незваные гости. А говорящие на других языках, это кто – зверюшки? Конде толкнул дверь, вошел на территорию усадьбы и стал подниматься по ступеням к дому, где больше всего лет прожили писатель и его слава и где гостили некоторые из самых знаменитых людей своего времени и некоторые из самых красивых женщин своего века.
Едва ступив на эту территорию, неотделимую от литературы, под сень манго и нескольких пальм, несомненно росших здесь и когда дома еще не было в помине, Марио Конде почувствовал, что снова возвращается в святилище своей памяти, которое он предпочел бы держать на замке, под охраной приятной и сдержанной ностальгии. Более двадцати лет не приезжал он в усадьбу, где до этого бывал – увы, всегда без приглашения – десятки раз и поднимался по этим самым ступеням вслед за другими посетителями, словно участвуя в торжественной процессии: то были далекие уже времена, когда он тоже мечтал стать писателем, и миф о старом горном леопарде, со всеми его военными и охотничьими подвигами, с его отточенными, как бритва, рассказами и насыщенными жизнью романами, с его такими, казалось бы, простыми и одновременно такими глубокими диалогами, был идеальной моделью того, какой может быть литература и каким должен быть человек, подчинивший свою жизнь этой литературе, живя для нее и ради нее. В те дни каждую его книгу Конде читал по нескольку раз, но еще чаще приезжал сюда и заглядывал в окна дома писателя, вскоре после его смерти превращенного в музей, чтобы проникнуться духом этого человека, разглядеть его среди больших и малых охотничьих трофеев, которыми он окружал себя на протяжении своей жизни.
Из всех поездок в дом Хемингуэя в те годы, упорно старавшиеся выглядеть в его глазах лучшими, с особой болью Конде вспоминал ту, что организовал со своими школьными друзьями. В его памяти сохранилось все, вплоть до мельчайших подробностей: была суббота, утро, и они договорились встретиться на лестнице перед школой. Пришли Тощий Карлос, который тогда еще был тощим; Дульсита, за которой Тощий ухаживал; Андрес, здорово игравший в бейсбол и уже мечтавший о карьере врача, но ведать не ведавший, что в один прекрасный день он решит уехать с Кубы; Кролик, помешанный на идее переписать заново историю; Кандито Рыжий с шапкой курчавых шафранных волос, пышущий здоровьем и уже тогда обладавший житейской мудростью – она подсказала ему положить в рюкзак два литра рома; и Тамара, такая красивая, что больно было на нее смотреть, – в нее к тому времени был не на шутку влюблен Марио Конде. Давние закадычные друзья стали его свитой в этом паломничестве, и он до сих пор с удовольствием вспоминал, как была изумлена красотой места Тамара, как радовался Андрес, обозревая панораму Гаваны с высоты Башни, как Кролик высказывал свое недовольство обилием охотничьих трофеев, развешанных по стенам дома, и как Рыжий поражался тому, что один человек может занимать такой огромный дом, тогда как сам он живет в невообразимой тесноте. Вспоминал он также, испытывая при этом теплую грусть, далеко не таинственное исчезновение Карлоса и Дульситы – спустя полчаса после того, как отделились от компании, они вышли из кустов, счастливые и улыбающиеся, исполнив то, что в те времена было первой заповедью их жизни: заниматься любовью, как только выпадает такая возможность. Стояло прекрасное утро, и Конде как истинный почитатель писателя бесцеремонно и назойливо усадил друзей вокруг бассейна и, пустив по кругу бутылку рома, прочел им полностью «На Биг-ривер», свой самый любимый среди всех рассказов Хемингуэя.
Пока Конде шел вверх по дороге под густыми тенистыми кронами пальм, сейб, казуарин и манго, он старался избавиться от этих горько-сладких воспоминаний, сохранившихся лишь благодаря болезненной настойчивости его памяти и вопреки убежденности в том, что время и жизнь могут уничтожить почти все, и когда наконец ему удалось освободиться от их щупалец, он различил впереди светлые очертания дома и башни, которую Мэри Хемингуэй велела выстроить, чтобы в ней работал ее муж, и которая в конце концов превратилась в обиталище пятидесяти семи кошек – именно столько официально числилось в усадьбе. Слева от нее, за низиной, в которой располагался бассейн, он поискал глазами силуэт «Пилар», переселившейся сюда тридцать с лишним лет назад, чтобы стать еще одним музейным экспонатом. Сам же дом, с его запертыми дверями и наглухо закрытыми окнами, в отсутствие экскурсантов, зевак и учеников писателя, всматривающихся через оконные проемы в застывшую личную жизнь мастера, показался Конде белым призраком, явившимся из загробного мира. Он бросил на него беглый взгляд и продолжил свой путь по узкой асфальтированной дорожке к самой возвышенной части усадьбы, откуда доносились голоса и беспорядочные удары кирок и лопат – они вгрызались в землю, чтобы выведать у нее тайну.
Первым, что он увидел, приблизившись, были корни поверженного манго. Косматые, они воинственно топорщились, напоминая волосы Медузы Горгоны, и взывали к недостижимому небу, откуда им была ниспослана смерть, которая вскрыла еще одну смерть. Чуть поодаль, в траншее, протянувшейся уже на несколько метров, он заметил головы трех мужчин, над ними вздымались кирка и лопаты, выбрасывавшие темную землю наверх, где образовалась порядочная горка, грозящая засыпать соседний фонтан, вода в котором перестала бить не менее тысячи лет назад. Конде молча подошел к яме и узнал в землекопах двух своих давних коллег, Креспо и Грека, вооруженных лопатами и оживленно беседующих друг с другом, в то время как третий, незнакомый ему мужчина, орудовал киркой.
– В последний раз я видел вас тоже в яме.
Застигнутые врасплох землекопы обернулись на голос.
– Мать моя! – проговорил Грек. – Ты только посмотри, кто к нам пришел.
Мужчина с киркой тоже прервал свое занятие и с беспокойством разглядывал вновь пришедшего, к которому уже собрались присоединиться, побросав лопаты, оба его напарника.
– Только не говори, что ты вернулся, – пораженно бормотал Креспо, пытаясь вылезти из траншеи. Для обоих годы тоже не прошли бесследно, и теперь это были сорокалетние мужчины, успевшие обзавестись брюшком, – им скорее пристало бы греться на солнышке где-нибудь на пляже, чем служить в полиции.
– Я пока еще не свихнулся, – ответил Конде и протянул руку, чтобы помочь приятелям выбраться из ямы.
– Сколько лет, Конде? – Грек разглядывал его так, словно он был экспонатом музея.
– Чертова уйма. Лучше не считать.
– Приятно тебя повидать. Маноло говорил нам…
– А кто это там в яме? – перебил Конде.
– Капрал Флейтес.
– Такой старый и всего-навсего капрал?
– Он вдобавок еще хромой и близорукий. И стихи пишет… Вот только поддает так, что просто тушите свет…
– Ну тогда еще хорошо, что он дослужился до капрала, – сказал Конде и приветствовал Флейтеса взмахом руки: если он такой любитель выпить и вдобавок чуть ли не поэт, то это свой человек. – Нашли что-нибудь?
– Да здесь ни хрена нет, Конде, – возмутился Креспо.
– Неужели это тебе пришла в голову идея перекопать всю усадьбу? – с укоризной проговорил Грек.
– Успокойся, это идея твоего начальника. Я здесь никто…
– А, так, значит, это Манолито… Дерьмо, а не начальник.
– Скажите мне правду: кто лучше начальник – Маноло или я?
Грек и Креспо переглянулись. Похоже, их одолевали сомнения. Наконец Креспо решился:
– Тут и обсуждать нечего. По сравнению с тобой Маноло просто ангел.
И оба захохотали.
– Какие же вы неблагодарные…
– Послушай, Конде, ты ведь у нас самый ученый и к тому же почти писатель… – Грек положил ему на плечо грязную руку и с ехидным видом кивнул в сторону Флейтеса: – Тут наш коллега рассказывает, будто однажды Хемингуэй дал пару раз своей жене по заднице за то, что она без разрешения срубила какой-то куст в усадьбе… Это правда?
– Не пару раз, а ровно три раза. И еще влепил ей оплеуху.
Капрал Флейтес гордо улыбнулся из ямы.
– Этот тип просто сбрендил, – убежденно заявил Креспо.
– Что-то такое было… Но не совсем. Я прочел в одной серьезной книге, что если муж время от времени лупит по заднице свою жену, то тем самым он способствует сохранению здоровой семьи.
– Это известно и без книг, – заметил Грек.
– Хорошо, ну а все-таки: совсем-совсем ничего не нашли?
– После того как извлекли все кости, обрывки материи и то, что осталось от ботинок, здесь попадаются одни только камни да корни.
– И все же должно быть хоть что-то еще. У меня такое предчувствие. Вот здесь оно сидит… – Конде коснулся пальцем своей груди чуть пониже левого соска. – Так что копайте дальше. Копайте, пока что-нибудь не обнаружится.
– А если не обнаружится ничего? – послышался голос капрала Флейтеса со дна ямы.
– Усадьба большая, что-нибудь да найдется, – был ответ Конде. – А сейчас я схожу к директору музея, мне надо войти в дом… Кстати, где раздобыли это объявление, что висит у входа?
– В соседней пиццерии. Но они просили потом вернуть, – сообщил Грек.
– Ладно, увидимся, когда вы закончите. – И Конде зашагал в сторону от ямы.
– Послушай, Конде, – крикнул вдогонку Креспо, – все-таки лучше тебе не возвращаться в полицию, понял?
Он только улыбнулся в ответ и направился к бывшему гаражу, где теперь располагалась дирекция музея. Директор, мулат, по возрасту чуть моложе Конде, представился как Хуан Тенорио и на поверку оказался не слишком симпатичным, излишне любезным и надоедливым. Бывший полицейский сразу постарался остановить поток его красноречия: как хороший директор Тенорио стремился продемонстрировать все, что он знал о Хемингуэе и усадьбе «Вихия», и вызвался быть гидом Конде. Тот, как только мог вежливо, но недвусмысленно, отклонил предложение: его первое посещение дома писателя касалось только их двоих, его и Хемингуэя, и он должен был провести эту встречу спокойно и без свидетелей.
– Сейчас десять… До которого часа я могу находиться в доме? – спросил он у директора, вручившего ему ключи от дверей.
– Мы заканчиваем в четыре. Но если вам понадобится…
– Да нет, я пробуду там недолго. Только чтобы никто меня не беспокоил. Не бойтесь, я ничего не украду. Спасибо за ключи.
С этими словами он покинул директора. Преодолев шесть ступенек, отделявших подъездную дорогу от плоской площадки, на которой стоял дом, он остановился и глубоко вздохнул. Потом сделал еще шесть шагов и, оказавшись у парадной двери, вставил ключ в замочную скважину. Стоя одной ногой уже внутри дома, он почувствовал, что если сделает шаг, то лишится возможности отступить, и ему вдруг захотелось снова запереть дверь и удалиться подобру-поздорову.
Однако же он сделал этот шаг, протянул руку и, нащупав выключатель, зажег свет в гостиной. Перед его глазами вновь возникла грустная, застывшая во времени панорама того, что некогда было домом, где жили люди – спали, ели, любили, страдали. Но это место выглядело совершенно ирреальным не только потому, что было превращено в музей: дом в усадьбе «Вихия» всегда был чем-то вроде молельни для паломников или же театральной декорации, выстроенной скорее для некоего персонажа, чем для живого человека. Так, Конде казалось оскорбительным, что тысячи книг, десятки картин и рисунков вынуждены здесь вступать в горестное соперничество с ружьями, патронташами, копьями и ножами, с укоризненно глядящими со стен головами жертв разгулявшейся отваги писателя – его охотничьими трофеями, свидетельствующими лишь о страсти убивать, о стремлении все время щекотать себе нервы.
Сейчас в доме отсутствовали многие из картин, самые ценные, – их вывезла с Кубы Мэри Уэлш; отсутствовали также некоторые документы и письма, сожженные, как утверждали, вдовой Хемингуэя в ее последний приезд в «Вихию» вскоре после смерти писателя; отсутствовали и люди, способные хоть немного оживить это место: хозяева, слуги, обычные и особые гости и даже кое-кто из журналистов, кому удалось преодолеть барьер uninvited и получить возможность в течение нескольких минут беседовать с живым богом американской литературы. Не было и кошек, вспомнил Конде. Но прежде всего не хватало света. Бывший полицейский открыл одну за другой ставни, начав с гостиной и закончив кухней и туалетами. Теплый утренний свет пошел на пользу дому, проникнув внутрь вместе с запахом цветов и земли, и вот тут-то Конде и задал себе вопрос: что он хочет здесь отыскать? Он знал, что не может идти и речи о каком-либо следе, который позволил бы идентифицировать личность убитого, найденного во дворе, и тем более об уликах, позволяющих выявить убийцу. Он искал нечто более отдаленное, то, что уже пытался когда-то найти, но много лет назад прекратил эти попытки: правду – которая, возможно, разоблачит ложь и обман – о человеке по имени Эрнест Миллер Хемингуэй.
Приступая к этому трудному делу, Конде начал с того, что совершил по музейным меркам чистой воды святотатство: сбросил свои башмаки и сунул ноги в старые мокасины писателя – они были на несколько размеров больше, чем требовалось бывшему полицейскому. Шаркая по полу, он вернулся в гостиную, закурил и расположился в личном кресле человека, приказывавшего называть себя Папой. С удовольствием совершив эти кощунственные действия, которых он сам от себя не ожидал, Конде принялся рассматривать картины на темы корриды и ни с того ни с сего вспомнил, как закончились его идиллические отношения с писателем, когда ему открылись истинные подробности разрыва между Хемингуэем и его давним другом Дос Пассосом. Нет, на самом деле Конде не разлюбил Хемингуэя в один миг, сразу, как только узнал об этих фактах. Отчуждение росло постепенно, по мере того как романтизм уступал место скептицизму и недавний литературный кумир превращался во властного и жестокого человека, не способного любить тех, кто любил его; когда Марио осознал, что двадцати лет, прожитых среди кубинцев, оказалось недостаточно для того, чтобы Хемингуэй хотя бы что-нибудь понял в этом народе; когда признал горькую правду о том, что этот гениальный писатель был в то же время недостойным человеком, оказавшимся способным предать всех тех, кто ему помогал: от Шервуда Андерсона, распахнувшего перед ним ворота Парижа, до «бедняги» Скотта Фицджеральда. Но переполнилась чаша, когда он узнал, как жестоко и по-садистски обошелся Хемингуэй со старым товарищем и другом Джоном Дос Пассосом во время гражданской войны в Испании, когда тот требовал расследовать обстоятельства гибели своего испанского друга Хосе Роблеса, а Хемингуэй в присутствии других людей не задумываясь бросил ему в лицо, что Роблес расстрелян как шпион и предатель дела Республики. Позже, перейдя все границы приличия, он злорадно и расчетливо сделал из Роблеса образцового предателя в романе «По ком звонит колокол»… Так пришел конец дружбе двух писателей и началась политическая эволюция Дос Пассоса, узнавшего, что Роблес, слишком осведомленный о разных неблаговидных делах, стал наряду с Андреу Нином[4]4
Андреу Нин (1892–1937) – каталонский коммунист и революционер, лидер Рабочей партии марксистского единства (ПОУМ). Во время гражданской войны в Испании на основании сфальсифицированных улик был обвинен в связях с франкистами, а впоследствии ликвидирован агентами НКВД.
[Закрыть] одной из первых жертв сталинского террора, развязанного в Испании начиная с 1936 года, – когда в Москве проходили громкие судебные процессы, – чтобы закрепить советское влияние в лагере республиканцев, которых Сталин, сделав очередной ход в геополитических шахматах, вскоре обманет и отдаст на растерзание фашистам, а сам в это время отхватит свой кусок Польши и проглотит балтийские республики. Из этой темной и прискорбной истории, раздутой Хемингуэем, сам он вышел героем, а Дос Пассос – трусом; однако истина в конце концов восторжествовала, и стало ясно, что Хемингуэй, со своим наивным тщеславием, был орудием в руках умелых мастеров сталинской пропаганды, устроителей показательных судилищ тех горестных времен. Конде всякий раз ощущал неприятный привкус во рту, когда вспоминал этот мрачный эпизод, и теперь, очутившись в окружении стольких вещей, купленных, добытых на охоте или полученных в подарок хозяином этого роскошного дома, способным из зависти уничтожить всех писателей на свете, он понял, что ему хочется обнаружить хотя бы минимальное доказательство виновности Хемингуэя: было бы совсем неплохо, если бы тот, вдобавок ко всему, сказался еще и вульгарным убийцей.
*
Дождь начался в полдень. Сидя за закрытыми окнами, Конде почувствовал приступ голода вкупе с расслабляющим воздействием жары и, потушив свет, улегся на кровать в комнате Мэри Уэлш – ждать, когда ливень утихнет. Сколько раз занимались любовью на этой кровати? Сколько раз ложе оскверняли сотрудники музея во время тайных свиданий? Он осматривал дом всего около двух часов, но этого времени ему хватило, чтобы убедиться: ему необходимо гораздо больше узнать о найденных костях, если он хочет, чтобы какие-то предметы или бумаги в доме, заключающие в себе определенную информацию и занимающие свое место в жизни Хемингуэя, заговорили на внятном языке и все прояснили. Кроме того, осмотр подтвердил его подозрения относительно трех вещей. Первую из них нетрудно было предположить: в этом доме хранятся книги, за которые на гаванских рынках дали бы умопомрачительную цену. Вторая заключалась в том, что у Хемингуэя, по всей видимости, были определенные мазохистские наклонности, если верно то, что он писал стоя, приладив свою портативную «ройял эрроу» на книжных полках, потому что ремесло писателя – Конде прекрасно это знал – само по себе достаточно нелегкий труд, чтобы к умственным усилиям добавлять еще и физические. И наконец, к мазохизму Хемингуэя примешивалась и какая-то доля садизма, поскольку за всеми этими чучелами, развешанными по стенам, стояло слишком много напрасно пролитой крови, слишком много жестокости ради жестокости, чтобы не испытывать известного отвращения к человеку, виновному в стольких бессмысленных убийствах.
Было около четырех, когда он проснулся от стука в дверь, походкой сомнамбулы доковылял до гостиной и увидел перед собой обеспокоенное лицо директора музея.
– Я уж думал, с вами что-то случилось.
– Да нет, просто меня сморило.
– Нашли что-нибудь?
– Пока не знаю. Дождь перестал?
– Перестает.
– А где полицейские?
– Уехали, когда начался ливень. Яма сразу превратилась в болото.
– Вы сейчас в Гавану?
– Да, в район Сантос-Суарес.
– Захватите меня?
Его опасения подтвердились: Тенорио не закрывал рта всю дорогу. По-видимому, он и в самом деле знал абсолютно все о кубинском периоде жизни Хемингуэя и беззастенчиво представился «робким почитателем» писателя. Ну что ж, может, такая позиция самая лучшая, подумал Конде и промолчал, старательно впитывая информацию, что давалось ему не без труда: от голода да еще со сна он туго соображал.
– Мы, кубинские хемингуэеведы, кровно заинтересованы в том, чтобы все это как можно скорее прояснилось. По крайней мере, я совершенно уверен, что он не мог…
– Кубинские хемингуэеведы? Это что же, какая-то ложа или партия?
– Ни то ни другое. Просто это люди, которым нравится Хемингуэй. Среди нас кого только нет: писатели, журналисты, учителя, домохозяйки, пенсионеры…
– И чем же занимаются кубинские хемингуэеведы?
– Да ничем особенным. Читают его книги, изучают биографию, устраивают семинары, посвященные его жизни и творчеству.
– А кто всем этим руководит?
– Никто… Ну, кое-что я организую, но как такового руководителя у нас нет.
– Вера в чистом виде, без священников и генеральных секретарей. Что ж, неплохо, – признал Конде, пораженный тем, что, оказывается, в эпоху объединенных в профсоюзы неверующих существует некое братство независимых верующих.
– Это не вера, нет. Просто он был великий писатель, а вовсе не чудовище, каким его иногда изображают. А вы сами не хемингуэевед?
Конде задумался, прежде чем ответить.
– Я был им, но потом сдал свой членский билет.
– Но вы полицейский или нет?
– То же самое. То есть я хочу сказать, что я уже и не полицейский.
– Так кто же вы? Если это, конечно, не секрет.
– Если бы я знал… Пока что твердо знаю, кем бы не хотел быть. Прежде всего не хочу быть полицейским: уж слишком многие из них, по моим наблюдениям, превращаются в мерзавцев, хотя их работа состоит как раз в том, чтобы подобных мерзавцев вылавливать. Кроме того, видели вы что-нибудь более неэстетичное, чем полицейский?
– Да, вы правы, – произнес Тенорио, немного подумав.
– Ну, а вы, как убежденный хемингуэевед, что сами думаете об этой истории?
– То, что произошло с тем человеком, загадка. Но я убежден, что Хемингуэй его не убивал. Говорю так, потому что много общался со стариками, которые его знали. Часто встречался с Раулем Вильярроем, когда он еще был жив, с Руперто, капитаном «Пилар», с Торибио Эрнандесом, который занимался у Хемингуэя бойцовыми петухами…