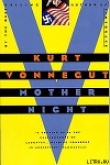Текст книги "Геббельс. Адвокат дьявола"
Автор книги: Курт Рисс
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 31 страниц)
После полуночи Гитлер произнес по радио короткую речь. Он явно нервничал, не в состоянии скрыть охвативший его ужас, и произвел на слушателей очень плохое впечатление. Казалось, фюрер утратил свое былое величие и власть, он обращался к людям с просьбой не выполнять приказы, которые могли быть изданы от его имени заговорщиками. Гитлер опустился до того, что униженно умолял свой народ.
Геббельс пришел в изумление от выступления Гитлера. Он сказал, что в таком плачевном состоянии Гитлера не следовало допускать к микрофону. Некогда великий фюрер буквально распространял вокруг себя волны паники. «Почему Гитлер не посоветовался со мной, прежде чем решил говорить?» – спрашивал Геббельс себя и других.
В ту же ночь на радио дал интервью и майор Ремер, которого Геббельс провозгласил героем дня. Из предосторожности интервью было заранее записано на пленку. Геббельс внимательно прослушал запись и удалил ту часть, где Ремер говорил, что считал себя обязанным доложить по команде своему военному начальству, прежде чем выполнять приказы Геббельса, так как гауляйтер Берлина был обычным штатским, хотя и весьма высокопоставленным, должностным лицом. Очень примечательно, что Геббельс решил вырезать из записи этот пассаж, – видимо, после своего героического поведения во время путча он чувствовал себя скорее солдатом, чем гражданским человеком. Путч провалился не потому, что взрыв бомбы пощадил Гитлера, и не благодаря полиции Гиммлера, которой следовало раскрыть заговор еще в начальной стадии, и не благодаря вмешательству многих известных военных – путч потерпел провал благодаря отваге и самообладанию невысокого хромого человека в штатском, который не растерялся в решительную минуту.
3
Мы можем безошибочно представить себе, какое мнение о побежденном противнике сложилось у Геббельса. По-детски наивный подход мятежников к делу не укладывался у него в сознании. Ночью он сказал, что вся их затея «есть не что иное, как восстание по телефону». На совещании, проходившем на следующее утро, он высказался еще более резко. «Дилетанты, все они – ни на что не годные любители! – насмешливо кричал он. – Уж я бы знал, что делать на их месте, могу вас смело уверить. Подумать только, Хаазе оставалось всего лишь вытащить свой пистолет и пристрелить меня! И что же он сделал? Господи, что за растяпа!» И затем продолжил: «Невероятно, горе-революционеры оказались настолько глупы, что не догадались перерезать телефонные провода. Да моя малолетняя дочь додумалась бы до этого!» В то же время он не мог примириться с мыслью, что все остальные в окружении Гитлера до такой степени растерялись. Он ни словом не упоминал ни об опасности, грозившей ему лично, ни о своем решительном поведении в тот день. Даже его ближайшие помощники – за исключением тех, кто находился тогда рядом с ним, – не могли в подробностях восстановить историю разгрома путча.
Единственной заботой Геббельса было показать народу, а желательно и всему миру, что заговорщики вели себя самым глупым, трусливым и жалким образом. Тогда по контрасту с ними фигура Гитлера воссияла бы во всем своем былом величии. Пропагандист Геббельс понимал, что в этой кампании нельзя было позволить себе ни малейшей ошибки.
Разумеется, некоторые промахи все же были неизбежны. Через два дня после неудавшегося покушения на жизнь Гитлера Роберт Лей произнес по радио речь, полную грубейших выпадов против заговорщиков – можно было не сомневаться, что его брань немцам придется не по вкусу. Кроме того, Лей отпустил несколько исключительно глупых замечаний в адрес предков графа Штауфенберга вроде «Его отец был старой подстилкой англичан». Геббельс хотел запретить ему выступать, но Лей уверил его, что Гитлер прочел и одобрил речь, хотя это было ложью. Как и предчувствовал Геббельс, его выступление не вызвало в немцах ничего, кроме неприязни.
На совещании 21 июля Геббельс дал точные инструкции, в каком свете подавать судебный процесс над заговорщиками, который уже вот-вот должен был начаться. Он лично отбирал журналистов, которым можно было бы доверить освещение этого события, и приказал, чтобы в газетах появились отчеты только о первых двух днях слушания дела. Хотя в заговор было втянуто очень много людей – правда, большинство из них играли второстепенные роли, – фюрер считал необходимым создать у публики впечатление, что покушение на его жизнь было организовано лишь горсткой отъявленных преступников. «Мы не желаем даже упоминания о мелюзге, о жалких ничтожных марионетках в руках главарей заговора, – сказал Геббельс. – Кроме того, мы не намерены льстить самолюбию этих сукиных сынов, называя их поименно».
Чем дольше он принимал участие в перекрестных допросах, тем больше росло его презрение к незадачливым конспираторам. Хотя, представ перед Народным трибуналом, большая часть из них вела себя смело и с достоинством, Геббельс говорил: «Теперь-то они хнычут. Причина столь постыдного поведения в том, что им попросту недостает самоуважения, буквально всем им. Теперь, когда их судьба уже предопределена, они могли бы проявить хоть немного мужества. Но ни одному из них не хватило духа заявить: «Да, это мое убеждение, и я продолжаю его придерживаться, и оно останется при мне, пока я жив, пусть даже ненадолго. А теперь прошу: делайте со мной что угодно!»
В галерее негодяев, на которых Геббельс изливал свое презрение, было одно исключение – Роммель. Вероятно, для Геббельса было тяжелым ударом узнать через несколько месяцев, что обаятельный офицер, к которому он относился с таким уважением, единственный генерал, ради которого он привел в действие всю пропагандистскую машину, оказался среди заговорщиков.
Когда обнаружилось, что Роммель замешан в заговоре, в его дом в Геррлингене, где он выздоравливал после тяжелых ранений, явились два офицера, которые поставили его перед выбором: либо он будет арестован и пройдет через унизительное разбирательство в Народном трибунале, либо он примет яд, и его тело будет предано земле с воинскими почестями, и в последнем случае никто и никогда не узнает о его преступлении. Роммель не колебался ни секунды. Он простился с женой, которая была так потрясена происходящим, что потеряла дар речи и беспомощно застыла на месте, тогда как ее муж сел в автомобиль и, как только заработал мотор, поднес ко рту ампулу с ядом.
Обществу смерть Роммеля была представлена как трагическая гибель легендарного героя – подобный поворот сюжета под силу только таланту Шекспира. В данном случае, если следы не уводят нас в ложном направлении, творцом драмы был сам Геббельс, ибо кому еще из тех, кто сам изощренно казнил заговорщиков, была дорога репутация Роммеля? Кто, как не он, сделал его идолом и идеалом всего немецкого народа? Он один желал сохранить имя Роммеля незапятнанным, у него одного были причины пощадить образ того самого Роммеля, которого он наделил всеми достоинствами германского офицера и, самое главное, которому он действительно доверял. Только Геббельс мог предложить своему бывшему другу столь жестокий и бесчеловечный выбор, и только тот, кто любил Роммеля, как Геббельс, мог заранее знать, какой путь он изберет.
Однако в бумагах Геббельса мы нашли только следующую запись: «К несчастью, выяснилось, что Роммель также участвовал в заговоре. Могу только сказать, я благодарен судьбе за то, что Роммель умер. В противном случае мы были бы вынуждены сообщить народу о его соучастии…» Для солдат Роммель являлся настоящим кумиром, и подобное разоблачение грозило вызвать серьезное брожение в их умах.
Как только суд начался, Геббельс потерял к нему интерес. Не то было с Гитлером. Он интересовался каждой деталью, каждым свидетельством до такой степени, что приказал даже снять фильм обо всем расследовании. За спиной председателя трибунала стояли операторы с камерами и день за днем, час за часом запечатлевали весь ход процесса, изводя не метры, а километры пленки. Ночью отснятый материал демонстрировался Гитлеру, который требовал прокручивать его снова и снова. Тридцать, сорок, затем все шестьдесят километров… Но Гитлер не успокаивался. Наконец он отослал все пленки Геббельсу с предложением смонтировать полнометражный документальный фильм, который, по его мысли, должен был посмотреть каждый немец.
Геббельс встретил предложение с недоумением, просмотрел отснятый материал и пришел в еще большее замешательство. Он не мог понять одержимости и мстительности Гитлера. Кроме того, он прекрасно понимал, что фильм такого содержания произведет на людей действие обратное желаемому, что немцы вовсе не жаждали стать свидетелями расправы над лишенными возможности защищаться пленниками, потому что весь судебный процесс от начала и до конца был не чем иным, как неприкрытым и непрерывным издевательством над участниками заговора. Прежде всего Геббельс сократил фильм до двенадцати километров пленки, и все равно он оставался слишком длинным. В глубине души Геббельс принял решение не выпускать его на экран, и в конце концов ему удалось каким-то образом настоять на своем.
Геббельса крайне разочаровали недальновидность и узколобость фюрера. Его стенографист и секретарь заметили – причем независимо друг от друга, – что во время разговоров с фюрером в его голосе появились новые нотки. То же самое можно сказать и о его дневнике. Теперь он обращает внимание на внешний вид Гитлера, на его трясущиеся руки и пальцы, на его неуверенную походку, болезненный цвет лица и еще обычно добавляет, что все это не что иное, как разрушительные последствия покушения на жизнь фюрера. Безоглядное восхищение и восторг прежних лет бесследно исчезли, уступив место чувству, похожему на жалость, если не на презрение.
Он уже не видел в Гитлере всегда непогрешимого и победоносного полубога, живое олицетворение силы и могущества. Гитлер во многих отношениях потерпел поражение, и Геббельс считал, хотя и не мог сказать об этом вслух, что фюрер сам повинен в своих неудачах. Оказалось, что Гитлер мог ошибаться, как и всякий другой человек. Некоторые из сотрудников Геббельса стали замечать, что он чувствовал себя «выше» Гитлера[110].
Это открыло новую эру в их отношениях – отныне на Гитлера необходимо было влиять и в некотором смысле руководить им, а может, даже и контролировать. Не случайно именно в этот период Геббельс потребовал от германской прессы не упоминать о юношеских рисунках и акварелях Гитлера.
Приблизительно в те же дни Фрицше явился к Геббельсу и молча указал на абзац во втором томе «Майн кампф», где в главе XI Гитлер оплакивает цвет германской молодежи, который был принесен в жертву, «как беззащитное пушечное мясо», и возлагает вину за преступную бойню на последнем этапе Первой мировой войны на имперские власти Германии. «Теперь, – сказал Фрицше, – сам Гитлер повинен в точно таком же злодеянии». Когда Геббельс ничего не ответил на его замечание, Фрицше добавил, что Гитлеру было бы лучше отречься от власти. Геббельс продолжал хранить молчание, хотя, случись такое несколько недель назад, он завизжал бы: «Государственная измена!»
В то время как Геббельс вещал всему миру, что произошло чудо, благодаря которому Гитлер остался невредимым при взрыве бомбы, другое чудо происходило в нем самом, ибо взрыв той самой бомбы потряс Геббельса до глубины души. Гитлер, в которого он верил все эти годы, потому что всем своим естеством жаждал верить, больше не существовал. Когда дым после взрыва рассеялся, внутреннее зрение Геббельса прояснилось, и постепенно он стал видеть Гитлера таким, каким тот и был в действительности.
4
Тем временем Гитлер предоставил Геббельсу значительные полномочия. Вечером 21 июля министр пропаганды сел в поезд, направлявшийся в ставку фюрера, куда и прибыл на следующее утро. Число охранников увеличилось в десять раз. Всех, кто хотел видеть Гитлера, обыскивали с головы до пят, и для Геббельса тоже не сделали исключения. Потом у него состоялся долгий разговор с фюрером. О беседе он ничего не рассказывал, только уже на ступеньках вагона он обронил: «Получи я нынешнюю власть, когда она была мне нужна позарез, сегодня победа была бы нам обеспечена, а война, возможно, закончилась. Оказывается, надо было взорвать под фюрером бомбу, чтобы он согласился с моими доводами».
25 июля 1944 года Геббельс был назначен на вновь созданную должность с труднопереводимым названием Reichbeauftragter fur den totalen Kriegseinsatz (нечто вроде «имперского руководителя по проведению тотальной мобилизации») и обширными правами, дававшими ему возможность по своему усмотрению распоряжаться людскими ресурсами во всей Германии. Официально это назначение было сделано Герингом, на деле же Геринг был нужен только для проформы, так как к тому времени он уже перестал играть мало-мальски значимую роль в государственных делах. В рамках министерства пропаганды был создан особый департамент под названием «Тотальная мобилизация». Его штат состоял всего из нескольких служащих, потому что Геббельс хотел, чтобы его новый департамент работал как можно более гибко. Каждое утро с девяти до десяти часов его сотрудники совещались с Геббельсом и представляли свои новые предложения, которые в случае одобрения передавались на исполнение. Все меры преследовали одну цель: высвободить мужчин для фронта и женщин для военного производства. Поскольку первая задача была намного важнее второй, Геббельс взялся за фабрики и заводы, откуда постепенно были отправлены на фронт чуть ли не все рабочие, независимо от уровня их профессионального мастерства. Геббельс пояснял: «Мы просто обязаны создать временный вакуум на производстве, но скоро в военную промышленность хлынут новые силы, способные заполнить пустоту». (Частично ее заполнили за счет рабской рабочей силы из концентрационных лагерей.)
Начиная с 28 июля один за другим издавались все новые и новые декреты. Почта стала доставляться адресатам только один раз в день… Призывались на работу все женщины в возрасте до пятидесяти лет… Поездки по стране допускались только в случае самой крайней необходимости… Все приемы, выставки и публичные празднества были запрещены… Требовалось сократить число домашней прислуги… Мелкие газеты и издательства закрывались… Инвалидов войны привлекали к посильному участию в военном производстве… Выплаты пособий неработающим женщинам отменялись… Временно прекращались занятия в школах для всех мальчиков и девочек в возрасте от четырнадцати лет, что высвобождало восемьдесят тысяч молодых людей для службы в частях противовоздушной обороны… Молодые актеры театра и кино отправлялись в цеха по производству оружия… Вводилась шестидесятичасовая рабочая неделя… Выпуск всей журнальной периодики приостанавливался… Закрывались все театры…
Закрытие театров и принудительная отправка актеров на заводы были личной местью Геббельса тем, кого он когда-то так высоко ценил. От этой повинности не удалось уклониться ни одной бывшей возлюбленной министра пропаганды. Сотруднику Геббельса Паулю Хинкелю пришла в голову несчастливая мысль представить актеров в более благоприятном свете, для чего им предложили направить фюреру свои заверения в преданности. Раболепные клятвы предполагалось переплести в виде альбома и преподнести Гитлеру в качестве рождественского подарка. Идея потерпела полный и позорный провал. Одни актеры решительно отказались от предложения, другие отделались тем, что прислали бесцветные цитаты из произведений немецких классиков, а один имел наглость написать: «Я так же верю в фюрера, как и в нашу победу». Намек был слишком прозрачный, но Геббельс не мог ничего поделать.
Одновременно с департаментом тотальной мобилизации Геббельс основал в министерстве еще один отдел под названием «Акция-Б». Он был нужен, чтобы следить за тем, как население встречает меры тотальной войны, и поднимать боевой дух любыми средствами. Сотрудники отдела «Акция-Б» действовали уже проверенным способом, который приносил прекрасные результаты во время борьбы нацистов за власть. Один «заводила» и двое «громил» отправлялись в поход по городу, заходили в рестораны и другие общественные места, где первый заводил разговор с людьми по поводу тягот жизни из-за введения всеобщей военной повинности, подбивая их на откровенность. Если собеседники одобряли правительственные меры, все заканчивалось благополучно. Но стоило кому– нибудь высказать хоть слово против, как возмущенные «друзья народа», то есть «громилы», околачивавшиеся поодаль, тотчас набрасывались на недовольного и жестоко избивали его.
Руководитель отдела «Акция-Б», некий Хегерт, относившийся к возложенному на него делу крайне серьезно, доложил Геббельсу, что настроение людей «довольно бодрое», на что Геббельс только саркастически ухмыльнулся – у него были сомнения на этот счет.
Для учителей, служащих государственных учреждений и почтальонов издавались особые брошюры. В них убедительно доказывалось, почему именно данная профессиональная группа людей и их деятельность так важны для достижения окончательной победы над врагом. В книжонках печатались серии вопросов, по которым каждый сознательный и добропорядочный немец мог определить в своей среде презренных Miessmacher и Kritikaster. Читателю брошюры не нужно было утруждать себя размышлениями – за него думал Геббельс. Он всячески ободрял людей и просил их направлять в министерство пропаганды свои предложения о том, как сделать тотальную войну всеохватывающей, как сохранить людские силы и материальные ресурсы и в то же время нанести наиболее значительный ущерб неприятелю. Каждую частицу своей энергии Геббельс посвящал поставленной задаче: воодушевлял людей, внушал им решимость сражаться до конца, что бы ни случилось. Великий пропагандист снова взялся за работу.
В то время Геббельс вернулся к своим «революционным» увлечениям. Тотальная мобилизация тыловых ресурсов, так же, как и фронт, смывала все социальные различия. Теперь богатые тоже были обязаны работать, им уже не разрешалось нанимать прислугу, они не могли посещать театры и дорогие рестораны, не могли разъезжать на личных автомобилях. «Наша война по своей сути есть социальная революция, – писал Геббельс 1 ноября 1942 года, – она разрушает старый враждебный мир, но за дымящимися руинами предстает перед нами новый и лучший».
Даже Магда добровольно решила работать на фабрике. Она ездила туда троллейбусом, чтобы не вызывать возмущения товарищей по работе своим роскошным автомобилем. В конце концов, люди должны были поверить, что она руководствуется исключительно чувством национальной солидарности и хочет стать достойным примером для остальных жен высоких чинов в нацистской иерархии. Кроме того, каждую пятницу ей приходилось делать Геббельсу маникюр, так как все профессиональные маникюрши из закрытых парикмахерских и салонов красоты были отправлены на трудовой фронт, но Геббельс категорически отказывался запускать свои руки. Если по той или иной причине Магда не могла заняться его маникюром, эта работа доставалась его секретаршам. После диктовки они должны были являться к нему вооруженными ножницами и пилками для ногтей. Только оставаясь наедине друг с другом, они давали волю своему недовольству и даже возмущению – им требование Геббельса казалось унизительным.
5
Слова, которыми Геббельс закончил свое знаменитое выступление после катастрофы под Сталинградом: «Вставай, народ, иди на бой и обрети свободу!» – были призывом времен освободительных войн 1813 года, когда Пруссия воевала, чтобы свергнуть иго Наполеона I. Теперь идея levee en masse[111] прославлялась в бесчисленных газетных статьях. Геббельс дал поручение снять исторический фильм «Кольберг»[112]. Вся громадная пропагандистская машина безостановочно работала, настойчиво внушая людям, что поражение германских армий само по себе еще ничего не решает до тех пор, пока остается достаточно немцев, включая стариков и подростков, готовых грудью встать на защиту фатерланда.
После обработки населения пропагандистской канонадой в течение трех-четырех недель вышло сообщение, что Гитлер решил создать Volkssturm, то есть отряды народного ополчения. И снова выполнять решение фюрера поручили Геббельсу[113]. Он выпустил декрет, согласно которому каждый мужчина в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет автоматически становился членом фольксштурма. Формированием новых частей занимались партийные функционеры, которым было приказано ежедневной муштрой по сокращенной программе подготовить эрзац– бойцов. Вместо формы ополченцам выдавали нарукавные повязки с надписью «Фольксштурм».
В каждом населенном пункте, независимо от численности его населения, появились призывные пункты. Они открывались в помещениях пустующих складов, в ратушах или в зданиях городских судов, в театрах или магазинах. У их дверей выстраивались длинные очереди из стариков, инвалидов, недужных хронических больных; среди «добровольцев» встречались почти дети. Принимали всех без разбору: предполагалось, что каждый будет считать своим долгом внести свой вклад в общую победу. Увы, «встать и пойти на бой» народу мешало чувство обреченности, единодушного отклика призыв не нашел нигде, за исключением, пожалуй, среды подростков. Геббельс тщетно пытался воодушевить людей, рассылая указания своим пропагандистам в округах и требуя от них цитировать при каждом удобном случае Фридриха Великого, Бисмарка, Гитлера и его самого, Геббельса. Но общий тон его директив был довольно унылым, в них проскальзывали нотки бесконечной усталости – даже Геббельсу недоставало прежнего огня, который вспыхнул в нем всего в нескольких случаях.
Одним из таких случаев было приведение к присяге десяти тысяч фольксштурмовцев. Геббельс лично входил во все детали церемонии, которая должна была состояться на площади перед зданием министерства пропаганды. Он проверил все, вплоть до декорации порталов и расположения микрофонов. Он собирался выступить с речью с балкона. В последнюю минуту выяснилось, что на торжество пожалуют почетные гости. Некоторым из них отвели место на том же балконе у него за спиной, так что им не составляло бы труда заглядывать через его плечо в заранее приготовленный текст речи. Геббельс отложил рукопись в сторону и начал импровизировать. Чем больше он говорил, тем большее возбуждение охватывало его; оно было искренним, а потому легко передалось толпе. Слушатели были глубоко тронуты его словами. Когда Геббельс вернулся в свой кабинет, гости стали ему аплодировать, но он остановил их усталым жестом. Через пять минут он снова сидел за столом, пытаясь справиться с нескончаемым потоком бумаг.
В то время как Геббельс прилагал отчаянные усилия, чтобы подбодрить упавшее духом население, в печати появился очерк, подписанный безымянным фронтовым корреспондентом. Заметка произвела эффект разорвавшейся бомбы. Там, в частности, были такие слова: «Мы отступаем на всех фронтах, половина Германии лежит в руинах, казалось бы, наши дела идут хуже некуда, но тем не менее мы выиграем войну через два месяца». Очерк произвел сенсацию, все немецкие газеты его перепечатали, поползли слухи, что за автором статьи стоит правительство, что вскоре произойдет нечто исключительное, что события, наконец, примут иной оборот.
Редакторы газет поспешили в министерство пропаганды за долнительными сведениями. Их встретил растерянный чиновник не самого высокого ранга, в отчаянии разводивший руками. Он уверял, что нашумевший очерк – всего лишь очередная корреспонденция одного из военных журналистов и что его автору известно ничуть не больше, а то и меньше, чем другим. Он умолял редакторов не раздувать заурядную историю. Но никто из редакторов ему не поверил. Все по-прежнему считали, что на самом деле за очерком кроется гораздо большее, чем это хочет признать министерство пропаганды. На неделю всю Германию захлестнула волна оптимизма, но, видимо, на этот раз Геббельс действительно был ни при чем.
Люди больше не верили тому, что говорил им Геббельс. Лозунг «возмездия» находил совершенно обратный отклик в их душах. Что пользы немцам в том, что полЛондона лежит в руинах, если английские самолеты днем и ночью беспрепятственно пересекают Ла-Манш и бомбят города Германии? Так же как и в первое время после установления гитлеровского режима, в народе стали ходить многочисленные анекдоты о Геббельсе, которые не оставляли сомнений в том, как люди относятся и к нему самому, и к его пропаганде.
Так, например, был анекдот о том, как Геббельс умирает и в сопровождении святого Петра направляется в рай. По пути туда он видит в стороне дверь с броской вывеской «Ад». Не в силах сдержать любопытство, он открывает дверь, заглядывает и видит толпу миленьких девиц. Геббельс чешет затылок, недолго думает и говорит святому Петру: «Мне на земле от врагов житья не было, так что я, пожалуй, лучше останусь здесь». Не успел святой Петр переступить через порог, как на Геббельса набросились черти с гнусными ухмыляющимися рожами. «Стойте! – кричит Геббельс. – А где же красотки?» А черти с хохотом отвечают ему: «Это была пропаганда!»
Рассказывали и другой анекдот. В Берлине проходит парад в честь победы. Рузвельт, Сталин и Черчилль стоят на высокой трибуне, а перед ними проходят победоносные войска. Неожиданно в полу открывается люк, оттуда высовывается Геббельс и говорит: «Все равно войну выиграли мы».
Вот еще. Гитлер, Геринг и Геббельс стоят у окна рейхсканцелярии и смотрят, как в Берлин торжественным маршем входят войска союзников. Геббельс радостно говорит: «Теперь от возмездия им не уйти!» Остальные смотрят на него как на сумасшедшего, а Геббельс объясняет: «А где же они теперь будут жить?»
Но люди не ограничивались одними анекдотами, министерство пропаганды просило их присылать свои отклики на тотальную мобилизацию. Письма шли потоком. Вот один из характерных образцов: «Мы хотели бы, чтобы вы нам кое-что объяснили, а то мы многого не понимаем. Когда союзники захватили Сицилию, вы говорили, что виной всему предатель Бадольо. Кто же теперь виноват, что они высадились во Франции? Где ваш неприступный Атлантический вал? Где минные заграждения? Где пушки, самолеты, крейсеры и другое вооружение для нашей обороны, которое вы взахлеб расхваливали в газетах и выпусках военной хроники? Будь наша оборона хоть вполовину такой мощной, как вы болтали, неужели союзникам удалось бы высадить десант и закрепиться в Европе? Что скажете, господин министр национального оболванивания? А теперь, вместо того чтобы избавить нас от бойни, пока мы все не оказались на том свете, вы еще что– то бубните о победе. Чего доброго, с вас достанет пойти к последнему живому немцу, у которого осталось добра штаны на теле и развалины от дома, и попросить его сделать еще больший вклад в дело победы. Будьте вы прокляты, болтун и лжец, карлик с манией величия».
Авторы других писем выражались короче и энергичнее: «Вы все мерзавцы, вам место на фронте! И ты, косолапый, тоже катись с ними! На виселицу вас всех, чтоб вас черти взяли!» Фольксштурмовцы угрожали ворваться в бомбоубежище Геббельса и с пользой для народа применить выданное им оружие. Дважды в неделю Геббельсу готовили отчет с выдержками из подобных писем. Читая его, он сохранял внешнее спокойствие; если брань людей и бесила его, то он, конечно, предпочитал не выказывать своих чувств. Однако охрана у входа в министерство и в коридоре, ведущем к канцелярии Геббельса, была усилена.
6
Вражеские войска подошли к Ахену. Жители упорно сопротивлялись, но все-таки были вынуждены сдать город. Геббельс попытался воспламенить всю нацию примером Ахена. В то же время он категорически запретил прессе называть Ахен «германским Сталинградом». Во-первых, одно только слово «Сталинград» вызывало у немцев ужас, а во-вторых, сравнение хромало: Сталинград так и не достался врагу.
Во всяком случае, Ахену судьбой было предназначено стать сигналом для перехода к тактике выжженной земли – так гласил приказ, полученный Геббельсом. Всякий клочок земли, которому угрожала опасность попасть в руки неприятеля, надлежало очистить от всего мало-мальски ценного. Но германские промышленники, когда-то помогавшие Гитлеру захватить власть, отнюдь не пришли в восторг, когда им предложили принести в жертву их фабрики, заводы и угольные шахты. Они засыпали Геббельса отчаянными письмами с возражениями и мольбами остановить бессмысленное разрушение. Было совершенно очевидно, что они намеревались по-прежнему жить и по-прежнему процветать даже после разгрома нацизма. Рабочие также отказывались взрывать заводы и затоплять шахты. Гауляйтеры, на которых Геббельс возложил ответственность за осуществление тактики выжженной земли, часто возвращались ни с чем и докладывали о неповиновении. Впервые дала себя знать оголенность тыла: обуздать непокорных не было сил.
Оставалось только снова прибегнуть к убеждению. С этой целью Геббельс неоднократно выезжал на линию фронта, которая уже находилась в опасной близости к Германии. Он беседовал с офицерами и солдатами, с пропагандистами и рабочими. Когда было возможно, он предпочитал поезд и только в крайних случаях садился в самолет или в автомобиль. В отличие от Геринга или Гиммлера он не требовал себе особый состав, а довольствовался отдельным вагоном. Вагон состоял из гостиной немногим меньше десяти метров в длину, обрудованной столом, креслами, аппаратурой звукозаписи и радиоприемником, рядом располагалась несколько меньшая спальня министра и ванная комната, крошечная спальня доктора Наумана и несколько купе для сопровождавших его сотрудников. Во время поездок в свободное время Геббельс диктовал записи для своего дневника, и даже его опытному стенографисту приходилось нелегко, когда вагон качало на скорости сто километров в час. Иногда он набрасывал план речи, которую намеревался произнести на следующий день, или вместе с остальными разгадывал шарады. При этом он радовался как ребенок, когда первым находил все ответы и обыгрывал своих спутников.
7
После таких поездок по стране с ним нередко случались приступы мизантропии. Все больше времени он проводил в Ланке, где уединялся в небольшом коттедже, спрятанном в глубине леса. Здесь, в полной тишине, он погружался в чтение и в размышления. Он отказывался покидать свое убежище, даже когда наступало время обеда: он говорил, что ему стало невыносимо общество людей, которые напоминают ему о войне. Порой он появлялся в министерстве только через три-четыре дня после возвращения из очередного путешествия.
Он чувствовал себя больным, и его терзал страх, что он болен раком. Доктора обследовали его, но не обнаружили никаких признаков страшной болезни. Его недомогание единственно заключалось в язве желудка, что, в свою очередь, врачи объясняли нервным состоянием министра. Другие медики сказали Геббельсу, что его повышенная раздражительность вызвана чрезмерным курением. Он решил бросить курить и перешел на драже, которое обычно рекомендуют сосать при простудных заболеваниях горла. Через два-три дня пилюли надоели ему. Кстати, пока он воздерживался от табака, ему невозможно было угодить, он вспыхивал по пустякам и выходил из себя, так что его сотрудники вздохнули с облегчением, когда он вернулся к своей дурной привычке не выпускать сигарету изо рта.