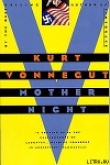Текст книги "Геббельс. Адвокат дьявола"
Автор книги: Курт Рисс
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
Другим событием, которому немецкой прессе не рекомендовалось уделять излишнее внимание, стал так называемый кризис британской короны. Незадолго перед тем молодой король Англии влюбился в мисс Уолли Симпсон, американку, которая уже дважды побывала замужем. Все стороны, имевшие какое-либо касательство к делу, сошлись во мнении, что брак невозможен, поскольку в ней нет ни капли королевской крови и она не может быть представлена ко двору. На сцене и за кулисами развернулась драматическая борьба, которую американский публицист Х.Л. Менкен назвал величайшей интригой со времен Рождества Христова, но подробности этой истории не представляют интереса для нашего повествования. Достаточно заметить, что правительственные круги Германии с неудовольствием восприняли отречение Эдуарда VIII, который, как им казалось, был расположен к нацистам.
Геббельс был потрясен тем, какой оборот приняли дела в Англии. Когда Эдуард VIII отказался от престола, он с оттенком мечтательности сказал жене и теще: «Подумать только, молодой человек был рожден, чтобы занять самое высокое положение в мире. Не шевельнув даже пальцем, он уже был правителем Индии и королем Англии. Ему стоило только захотеть, и любая женщина принадлежала бы ему, а он отдал все ради одной».
Примерно два года спустя он оказался перед таким же трудным выбором, что и король Англии. Обстоятельства вынудили его принять решение, и он его принял, хотя результат был несколько иным. Но он об этом еще не мог знать.
2
По-видимому, в ноябре 1936 года Геббельсу пришлось пережить сильнейшее разочарование. Тогда распространилось известие о том, что лауреатом Нобелевской премии мира стал немецкий писатель-публицист Карл фон Осецкий. Его антивоенные взгляды, которых он не скрывал, вызвали ненависть у армейских кругов, и суд Веймарской республики приговорил его к тюремному заключению по обвинению в шпионаже. В ночь, когда горел рейхстаг, его снова арестовали, к тому же одним из первых.
С тех пор он умирал медленной и мучительной смертью в концлагере. Его били и пытали, в конце концов он заболел туберкулезом. Но мир о нем не забыл, как о других заключенных. Снова и снова поступали запросы о его судьбе, набирали силу возмущенные голоса в Швеции, Швейцарии, Англии и даже в Соединенных Штатах. Нобелевская премия Осецкому была данью цивилизованного человечества выдающемуся пацифисту в знак протеста против вопиющей несправедливости.
Геббельс оказался в странном и неестественном для него положении. Вот два человека: он, облеченный всей полнотой власти, почти диктатор, которому никто не смеет возразить, и другой, брошенный в застенок и приговоренный к забвению. Но о нем не забывают, о нем говорят! Вскоре протесты настолько усилились, что Геббельс был вынужден выпустить его, но лишь для того, чтобы поместить в еще больший концлагерь под названием Германия[50].
В Москве Верховный суд полным ходом проводил чудовищную чистку. Не важно, сколько правды было в обвинениях и была ли она вообще, важно то, что процессы были уникальны в одном: подсудимые признавались во всем, что им ставил в вину прокурор, и даже больше, даже в тех преступлениях, о которых их не спрашивали.
Во всем мире, наверное, не было никого, кто не пришел бы в недоумение. А Геббельс, помимо всего прочего, должен был изумиться до крайности. Подсудимые не просто не дорожили своей жизнью – это он еще мог бы счесть за героическую готовность самопожертвования, – они упускали возможность для пропаганды своего собственного мировоззрения, что казалось ему глупым и достойным порицания. Более, чем Гитлер в Мюнхене, более, чем Геббельс в берлинском суде, русские притягивали к себе взоры общественности, и весь мир ждал их показаний. У них была возможность поведать всем свою философию мировой революции – возможность, которая никогда, в самом прямом смысле этого слова, им больше не представится. Но они молчали.
3
5 октября 1937 года Франклин Д. Рузвельт выступил со своей знаменитой «карантинной» речью.
«Мир, свобода и безопасность девяноста процентов населения земного шара подвергается опасности со стороны оставшихся десяти процентов, которые угрожают взорвать весь международный порядок и законность… К несчастью, следует признать, что эпидемия мирового беззакония распространяется.
Когда появляется угроза физического заболевания, общество налагает карантин на больных с целью защитить здоровую часть населения от распространения болезни… Война, объявленная или тайная, та же заразная болезнь. Она может поразить страны и народы, даже очень далекие от театра военных действий».
Геббельс был как громом поражен, когда наутро ему подали речь президента США в переводе на немецкий язык. Он сразу осознал всю значимость слов Рузвельта. Он объяснил помощникам, что ни англичане, ни французы никогда не были столь прямолинейны и откровенны в официальных выступлениях. Президент США ясно дал понять, что ни на грош не верит в мирные уверения немецкой (и японской) пропаганды. Он открыто высказал свои опасения, что нацисты готовятся к войне.
В последующие недели немецкая пропаганда немало говорила о Франклине Делано Рузвельте. Вот в чем, как уверяли специалисты Геббельса, заключается разница между Гитлером и Рузвельтом: единственной заботой фюрера является сохранение мира, в то время как президент США, в угоду своим избирателям, вынужден взяться за разжигание войны.
4
К тому времени Геббельс уже допустил одну из самых серьезных своих оплошностей. Он начал преследовать католическую церковь. Он развязал грандиозную кампанию, которая, как показало развитие событий, оказалась дутой. Ее суть можно свести к библейским словам: «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим». Ему вздумалось уничтожить ту силу, которая давала миллионам немцев силу духа и покой в душе. С этой целью Геббельс обвинил католическое духовенство во всевозможных грехах и бросил против него отборные силы[51].
Поход против католиков отличался беспрецедентным насилием и на редкость безнравственными методами. Ежедневно пресса печатала репортажи и свидетельства, содержавшие самые гнусные обвинения, то есть просто пасквили, которые ни одна уважающая себя газета не решилась бы опубликовать прежде. 30 апреля 1937 года травля превратилась в расправу: несколько тысяч католических священников были арестованы по подозрению в гомосексуализме. Сразу же последовала волна новых антикатолических статей, в которых утверждалось, что вина подозреваемых уже доказана. Сам Геббельс внезапно вспомнил, что и он был воспитан в римско-католической вере. Так же внезапно он вспомнил, что у него четверо детей, и очень красноречиво описал страдания воображаемого отца католического семейства, которого охватывает чувство омерзения, когда до того доходят слухи о творимых в католических семинариях непотребствах.
Несмотря на громкий поднятый шум, затея Геббельса провалилась. Вряд ли нашелся в Германии хоть один человек, который поверил в то, что монахи действительно виновны в столь тяжких грехах. Возможно, впервые миллионам немцев в голову закралась мысль, что во имя государственных интересов их потчуют исключительно ложью. Геббельс потерял лицо, а люди, годами не бывавшие в церкви, демонстративно пошли к мессе, давая тем самым понять, кому они доверяют, а кому – нет.
«Все сотрудники нашего министерства прекрасно видели, чем кончилось дело», – сказал позднее Фрицше. Факты были очевидны, не заметить их не мог даже ребенок. Один Геббельс упрямо не хотел признавать свою ошибку. И никто из друзей и соратников был не в силах переубедить его.
5
Геббельс стал великим человеком. Хотя и не самым великим: Гитлер был единственным, Гитлер был фюрером, и Геббельс понимал это. Он не был рожден, чтобы стать первым, – это он тоже понимал. Но он мог быть первым в своих удельных владениях, и он был там первым.
Теперь в его распоряжении был впечатляющих размеров кабинет. В центре на длинноворсном ковре с красно-синим узором стоял массивный, украшенный тонкой резьбой стол красного дерева. За ним стояло великолепное кресло эпохи Ренессанса с высокой спинкой. На столе, кроме тяжелой бронзовой лампы и вазы с цветами, обычно ничего не было. У окна находился круглый стол для совещаний с современными низкими креслами, крытыми ярко-красным шелком. На стене, по соседству с работами Рубенса и Рембрандта, висел огромный, выполненный маслом портрет фюрера.
Геббельс был близоруким и, оставаясь наедине с самим собой, надевал очки. Но даже самые близкие ему люди никогда не видели его в очках – ему не позволяло тщеславие. Все доклады для него печатали на машинке с тройным по размеру шрифтом. (То же самое и по той же причине делали для Гитлера.) Одна из первых внутренних инструкций, изданных Геббельсом на посту министра пропаганды, запрещала кому-либо пользоваться зелеными чернилами и зелеными карандашами, это право он оставил себе. С первого взгляда на бумагу сотрудники видели, какую правку внес сам Геббельс.
Таким образом он устроился. Вокруг находились кабинеты адъютантов, личных секретарей, помощников и стенографистов. На долю последних выпали самые тяжелые обязанности: от них требовалось неотлучно присутствовать при министре, чтобы записывать каждое его слово, поскольку никто, включая его самого, не знал, когда ему понадобится та или иная фраза из произнесенных походя.
За несколько лет, прошедших с тех пор, как он занял «Леопольдпаласт», министерство пропаганды разрослось до чудовищных размеров. Вокруг для служебных нужд скупили все дома, да еще в придачу было выстроено новое пятиэтажное здание. В его внутреннем дворе находилась оранжерея с диковинными деревьями, тропическими растениями и фонтанами. Всего в здании было пять подъездов, два из которых предназначались только для министра, его заместителей и высокопоставленных посетителей.
Новое здание состояло из почти пятисот помещений. Тут были большие и малые конференц-залы, студии звукозаписи, залы для просмотра киноматериалов, архивы. В подвале размещалась столовая, где можно было одновременно обслужить две тысячи человек.
Ежедневно в министерство приходило от трехсот до пятисот человек, желавших попасть на прием к министру пропаганды. Но он не принимал никого, за исключением сотрудников, некоторых друзей и актеров и актрис – о них более подробно будет сказано ниже. Каждый день с почтой приходило около пяти тысяч писем, и, по свидетельству управляющего делами министерства Карла Мелиса, Геббельс требовал давать на них ответ в течение двадцати четырех часов.
В штате министерства пропаганды существовала сложная бюрократическая иерархия: 3 помощника министра, 4 Ministerialdirigenten, 8 Ministerialdirectoren, 22 Oberregierungsrate, 63 Regierungsrate, 7 Ministerialrate. Все эти труднопереводимые титулы соответствовали определенному рангу в иерархии.
Геббельс начинал со 150 сотрудниками и 200 людьми из вспомогательного персонала. К началу 1936 года их число выросло до 800 и 1600 соответственно. Через год, по приблизительным подсчетам, в министерстве пропаганды в сумме уже работало 3000 человек. В апреле 1933 года хватало пяти уборщиц, а через три года их стало сто пятьдесят. А министерство продолжало расти. К концу войны министерство пропаганды владело двадцатью двумя зданиями и еще тридцать три арендовало. И во всех кабинетах люди писали, диктовали, стенографировали, печатали, говорили в микрофоны, звонили, посылали телеграммы – и все ради Геббельса.
С того времени, когда он был депутатом рейхстага и гауляйтером Берлина с «королевским» жалованьем девятьсот марок в месяц, он прошел долгий путь. Но если брать в расчет исключительно финансовую сторону, то он мог бы желать и большего. В 1935 году его ежемесячный заработок министра составлял 1750 марок, к которым добавлялась еще небольшая сумма на представительские расходы. Потом Гитлер увеличил его жалованье на три тысячи. Но и после этого Геббельс никак не мог достичь суммы шесть тысяч марок, что выглядело совсем смехотворно по сравнению с действительно огромными деньгами, которые беззастенчиво клали себе в карман другие нацистские главари.
Зато само министерство пропаганды поглощало поистине чудовищные суммы. Первоначально министерство финансов рейха выделило Геббельсу бюджет в четыре– пять миллионов. Тот отказался даже разговаривать о такой ничтожной сумме. Он пошел к Гитлеру, тот дал соответствующие указания, и в министерство пропаганды потекли деньги из партийной кассы.
Начиная с 1935 года на плановые расходы было истрачено 67 миллионов, к которым необходимо прибавить 65 миллионов внеплановых расходов. Но и это еще было не все. От министерства финансов требовали 35 миллионов на заграничную пропаганду, 40 миллионов для Трансокеанского агентства новостей, которое одновременно являлось гнездом политико-пропагандистских агентов, 45 миллионов для Германского информационного агентства, 40 миллионов на театр и кино. А в довершение ко всему в распоряжении Геббельса находился ежегодный тайный фонд в 45 миллионов марок. (Эти статистические сведения были мне предоставлены суперинтендантом министерства пропаганды.)
В отличие от своих товарищей по нацистской партии, старавшихся не замечать разницы между личными и служебными расходами, сам Геббельс был крайне щепетилен в денежных делах. По единодушному отзыву сотрудников министерства пропаганды, он не истратил ни гроша на свои личные нужды.
Таков он был – маленький великий человек. Его боялись, уважали, проклинали, ему льстили. Работать под его началом не было особо приятным занятием. Сотрудники, чем-либо не угодившие ему, вынуждены были уходить. «Если вы не сумели расположить его к себе, то с работой можно было прощаться» – так сказал посыльный, проработавший у Геббельса много лет.
Его секретарь фрейлейн Инге Гильденбранд рассказывала: «То, как часто менялись люди, было особенно заметно в кругу его ближайших сотрудников. Вряд ли это можно объяснить обычным расхождением во мнениях или спорами по поводу текущих дел. Пожалуй, причина заключалась в том, что от сотрудников требовали полностью отдавать себя работе. Им было нельзя жить личной жизнью… В присутствии Геббельса в воздухе словно повисало что-то тяжелое, становилось неуютно. А если он внезапно поворачивался к вам и смотрел в упор, никто не знал, что делать… Его педантизм был невыносим. Он требовал раскладывать бумаги на его столе по строго определенным правилам. Это стало похоже на доведенный до абсурда ритуал, и мы часто посмеивались над ним: газеты и документы должны лежать точно в центре стола, папки – на краю стекла, покрывавшего стол, и все ровненько, чтобы получалась прямая линия… В частных беседах он, естественно, задавал тон и подавлял собеседника. Его реплики часто отличались остроумием, но больше бывало цинизма. Сотрудники, которых он удостаивал беседы, почтительно слушали, вежливо улыбались, когда улыбка была уместной, и облегченно вздыхали, когда он, наконец, уходил в свой кабинет».
Геббельс наслаждался своей неограниченной властью, а его статьи между тем бледнели, становились все более тусклыми, сентиментальными и скучными. Почему же так случилось? Неужели он надеялся, что журналист в состоянии написать что-то стоящее за десять минут в перерыве между предвыборным митингом и различными административными заботами? Неужели он может творить, если его заела рутина и он забыл, что такое импровизация?
Геббельс был несокрушим и полон задора, когда шел в наступление. Теперь, став министром, он олицетворял собой государство. Ему следовало перестать горланить и размахивать руками, в его облике должна была появиться сановитость. Однако он не был создан для подобной жизни.
В годы, когда национал-социалистическая партия сражалась за власть в рейхстаге, депутаты-нацисты демонстративно покидали парламентское собрание. Статьи Геббельса о рейхстаге больше походили на далеко не дружеские шаржи, на блистательные карикатуры, в которых он изливал свою желчь на храпящих в своих креслах депутатов. Теперь Германия вышла из Лиги Наций. Какой простор открылся для сарказма Геббельса! Сколько язвительных слов мог бы он сказать о ее бесчисленных комитетах с нескончаемыми заседаниями, от которых нет никакого толку, о ленивых господах из Женевы, которым недостает ума что-либо придумать и желания что-либо сделать! Лига Наций буквально просилась на бумагу под сатирическое перо Геббельса. Но выход Германии из Лиги Наций прошел бесцветно; читая газеты, было впору зевать. Не появилось ни одной статьи, которая придала бы событию особый острый привкус.
В прежние времена Геббельс мог язвить по любому поводу, что бы ни делала республика, она априори делала плохо. Теперь же все должно было обстоять наилучшим образом. Конечно, он сознавал, что это ложь и правдой быть не могло, что в партии не было людей, способных управлять страной. Его возмущало то, как обогащались Геринг и Аманн, и в частных беседах он не скрывал своих чувств. Зато все, что выставлялось на всеобщее обозрение, следовало тщательно ретушировать, его обязанностью стало восхвалять то, что было достойно порицания. И он прекрасно понимал, что расточает похвалы ничтожествам, которым место за решеткой.
Геббельс достаточно рано увидел, где самое уязвимое место его нового положения. И он поступил в высшей степени странно. Он пытался управлять прессой и устраивать митинги так, как если бы нацисты все еще оставались в оппозиции. Партия получила всю полноту власти в Германии, а заголовки газет звучали так, словно она была на грани запрещения и уничтожения. Такое впечатление создавалось не из-за общего содержания статей – наоборот, пресса ежедневно убеждала читателей в том, что твердости режиму не занимать и он продержится еще не одну тысячу лет, – а из-за общего истерического тона, который буквально пронизывал печать и выдавал напряжение, скрывавшееся за бравурно-бодрым фасадом. Типичным для ура-патриотических газет – а в Германии других и не могло быть – являлись заголовки вроде: «Против большевистско-еврейской мировой опасности», «Евреи – подстрекатели мировой революции», «Наемники иностранного легиона Коминтерна».
Возможно, неважное качество статей Геббельса объяснялось тем, что теперь он мог диктовать их в спокойной обстановке, а не писал их «на едином дыхании». Но для читателей особой разницы уже не было, немцы стали всеядны. Никогда еще Геббельс не испытывал такого циничного презрения к народу, как в первые годы нацистского правления. С другой стороны, это было время, когда перевооружение Германии сказывалось на всех отраслях национальной промышленности. Несведущий в экономике обыватель радовался и обретал уверенность, когда читал волшебную геббельсовскую статистику. Вероятно, можно предположить, что в те годы немецкий народ безусловно поддержал бы гитлеровский режим, даже не будь Геббельса с его министерством пропаганды.
6
Была ли пропаганда средством достижения цели? Было ли распухавшее на глазах министерство пропаганды не более чем департаментом по связям с общественностью в поддержку какой-либо идеи, политики или правительства? Порой казалось, что все правительство Германии на самом деле является всего лишь одним из отделов министерства пропаганды. Политические методы либо принимались на вооружение, либо отбрасывались, как неприемлемые, в зависимости от того, какой пропагандистский эффект они произведут. Никто не говорил: «Правительство намерено принять те или иные меры. Каким образом в этом случае мы должны подготовить немецкий народ и весь зарубежный мир, чтобы они отнеслись к нам с пониманием?» Или: «Что мы должны сделать, чтобы оправдать свои действия?» Скорее, вопрос ставился иначе: «Каким образом мы должны действовать, чтобы свести до минимума недовольство за рубежом? Что может одобрить немецкий народ? Какие меры надо принять, чтобы успокоить мир и поднять дух немцев?» То есть, по сути, не пропаганда следовала за политикой, а наоборот.
Так пропаганда стала вещью в себе, довлеющей над действительностью. И эта поддельная действительность состояла преимущественно из лозунгов. Геббельс изобретал их сотнями, а его пропагандистская машина вколачивала их в головы немцев. Первым лозунгом был «Пробудись, Германия!», затем последовали «Наша беда – евреи!», «Народу необходимо жизненное пространство!», «Кровь и грязь!» и так далее. По мере распространения пропагандистских лозунгов немцы все больше удалялись от настоящей жизни и все глубже погружались в геббельсовскую действительность, созданную тотальной пропагандой.
К концу 1937 года были проложены первые 2500 километров шоссейных дорог рейха. Такое достижение побудило Геббельса выступить с речью под названием «Дороги Адольфа Гитлера». Она пользовалась успехом, и ее называли увертюрой к миру, хотя было очевидно, что в случае войны сеть шоссейных дорог крайне необходима для быстрой переброски моторизованных войск.
За неделю до этого Муссолини покинул Лигу Наций.
7
Теперь Геббельс вел такой же роскошный образ жизни, как Геринг или Риббентроп. Он тратил безумные деньги на себя лично. Его гардероб состоял из доброй сотни костюмов, и полные комплекты одежды всегда и везде были в его распоряжении.
По меньшей мере дважды в день он менял рубашку и белье, но еще чаще – обувь. По свидетельству секретарей, у него было сто пятьдесят пар обуви из самых разнообразных материалов и всех мыслимых фасонов и расцветок. Его любимым цветом был белый. Летом, везде, где только было можно, он появлялся в белом льняном костюме, белых туфлях и носках. Белая одежда выгодно оттеняла его смуглый цвет кожи. Его круглогодичный загар был искусственным: не менее часа в день он проводил под кварцевой лампой, благодаря чему всегда выглядел человеком, только что вернувшимся с отдыха на горнолыжном курорте или пляже. Лишь в последние недели перед смертью ему стало не до загара.
Геббельс любил окружать себя красивыми людьми. Он терпеть не мог невзрачных, бледных секретарш и требовал, чтобы они выглядели холеными и хорошо одетыми. Он также ненавидел тех, кто непрестанно рассуждал о том, что предназначение женщины – кухня и дети. Его чувства оскорблял вид большинства жен гауляйтеров, безвкусно наряженных провинциалок, словно воплощавших идеал женственности по-нацистски. В конце концов он написал едкую статью, где вдоволь посмеялся над подобными представлениями.
«Некоторые люди – я имею в виду тех, у которых жизнь позади или которым и жить не стоит, – денно и нощно читают нам проповеди во имя революции. Однако их мораль не имеет ничего общего с подлинной моралью… Они сами себя возвели в сан судей и с завидной настойчивостью суют свой нос в частную жизнь других. Как бы им хотелось учредить по всей стране комиссии по надзору за целомудрием и смаковать любовные истории мюллеров и шульцев. Дай им волю, они мигом превратят национал-социалистическую Германию в нравственную пустыню, где будут царить доносы, грязные сплетни и вымогательство».
Геббельс не имел ничего против косметики, и тем не менее для него стало открытием, что и Магда ее употребляет. Как-то раз он застал жену за макияжем и удивленно спросил: «Дорогая, с каких пор ты пользуешься косметикой?» На что она безмятежно ответила: «Я всегда ею пользовалась, милый».
Во всем, что касалось женских ухищрений, он оставался наивным, как ребенок. Однажды они отдыхали на балтийском курорте Бад-Хейлигендамм. Геббельс долго оглядывал женщин на пляже и вдруг взорвался, обнаружив, что почти все они блондинки. «Я бы принял специальный закон и запретил женщинам обесцвечивать волосы перекисью водорода!» – сердито сказал он. Все смущенно умолкли – Магда тоже не была натуральной блондинкой, да и обе киноактрисы, в компании которых они отдыхали, пользовались краской «Нордик» из салона красоты. По словам матери Магды, Геббельс так никогда и не узнал, что волосы его жены были крашеными.
Домашняя экономия Магды граничила с крохоборством, хотя Геббельс больше не испытывал финансовых затруднений. Магда экономила на всем, на чем было можно и на чем было нельзя: детей одевали со спартанской простотой, прислуге не оплачивали отпуск, питались скудно и невкусно. Доходило до того, что иногда почти всю неделю на столе не появлялось ничего, кроме жареного картофеля и селедки. Геббельсу было все равно, что он ест, к тому же он отличался скверным аппетитом. Однако угодить гостям было не так легко. Из-за убогого и скудного угощения дом Геббельсов пользовался дурной славой, и многие звезды берлинской сцены и кино, приглашенные к ним на обед, предпочитали загодя перекусить у себя дома.
Магда вскоре догадалась, что их званые вечера не пользуются особой популярностью, но неблагоприятная атмосфера возникала не только и не столько из-за плохого угощения. Главная причина крылась в том, что Геббельс словно умышленно пытался поставить своих гостей в неловкое положение. Всякий раз он предлагал поиграть в викторину и старался выставить напоказ чье-нибудь невежество. А кто не мог похвастаться знанием истории Германии, так это юные киноактрисы.
Однажды известная дива Йенни Юго не смогла назвать имя одного из прусских королей. Геббельс с нескрываемым злорадством смотрел на смутившуюся актрису, словно учитель, уличивший нерадивого ученика. Позже фрау Юго призналась: «Я знала его имя, прекрасно знала, но боялась, что он не ариец. Вот и решила, что лучше промолчать».
8
Геббельс очень любил театр. «Он всего лишь несостоявшийся актер», – сказала о нем одна известная актриса.
Теперь он стал полновластным владыкой драматического театра. Через несколько недель после вступления в должность министра пропаганды он объявил о грядущих важных переменах. «Великая дробь барабанов, возвещающая начало новой эры, не должна стихать у портала театра, она должна быть слышна и в зале, и даже на сцене, – громогласно заявил он. – Я отвергаю лозунг интернационального искусства».
Одной из первых его «реформ» стало увольнение всех евреев – и режиссеров, и актеров. По сути, выбросив их на улицу, он убрал из искусства многих из тех, кто принес всемирную известность берлинской сцене. Позже он запретил театральную критику, как не преследующую нужных целей и приносящую только вред. «В будущем мы уделим внимание нашим театральным достижениям, имеющим общенациональную ценность, а пока избавим публику от этих пагубных обзоров», – возвестил он.
Геббельс просто терпеть не мог все виды критики. Как только речь заходила о недостатках, он терял последние остатки чувства юмора. Это особенно показательно в его отношении к кабаре. Как известно, кабаре в Германии было в большой степени политизировано, в нем звучали едкие комментарии в адрес правительства и власти как таковой. Естественно, в Третьем рейхе кабаре оказались в самом тяжелом положении, поскольку ни одному известному конферансье не хотелось даже ради хорошей шутки оказаться в концлагере в качестве Kritikaster. Не стоит объяснять, почему такой популярностью стала пользоваться горстка людей, которые еще осмеливались бросить вызов нацистам. Среди них был и некий Вернер Финк. Он выходил вечерами на сцену, и у него над головой висела армейская сабля, как бы символизирующая собой дамоклов меч. Он мог появиться перед зрителями с перевязанным полотенцем головой и сказать: «Что-то сегодня давление сверху повысилось». Он мог приветствовать публику: «Хайль Гитлер!», а затем добавить: «А для одного процента среди вас – добрый вечер».
В сущности, Геббельс мог бы себе позволить просто посмеяться. Но способность к самоиронии у него отсутствовала напрочь. Время от времени он ссылал Финка и других конферансье в концентрационные лагеря. Подобные репрессивные меры не прибавляли авторам и исполнителям скетчей бодрости, и скоро публике уже не было над чем смеяться. Если требуются иные доказательства того, что Геббельс не обладал чувством юмора, можно привести как пример совершенно фантастический случай: в феврале 1939 года он объявил конкурс на лучшую шутку года.
Результат никогда не был обнародован.
9
С самого начала одним из самых крупных департаментов министерства пропаганды стал департамент по делам кинематографии. Уже на первом этапе туда были привлечены сотни сотрудников, которые взяли под свой надзор абсолютно все, что касалось кино. Геббельс вмешивался в производство уже на этапе сценария. Прежде всего требовалось представить краткое содержание будущего фильма на трех – пяти страницах. Геббельс тут же начинал делать замечания, возражать то против одного, то против другого, и дело долго не сдвигалось с мертвой точки. Иногда он высказывал особые пожелания, которые следовало понимать как обязательные к выполнению требования. К примеру, когда началась война, чуть ли не официально было сказано, что Геббельс не желает больше смотреть серьезные фильмы. За последующие несколько недель министерство пропаганды затопили заявки на съемку кинокомедий. Геббельс пришел в раздражение: кому понадобилось ставить столько комедий в суровое военное время? Нужны серьезные фильмы. Произошло всеобщее оцепенение. Миновало еще несколько недель, прежде чем недоразумение разъяснилось: недовольство Геббельса изначально вызвали не серьезные фильмы, а кинокартины из жизни врачей, которых было немало снято перед самой войной. Дело было в том, что немецкие слова ernste Filme и Arzte Filme звучат практически одинаково. Кто-то недослышал и недопонял, и в головах перепуганных сотрудников Геббельса произошла путаница.
Но в целом дело шло заведенным порядком. Сценарии переписывались по десятку раз, роли распределялись и перераспределялись, поскольку Геббельс оставлял за собой право отвергнуть любого не понравившегося ему актера, отснятый материал монтировался и перемонтировался, а иногда вся работа могла пойти насмарку, если Геббельс был решительно против. Потом устраивали специальный просмотр для самого Геббельса. Как правило, он указывал на сцены, которые надо было переснять или вообще вырезать. Для такого рода работы он всегда находил время.
В ранний период нацистского движения на кинематографический вкус Геббельса не особенно влияла идеология его партии. Например, его любимой картиной был «Броненосец «Потемкин», и ему было совершенно не важно, что фильм был снят в Советской России евреем Эйзенштейном. Его любимым режиссером был Фриц Ланг, не ариец и непримиримый антинацист. Он высоко ценил фильмы немецкого еврея Эрнста Любича. На закрытых просмотрах он часто смотрел картину «Золя» с актером еврейской национальности Полом Муни в главной роли. С годами он утратил интерес к американскому кино и отвергал голливудскую продукцию, так как, на его взгляд, она вредила правильному воспитанию. Но даже во время войны он предпочитал английские и французские фильмы немецким. Свое еретическое мнение он, разумеется, держал при себе, и только несколько близких к нему людей знали его пристрастия. Зато на публике он неизменно заявлял о «непобедимости» немецкого кинематографа, который завоюет весь мир.