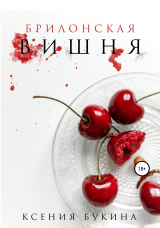
Текст книги "Брилонская вишня"
Автор книги: Ксения Букина
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Глава 7
Голод сжимает все внутри с каждой секундой сильнее и сильнее, словно одной огромной рукой кто-то сдавил со всей силы желудок – так, что из кулака выдавилась жидкость. И ты лишь пытаешься судорожно вспомнить, сколько человек может продержаться без пищи.
Мое тело уже собрало какой только можно мусор. Каждая соринка, каждый волос – все липло к измазанной синей краской коже. Она разъедала, щипала и чесалась так сильно, что хотелось выть во весь голос. К счастью, покончив наконец с окнами, я взялась за раствор ацетона. Сначала оттерла им свою одежду, потом ей же попыталась отмыть рубашку коменданта и пол, а затем – лицо и туловище… С рубашкой, кстати, я боялась больше всего. Ведь если дыру сделаю или прожгу что-нибудь… он меня этой же рубашкой и удавит.
Полностью краску с пола отмыть все же не удалось, зато с рубашкой повезло. Да, осталось немного, но все равно он ведь носит ее под кителем.
Стою посреди комнаты и смотрю на чуть голубоватый пол. Думаю, что с ним делать. Еще отдраивать? Но дальше уже некуда. Да и не слишком заметно. Так, если не приглядываться…
А ведь комендант будет приглядываться, обязательно будет!
Я вздыхаю, беру свою воняющую ацетоном блузку и яростно тру пол. До того дотрудилась, что руки совсем не чувствуются, ну словно бумажные! А спину как не разгону – так на всю квартиру хрустит! Эх, была б здесь баба Катя… Лучше нее в массаже никого нет! И руки вправляла, и синяки лечила… Как же ее сейчас не хватает…
Снова вздыхаю.
За окном уже вечер. Люди в окне лениво работают, еле шевелятся, да и надзиратели за ними особенно не следят, лишь между собой переговариваются.
Натягиваю прилипающую блузку и пропитанную ацетоном юбку. Прощальным взглядом окидываю свои труды.
И вдруг замираю.
На комендантском столе лежат красивые карманные часы. Вот только циферблат у них весь залит синей краской.
Кидаюсь к ним. Хватаю, оттягиваю краешек блузки и начинаю активно тереть. Не отскабливается! Даже цифр не видать!
Это конец… Мне точно конец… А если еще и поцарапаю…
Сглатываю. Пытаюсь ногтями отскоблить краску. Немного получается… Ну-ка, а если посильнее…
Дверь хлопает.
От неожиданности я чуть-чуть не роняю часы, но в последний момент успеваю спрятать их под кофту и прижать рукой.
– Ты все еще здесь?
Оборачиваюсь.
Комендант выглядит уставшим. Полузакрытые глаза, опущенные руки и медленное, тяжелое дыхание. Мундир слегка помят, а краешек кителя запачкан в пепле.
Киваю.
– Покрасийт?
Снова киваю.
– Все отмыйт?
– Да, товарищ комендант.
Он неприязненно морщится.
– Ну тогда пошла вон отсюда.
Бросаю взгляд на стол. Сглатываю. Прижимаю часы к телу посильнее и медленно, бочком протискиваюсь к выходу.
Покидаю здание.
Прислоняюсь к дереву и медленно выдыхаю.
Кажется, что в часах бьется маленький пульс. Или он бьется во мне?..
И что теперь делать? Я знаю что. Пойти в барак и попытаться отскоблить краску там. А потом… Зайти к коменданту в квартиру и незаметно ему подкинуть? Но как? Как я зайду к нему?
Интересно, он заметит пропажу? Наверное, нет… Он такой уставший вернулся. Вряд ли начнет выискивать и считать все свое имущество. Выглядел он так, словно вот-вот завалится спать, стоит ему только добраться до кровати.
А даже если заметит – разве помнит, куда и зачем их брал? Раз часы карманные, значит, он их носит с собой. Мало ли, где потерять мог. Я подброшу их возле его дома. Если сам комендант найдет – чудесно. Если кто-то другой – ему вернут. А даже если и не вернут, это будут уже их проблемы. Мои – краску отскоблить.
Марлин вчера распустила нас по баракам, едва зарумянилось небо, а Ведьма держит почти до самой темноты.
В баню бы сходить… Но мылась я позавчера. Так часто топить вряд ли станут… хоть и чистоплотные до мозга костей. А ведь тело все еще липкое, и волосы застывшими сосульками свисают.
Захожу в барак, взбираюсь на свою койку и замираю.
Ко мне тут же подсаживается Васька.
– Ты, – начинает она без всяких экивоков, – говорят, у коменданта сегодня была?
Киваю.
Васька щурится.
– И как? – улыбается она слишком уж ехидно.
– Ничего. Окна ему красила.
– Угу, – ухмыляется она. – Молодец.
Я вздыхаю. Мнусь и осторожно спрашиваю:
– Вась… Ты… Ты не поможешь мне?
– Чего такое?
Я колебаюсь и наконец вытягиваю из-под рубашки часы.
Васька аж чуть ли не зеленеет. Вздергивает брови, пучит глаза и протягивает:
– Да за какие такие заслуги комендант тебе с царского плеча… часы подарил?! Как говорится, даром только птички…
– Ничего он мне не дарил! Я сама их стащила.
– Ага, как Тоня винишко…
Все вдруг замолкают.
Тоня была упомянута зря.
И Васька это быстро понимает и захлопывает рот.
А мне неожиданно становится как-то слишком мерзко от Васьки, ее зависти и бездумных реплик. Я даже сжимаю губы от тошноты, беру часы и молча начинаю их царапать.
– Дура ты, Васька, однако, – вдруг подает голос женщина с мелко трясущейся головой. – Про ребенка такие вещи говоришь… Самой-то не стыдно?
– Ей тут часы не пойми за что дарят, а стыдно должно быть мне?! – мгновенно крысится Васька.
– А чего это мы такие смелые, однако? Ты же это… Поговорок у нас знаешь много? Ну так и про себя скажи, что по себе людей не судят. А еще такая есть: завидуй молча.
Васька психует, срывается и идет на свою койку.
А женщина подсаживается ко мне.
– Что с часами? – она заглядывает мне в руки.
Я морщусь и без лишних слов протягиваю их ей.
Она крутит, всматривается, любуется.
– Замарала? – спрашивает.
Я киваю.
– А как возвращать думаешь?
Пожимаю плечами. Беру со стола фляжку с водой и жадно к ней присасываюсь.
Она пытается оттереть краску подолом юбки.
– Да не получится… – вяло говорю я. – Я пробовала… Царапать надо.
– Циферблат поцарапать хочешь? Ацетоном надо.
– У меня юбка и блузка в ацетоне. Не оттирается.
– Значит, сильнее надо! Пробуй!
Я шоркаю часы краешком кофты. По крайней мере, цифры уже видно. Но стекло все еще синее, все еще мутное.
К нам подсаживается еще одна женщина. Огромная, лет пятидесяти, с маленькими утонувшими в лице глазками и безобидной улыбкой.
– Это каво? – гундосит.
– Симка, иди, шей! Шей свои наряды! Ради бога, только к нам не лезь!
Симка не обижается.
– Ну-у, – протягивает, – ночью шить не положено…
– Спи тогда. Керосинку свою гаси и ложись.
Она не уходит. Стоит около нас, долго так на часы смотрит и выдает:
– А можно я поскребу? У меня ногти длинные, черные. Смотрите…
– Симка, иди спи!
Она еще долго стоит и на нас смотрит. Медленно разворачивается и как-то заторможенно ковыляет до койки.
– Почти получается, однако, – вздыхает женщина. – Помню, дочка моя руки в краске извозюкала, так я ей целый день отмывала… И как тебя угораздило-то?
Я пожимаю плечами:
– Да сама не знаю. Накапало, видать, а я и не заметила.
– А чего там не оттерла?
– Комендант уже вошел. Увидел бы грязь.
Она молчит. Помогает мне оттирать.
А часы-то красивые. Видно, что дорогие. И оформлены – под стать комендантским! А краску, кажется, смыть получается…
Вот только возимся мы до поздней ночи. Все уж спят, только наша керосинка тускло-тускло светится, как будто там пара светлячков спит…
Но оттираем. До конца. И даже не поцарапав! Вот только подбросить бы их куда-нибудь незаметно… Мол, сам обронил…
Засыпаю я мгновенно, положив очищенные часы под подушку. И даже голода почти не ощущаю. И сны никакие не снятся. Видать, настолько я устала за день, что всю ночь спала как убитая.
А утром просыпаюсь не от крика Марлин, а от зверской боли в мышцах рук. На сгибах они настолько отвердели и горят, что полностью разогнуть их вообще невозможно. А голод перестал быть тягучим и навязчивым – теперь он тяжелый, грузный, коварный и очень режущий. Я беспомощно сглатываю и прижимаю колени к пустому животу.
Но Марлин все же появляется. Как всегда зовет на построение. Я с большим усилием поднимаюсь с кровати и плетусь за всеми.
Сегодня холодно как-то. Небо все в тучах, ветер сильный дует… а у меня одежда до сих пор ацетоном воняет. В ушах звенит… птицы правда, чирикают. Чего им в такую холодину в гнездах не сидится?
А после переклички Марлин почему-то говорит нам ждать, пока еду принесут. Кажется, комендант сдержал свое слово…
Комендант! Часы! Я совсем про часы забыла! Я оставила их в бараке!
Бегу назад, изо всех сил дергаю дверь. Заперто. Но там же Симка и другая швея! Они же должны работать в бараке! Так Марлин говорила! Может, попросить ее открыть?
Сбиваясь, ищу Марлин. Да где она, где?! Почему ее нет всегда, когда так нужно?!
А, вот она… Спешит откуда-то…
– Марлин! – кричу. – Марлин, можно вас кое…
– Вера! – выбрасывает она так, что я замираю.
– Что-то… Что-то не так?
– Уж не знаю я, что вы там не поделили вчера, но комендант как с цепи сорвался. Орет, тебя к себе требует.
Я на подкашивающихся ногах пячусь назад.
Сердце бьется в глотке. Я впиваюсь ногтями в шею и сипло выдавливаю:
– Я… Не… Я не пойду.
– Нет, пойдешь! – кричит Марлин тычет в здание. – Хочешь, чтобы нам всем влетело?
– Я не пойду.
– И как можно было так его довести… Довела? Молодец. А теперь шагай.
– Я не пойду.
Марлин упирает руки в бока.
А я уже ничего не соображаю. В голове пустота. И одна-единственная фраза, которую я, как пластинка, повторяю.
– Нас не кормили! – вдруг нахожу я новую. – Я сначала поем, а…
– Сначала сходишь к коменданту, а потом поешь. Он сейчас же сказал тебя привести.
Я закрываю глаза.
Одиннадцать дней.
Ну, наступят они. А дальше? А дальше отчет по новой, я знаю. Всю жизнь работать на немцев? Всю жизнь быть чьим-то зверьком? Хороша жизнь!
Да и жить я хочу только ради мамки с Никиткой. Я ведь так и не попросила у них прощения.
И, наверное, уже не попрошу.
До побелевших костяшек сжимаю кулаки и иду в квартиру коменданта.
На какое-то мгновение теряю и страх, и голод. Странное состояние, будто сейчас я нахожусь внутри одного из снов, а все, что происходит вокруг – ненастоящее. Нет, правда, боль в мышцах настоящая… Очень настоящая.
Толкаю дверь квартиры коменданта.
Он стоит у окна. Смотрит в него и курит. Так… Спокойно курит… да и выглядит тихим…
– Доброе утро, товарищ ком…
Он так резко гасит папиросу, что я шарахаюсь.
В мгновение разворачивается ко мне. Кидается в мою сторону. Больно хватает за запястье и швыряет в сторону стола.
Деревянный край так вонзается мне в живот, что я скрючиваюсь и закашливаюсь, закашливаюсь чуть ли не до рвоты. А комендант грубо разворачивает меня к себе. Отвешивает пощечину.
Щека тут же вспыхивает жгучей болью… будто не рукой меня ударили, а крапивой… так жжет… а глаза слезятся…
– За что? – шепчу, а сама дрожу и задыхаюсь от страха.
– За что?! – вопит комендант. Сжимает мои волосы на макушке. С размаху впечатывает лицом в стол.
И боль как-то резко исчезает… Вообще все исчезает… И нос, и губы, и щеки…
– За что?! Ты не знайт, да?! Ты не понимайт?! Не знайт, за что?! Сука! Сука, русский сука!
Я обессиленно сползаю по ножке стола. Тихо взвываю от пульса в висках. Шмыгаю носом. Дрожащей рукой тру по онемевшему лицу и вижу на ладони… даже не кровь, а какую-то черную, густую массу, словно темно-бордовую слизь… Начинает щипать. Немного…
– Где мои часы?! – орет комендант. – Где?! Где они?!
Я сглатываю нечто кисло-соленое. Нешевелящимися губами пытаюсь произнести:
– А… разве… я виновата, что вы… потеряли свои часы?
– Не лгать! Сука! Не лгать мне! Не лгать коменданту!
Цепляюсь за стол и медленно поднимаюсь. Разворачиваюсь к нацисту.
– Я не лгу. Я не трогала ваши часы. Вы ошиблись.
– Где?! Где часы?!
– Я их не брала. Наверное, потерялись.
– Ищи! – вопит комендант. Опять рвет меня за волосы. Швыряет на пол.
На пол падать не так больно… На пол падать совсем не больно…
И совсем не страшно… Так… просто терпишь побои и ждешь, когда все это закончится. Но страха нет. Наверное, я просто устала бояться.
– Искать! Искать часы! Искать! Мои! Часы!
Он подымает меня за шиворот. Кидает уже в другой угол. Но сейчас я не падаю – в последний момент ухватываюсь за стену.
– Ищи! Ищи во весь комнат! Ищи везде! Искать! Я сказал: искать!
Забиваюсь в угол. Пытаюсь зацепиться хоть за что-то. Не получается.
Комендант отрывает меня от стены. Разворачивает к себе, до боли впивается пальцами в мои щеки. Кричит:
– Позорная русская шлюха! Ты держала меня за идиота, когда надеялась стащить часы прямо с моего стола? Я сдеру с тебя кожу, сука, пока ты, вонючая проститутка, не вернешь мне ворованное!
Разве есть смысл доказывать ему, что я не крала часы?
Он замахивается, и я в последнюю секунду успеваю прижать к лицу ладони.
Но вдруг дверь хлопает.
– Оберштурмбаннфюрер…
Комендант оборачивается.
На пороге стоит незнакомый немец.
– Чего тебе? – выплевывает комендант.
Вошедший мнется.
– Оберштурмбаннфюрер, я обыскал барак, как ты и просил. Вот это, – он кладет на стол те самые часы, – было найдено под одной из подушек.
Все это звучит настолько легко и просто, что я лишь потом соображаю: немец только что огласил мне смертный приговор.
Бояться уже не надо. Нет смысла бояться. Зачем? Разве мне это как-то поможет? Главное, бить не будет больше. Застрелит – и все…
– Благодарю, Юстус. Ты… не мог бы оставить нас одних? Сам понимаешь: нет тебе смысла видеть то, что сейчас будет.
– Конечно, оберштурмбаннфюрер, я все понимаю.
И дверь закрывается.
Вот сейчас тело холодеет, ноги подкашиваются, от ужаса тошнит, раскалывается голова…
Вот сейчас мне становится действительно страшно.
– Товарищ комендант! – визжу я, хоть и понимаю, что из-за кашля мою речь сложно понять. – Я не крала их! Честное слово! Я заляпала их в краске и отнесла в барак, чтобы почистить! Я хотела подбросить их вам! Пожалуйста, не бейте!
Комендант смотрит на меня в упор. Тяжело дышит. Медленно стаскивает с ладоней перчатки, складывает и засовывает в карман.
– Ну товарищ комендант! Сами подумайте: зачем мне их красть?! Что я с ними буду делать?! Мне ведь даже продать их некуда!
Он берет часы и рассматривает их с разных сторон. Щурится.
– Пожалуйста, поверьте мне! Товарищ комендант! Или убейте сразу, только не надо бить!
– Пошла вон, – вдруг устало выдает комендант и кладет часы на стол.
Я замираю.
– Что?..
– Убирайся отсюда! – рявкает он и падает на стул. Вымученно запрокидывает назад голову.
Срываюсь с места, выбегаю в дверь, кубарем скатываюсь по лестнице и вылетаю из здания.
Сшибаю всех по пути, спотыкаюсь, несусь… И случайно врезаюсь прямо в того самого немца, что принес коменданту часы.
Он мигом хватает меня, заворачивает мне руки и толкает в сторону здания.
– Ага, сбежать от коменданта решила! – противно смеется он. – Поняла же, чертовка, что он уже не мальчик за тобой бегать… Ну ничего, сейчас мы тебя быстренько вернем!
– Пустите! – ору я и извиваюсь изо всех сил.
Замечаю рядом с Юстусом еще одного нациста, лет сорока пяти, который с некой снисходительностью смотрит на меня и выдает:
– А что это за создание?
– От коменданта сбежала, сучка, – спокойно поясняет Юстус и тащит меня за собой.
Но я же не сбегала! Не сбегала я! Он сам меня отпустил!
– От коменданта? – вздергивает брови сорокалетний. – И как наглости хватило?
Я дергаюсь изо всех сил. Верчусь, пытаюсь лягнуть Юстуса.
– Он сам меня отпустил! – визжу. – Сам! Вот сейчас вам от него влетит, ясно?! Вот сейчас вы получите, что поперек его слова идете!
Юстус втаскивает меня по лестнице. Снова зашвыривает в проклятую квартиру. Вместе с сорокалетним преграждает мне путь, а я бьюсь, как муха в банке.
Комендант все еще сидит, мучительно подперев двумя пальцами голову, а в другой руке держа тлеющую папиросу.
– Товарищ комендант! – кричу изо всех сил. – Ну скажите же им, что вы сами меня выгнали! Они мне не верят, думают, я сбежала!
Он лениво поворачивается ко мне и застывает. Чуть прищуривается. Поднимается, гасит папиросу и неожиданно тихим голосом произносит:
– Доброе утро, бригадефюрер.
Сорокалетний смеется.
– Доброе, доброе… Как успехи с чертежом?
– Пока не готов. Не ожидал, что ты зайдешь сегодня.
– Нет, что ты, я же не с проверкой. Просто узнать. Вдруг ты вообще им не занимаешься?
– Чертеж почти завершен, – сухо произносит комендант, сомкнув руки за спиной и безотрывно глядя в глаза бригадефюреру.
– Молодец, хвалю и верю! Да, зачем, собственно, зашел… Нужно переговорить с тобой насчет тех документов из архива. Ну, сам понимаешь, нужен твой профессиональный взгляд. А! Что ж ты девочку так замучил, что она от тебя как полоумная неслась?
Замираю.
А Юстус немедленно поясняет:
– А она у оберштурмбаннфюрера часы украла.
– Часы украла? – вздергивает брови сорокалетний. – Вот это дела… Уж чтобы у тебя кто-то рисковал часы красть… А ты ведь раньше их в строгости держал?
Комендант сжимает губы. Тяжело вздыхает и сглатывает.
Смотрит наконец на меня.
Я невольно всхлипываю и шепчу:
– Товарищ комендант… Ну скажите же им… Вы ведь меня отпустили. Так ведь, да?
Комендант скрещивает на груди руки. Медленно подходит ко мне. Вдруг впивается пальцами в мои щеки и свистящим шепотом выдает:
– Мало того, что ты сбежала от меня, так ты смеешь еще ко всему прочему так нагло лгать мне в лицо?
Я ничего не успеваю понять, как он больно вцепляется в мое плечо. Выталкивает из квартиры. Тащит вниз по лестнице. Едва успевая переставлять ноги, я волочусь за ним… И все еще не понимаю, что происходит… и что ждет меня дальше…
Комендант вышвыривает меня на площадь.
И как-то становится настолько унизительно и гадко под десятками чужих глаз, что стрелами вонзаются в меня… Как-то настолько ужасно и отвратительно осознавать, что на тебя теперь смотрит весь штаб, а комендант…
А комендант срывает с меня блузку, сдергивает юбку. Снимает с себя ремень, складывает вдвое и хлестает по лицу.
Первый удар обрушивается распарывающим ножом.
Из моего горла вырывается звериный вопль. Кричу, разрывая глотку, выплевывая через визг из сердца животный ужас. Боль такая, что хочется просто выть и расцарапывать лицо до черепа.
Кожа мгновенно лопается. Я задыхаюсь. Не чувствую носа, захлебываюсь кровью и пытаюсь удержать равновесие, но униженно падаю прямо в скользкую грязь.
А потом получаю пинок под ребро. Кажется, оно ломается… Трескается, как скорлупа от ореха… и боль проходит куда-то в мозг…
Ботинки коменданта врезаются в мое тело раз за разом.
Он, кажется, намерен сломать мне все кости, раздробить ребра и бросить подыхать русскую сучку в кровавой грязи.
Я реву, извиваюсь, дергаюсь, слепо тыкаюсь в темноту слипшихся от крови глаз и пытаюсь отползти. Тщетно.
Частая, резкая боль доводит меня до рвоты. Я скрючиваюсь над грязью. Выворачиваю из желудка желчь. Дрожу, бьюсь в конвульсиях и протяжно, побито вою.
Прекрасно зная, что на меня сейчас смотрит весь штаб…
Комендант устает избивать меня ногами и берется за ремень.
Это еще ничего… Больнее всего, когда тебя стегает железная пряжка. Она разбивает кожу, она рассекает все что только можно. Хорошо, что рядом нет никаких больших предметов, а то от судорог я разбила бы себе голову.
Вскоре меня настолько покидают силы, что я лишь вяло дергаюсь в ответ на каждый удар и крепко сжимаю ладонями лицо. Больше всего боюсь, что комендант вышибет мне глаза…
И это лишь часть одного большого унижения, когда весь штаб пялится на твое голое тело и смотрит, как комендант выносит… наказание. Смотрят, но ничего не могут сделать. Или просто не хотят.
Он наконец останавливается.
А я лежу. Задыхаюсь, сплевываю воду из лужи с кровью и кашляю, кашляю, словно хочу выкашлять глотку, выкашлять тупой плач, горящую боль и чувство собственного унижения.
– Неплохо, – будто бы во сне слышу голос бригадефюрера. – Правильно воспитываешь. А я уж было в тебе разочаровался…
Закусываю ладонь и выдавливаю жалкий собачий визг. Не могу больше дышать носом, совсем не могу. Он щиплет, он заполнен кровью, он, кажется… сломан?
– Я верен службе, – тяжело дыша, отвечает комендант и громко сглатывает. – Я верен нации и фюреру. Моя честь зовется верность.
Он дергает меня за волосы, рывком поднимает и тащит за собой.
Слышу, как поворачивается ключ. Комендант закидывает меня в барак – так, что я перелетаю через койку и больно ударяюсь о пол головой.
– Отлеживайся сутки и выходи работайт, – сквозь зубы выдает он. – И либо ты поправляйтся, либо сдыхайт.
Выходит, громко хлопнув дверью и повернув в замке ключ.
А тело все еще горит, все еще адски пылает. Я мелко дрожу, цепляюсь руками за краешек кровати и пытаюсь взобраться на нее. Не получается.
Взвываю, карабкаюсь по ножке и сползаю вниз. Реву от безысходности. Ноги не шевелятся совсем, руки не гнутся, а ребра болят так, что даже любое прикосновение к ним отзывается затмевающей сознание вспышкой боли.
Руками переставляю ноги и сгибаю их в колени. Закусываю губы, сдерживая животный крик. Снова закидываю руки через койку приподнимаю себя и наконец вскарабкиваюсь на кровать. Из последних сил накидываю на горящее тело кусочек одеяла и закрываю глаза.
Все еще чувствую, как подушка доносит до меня оглушительный пульс…
***
Помню, как не любила ездить я с мамкой и папкой на покос.
Она разбудит меня рано-рано, часов в шесть. А я на сундуке ворочаюсь, глаза протираю. В избе холодно, вставать не хочется, накрываюсь пуховым одеялом по самый подбородок и греюсь.
– Нет, вы на нее посмотрите, а! Нет, вы посмотрите! Сколько говорено было: ложись рано, завтра покос, рано ложись! А она! И шушукается со своим Никиткой, все шушукается! Вот тебе и шу-шу-шу! Подымайся, я со стенкой разговариваю?!
– Ниля, ну не ворчи, – слышу папку. – Голова уже болит, а день только начался. Иди еду упакуй в газеты.
– Пока ты дрых, я все упаковала уже! Огурцы, помидоры, лук – все в газеты завернула. Блинов еще с творогом положила, специально вчера весь вечер у печки стояла, пекла. Молока бидон, хлеба.
– Тогда иди в телегу все грузи. Когда тебе делать нечего, ты как баба базарная. И трещит, и трещит, и трещит…
Мамка фыркает, но выходит во двор. А папка присаживается на край сундука и щекочет мои босые пятки.
Дергаюсь и прижимаю стопы к стене.
– Ну-ка вставай, а то мамка опять ворчать будет.
– Да не хочу я на покос! – протягиваю. – Целый день на жаре печься, сдуреть можно.
– Зато приедешь, а баба с Никиткой тебе уже баню истопят. Я веников новых вчера наготовил, дубовых. Знаешь, полезные какие? Всю хворь изгоняют.
– Ну, баня и баня. Я каждую субботу в нее хожу. Что мне эта дура-баня…
Все-таки встаю. Умываюсь, одеваюсь. Слышу, как братка психует:
– Да не буду я эту рубаху надевать! На ней всю ночь Мурка дрыхла, теперь кофта в шерсти вся!
– Ну и чего? – смеется папка. – Отряхни да надевай.
– Ну уж нет! Фу, после какой-то кошки на себя? Да на ней заразы столько!
Братка к умывальнику подскакивает и тщательно руки с мылом трет.
Папка вздыхает:
– И в кого ты такой чистоплотный уродился? Мы с мамкой и стайки чистим, и котят из рожающей кошки вынимаем, а тебе все «фу».
Наспех завтракаю блинами с творогом. Мамка ворчит, чтобы я всухомятку не ела и молоком припивала, а папка в это время Любка в телегу запрягает. Оставшиеся блины в газету заворачиваю и к продуктам несу.
Уселись, едем. Баба с Никиткой на крыльце стоят, машут нам.
Вот и солнце уже припекать начинает. Мамка мне платок повязывает, мол, удар схватишь. К полю подъезжаем. Наша скошенная трава уже подсушилась, ее сгрести осталось да в копны скидать. Хоть бы дождь пошел, тогда назад домой поедем!
Выходим с телеги, берем грабли и начинаем грести. Мамка первым делом ямку глубокую выкапывает, туда ставит молоко с остальными продуктами да тряпками накрывает – чтоб не скисло на солнце. Мы с мамкой сено сгребаем, а папка с браткой копны делают. Лишь они правильно умеют кидать, ведь копна должна быть заостренной кверху, чтобы дождь сено не намочил.
Утром еще ничего, а к обеду жара накаляется, слепни с мухами пристают, мошка кусает да в глаза лезет. Вот не было б всех этих насекомых – вдвое быстрее бы работалось! И жарко стало невыносимо, пот градом катится, руки не шевелятся.
В полдень мамка нас обедать зовет. Мы еду выкапываем, тряпки на траву стелим, усаживаемся и начинаем свертки разворачивать. А муравьев здесь сколько! И ползут, и ползут… Без конца! По тряпкам бегают, кусаются, норовят к еде поближе подобраться. Братка психует:
– Фу, не буду я там с муравьями сидеть! Вы мне лучше молока в кружку налейте, я и стоя попить могу. А еще мне бы руки вымыть… Мам, ты воду взяла?
– Взяла, но она для питья! Молоком одним жажду не утолишь! Оботри тряпочкой руки да и все.
И снова психует, и снова все ему не нравится. А я мурашей отгоняю и с сочным хрустом откусываю зеленый лучок, заедаю сладкой помидоркой, сок от которой капает мне прямо на юбку, закусываю мягким хлебом…
– Верка, ты как?
Я мотаю головой. Чувствую, как по лбу стекает ледяная вода, запах спирта ощущаю…
– Мы у Марлин еды для тебя выпросили… Ты, получается, уже два дня не ела, однако… Она хлеб разрешила тебе дать, представляешь? Хлеб с яйцом. А нас помоями сегодня кормили, как комендант и говорил. Поставили ведро с каким-то супом прокисшим… там же и каша, и огрызки яблочные плавали. Жрите, мол, как хотите.
Я тяжело дышу, не разлепляя глаз. Тело все еще горит. Лицо распухло, губы вздулись и онемели. Ничем шевельнуть не могу, только лежу и часто-часто дышу, изредка прерываясь на кашель.
– Хочешь хлебушка? – она проталкивает в мои опухшие губы комочек хлеба. Но у меня даже не хватает сил, чтобы поработать челюстью и прожевать его. Поэтому я просто пытаюсь его рассосать и проглотить.
Чувствую ледяную ладонь на лбу.
– Господи, да у тебя же жар! – вскрикивает женщина… та самая, что помогала мне всю ночь отмывать часы. – Ты вся горишь, словно печка! Скажи, как ты себя чувствуешь?
Не могу сказать. Вообще челюстью шевельнуть не могу. Нос все еще щиплет и все еще не дышит – теперь мешает засохшая кровь.
– Мокрая вся, вспотела, бедняжка… У Тони тут спирта немного оставалось, давай я тебя им протру? Лучше водкой, конечно, но и вином тоже можно попробовать, там ведь спирт есть… Сим! Эй, Сима!
– Каво?
– Подь сюда, кормить ее будешь, а я пока тряпочку в вине размочу и обмыть девочку попробую. Хоть раны немного обеззаражу… Сомневаюся, конечно, что поможет, да лучше хоть так, чем совсем никак.
И пока Симка толстыми пальцами просовывает мне в рот по кусочкам хлеб, вторая женщина с тихим бульком выливает на тряпку вино.
Разлепляю наконец глаза.
С удивлением замечаю, что вокруг меня собрались все женщины из барака. Кроме Васьки, Васька на кровати сидит и клубки заматывает. Кто-то шепчет, кто-то молча головой качает, кто-то помочь пытается…
Снова устало закрываю глаза.
Чувствую холодную жидкость на коже. Женщина аккуратно обтирает мне щиколотки, ступни, запястья, шею, виски… Аккуратно пропитывает спиртом раны. Я морщусь – очень уж щиплет. А как же ребра болят…
– Я у Марлин для тебя новую одежду попросила, – приговаривает она. – Она Ане обещала передать. Аня задерживается немного, у нее работы уйма… Сейчас уже прийти должна, вещи тебе принесет.
Я тяжело дышу. Только успеваю глотать хлеб и запивать стекающей по щекам водой.
– Тебя простыней накрыть надо, однако. Иначе спирт не испарится. Он так тело охладит и жар снимает… О, а вот и Аня! Ты одежду принесла?
Слышу, как хлопает дверь.
– Да, принесла. Держи, Вер…
– Как она тебе ее держать будет, она шевельнутся не может! Давай сюда…
Собираю все силы, чтобы снова открыть глаза.
Аня стоит у двери, топчется и с каким-то чувством вины смотрит на меня.
– Как ты? – тихо проранивает она.
Я задыхаюсь. Тело чуть охлаждается, но раны начинают болеть сильнее.
Аня продолжает:
– Вер, про тебя тут комендант спрашивал.
Я сглатываю. Размыкаю вдруг тяжелые, опухшие губы и бормочу:
– Даже знаю, что. Наверное, спросил: «Еще не сдохла?».
– Ну, почти, – смущается Аня. – Сказал, если ты не сдохнешь к концу дня, он лично тебя пристрелит. Потому что нет у него смысла с тобой возиться.
У меня хватает сил даже на смех – на гадкий, безобразный, клокочущий смех.
А потом я обессиленно засыпаю.
Меня лихорадит всю ночь.
Я бредила, дрожала, с плачем искала одеяло, выла от боли в ребрах, терла синяки и ссадины. Не заметила даже, как утро наступило и все ушли… а я лежала…
И продолжаю лежать.
Лежу одна, снова с температурой, снова в лихорадке, снова в бреду. Но теперь нет никого, кто бы мне помог. Дверь заперли, оставив меня сгорать от жара, корчится от боли в ребрах… и умирать.
Хочется пить, но не могу дотянуться до фляжки с водой. В голове стучит. Выдыхаю. Приподнимаюсь на локтях, вытягиваюсь и зацепляю фляжку. Делаю два глотка и снова медленно опускаюсь на койку. Едва заденешь синяки, как они опять начинают противно ныть и пульсировать.
Остается только спать.
Только во снах я могу сбежать от реальности. Только так я могу забыть обо всем и уйти от боли.
И я сплю.
И снова сны какие-то оборванные, странные, бессвязные… Сережка в солдатской форме, мамка на покосе…
А под конец такой правдоподобный сон увидела! Как будто в мужской барак, оказывается, поселили папку! Мы встречались с ним во время работы и обдумывали план побега.
А потом я ложусь спать. Папка обещает, что ночью зайдет ко мне и мы вместе убежим. Все женщины уже спят, одна я лежу, жду его…
И он появляется. Медленно так заходит в барак… а я вся уже изворочалась, кричу:
– Папка, давай скорей, не успеем же! Папка! Побежали быстрей!
И окончательно просыпаюсь. Понимаю: сейчас не ночь, а день. Женщины не спят, а работают. Папка не здесь, а…
Но он ведь здесь! Я же слышу, слышу шаги!
– Папка… – бормочу. – Папка, ты?
А папка молчит.
Я морщусь и разрываю веки. Вздыхаю от разочарования. Нет, это не папка.
Комендант.
Он стоит около двери. Дальше почему-то не заходит. Руки сомкнуты за спиной, а глаза внимательно изучают меня.
– Как состояние, русь?
Улыбаться слишком больно. Поэтому просто шевелю опухшими губами и медленно протягиваю:
– Пока не сдохла.
Комендант прищуривается. Глубоко вздыхает. Так и не проходит почему-то вглубь барака.
– Ты должен возвращайться к работа с завтрашний день. Ты обязан поправляйться. Здесь не нужны больные.
– Я уже это поняла. Спасибо. За заботу.
Он мнется. Сглатывает. Наконец подходит к моей койке и кладет на табуретку сверток.
– Жри, – бросает.
На секунду задерживается на моем лице взглядом. Морщится, резко разворачивается и выходит.
И снова я собираю последние силы, чтобы дотянуться до свертка, подцепить его и положить на колени. Внутри нахожу спелые яблоки, пару груш, завернутую в газету вишню и даже настоящий апельсин! А еще какие-то пилюли, мази и лекарства.
Вздыхаю от удовольствия, подцепляю дрожащими пальцами вишенки и кладу их в рот. Недоспелые, правда. Кислые такие, твердые… разве несозревшая вишня бывает в августе?








