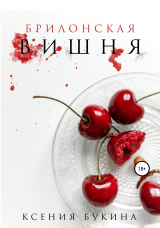
Текст книги "Брилонская вишня"
Автор книги: Ксения Букина
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Глава 2
– Вер, а научи меня немецкому?
Мы с Никитой сидим на кровати. На его кровати. Вернее, когда-то она была общей: мамкиной и папкиной, а после его отъезда мамка как ополоумела: бегала в комнату к Никитке, бегала, каждый час проверяла, не случилось ли с ним чего. Наслушалась всяких страстей от соседей, и теперь вокруг Никиты вьется, ну точно муха!
– Немцы, – говорит, – детей маленьких крадут и работать к себе увозят!
До того дошло, что она даже во двор Никитку не выпускает, а если и выпускает, то к окну прилепившись всегда сидит. Вот и около себя спать положила. Я с ней спорить не смею, газет не читаю, сплетни не слушаю, но что-то сомневаюсь, что немцы таких маленьких к себе увозят. Какая же с них работа, прости господи? Но с мамкой не поспоришь, а если и начнешь – пожалеешь. Только смешнее всего, что эта паника относится лишь к Никите. Меня она такой опекой не окружает. Почему-то странным образом думает, что немцы «воруют» исключительно маленьких детей.
– Зачем тебе немецкий? – спрашиваю, а сама в мамкиных пластинках роюсь.
Танго, танго… одни танго! А, нет, еще вальсы есть. Это когда она навеселе, так непременно пластинку включит – и давай под музыку танцевать! Папку за собой увяжет – и пошла с ним: раз, два, три, раз, два, три… Когда праздник какой, мы гостей назовем, а она наденет туфли с каблуками звонкими и пойдет в пляску, только юбка волнами плещется. Утром, правда, стыдится. Ей стыдно, а я восхищаюсь! И сама научилась танго оттанцовывать, с браткой репетировали. Хотела в школе на последнем звонке с Сережей станцевать…
– Ну, Вера! Ну научи немецкому! У тебя ж по немецкому в школе одни пятерки!
Я вздыхаю, задвигаю ящик с пластинками обратно за сундук и снова усаживаюсь на кровать.
– Не только по немецкому. По математике еще. Но когда я тебя цифрам обучить пытаюсь, ты нос морщишь и мамке бежишь жаловаться, что я тебя мучаю.
– Ну, немецкий нужен! Я тоже на войну хочу просто. А дорогу у немцев я как спрашивать буду? Да и познакомлюсь с ними, они меня к папке проводят. А он как меня увидит – упадет! Напиши на полях буквы немецкие, и как они говорятся скажи, а я слово составлю.
Я морщусь. Помещаю на колени толстую книгу, кладу газету и пишу буквы, произнося каждую из них.
Мне кажется, я не могу прочувствовать, что началась война. Не могу – и все. Что изменилось? Папки с браткой нет, да. Но бывало, что они уезжали в командировку. И он ведь пообещал. А слово мужчины – оно вообще нерушимо!
Ну, громкоговоритель на столбе у сельсовета вдруг работать стал. Новости по нему передают: хорошие и плохие. В последнее время, правда, опять чего-то затих, молчит, проклятый… Бабы, что коров пастись ведут, про войну шушукаются. И то не все. Например, Евдокии Игнатьевне вообще наплевать, она, наверное, и не знает даже. А так, чтобы бои и взрывы… Я этого не видела, врать не стану. Может, от этого мне до сих пор так трудно поверить? Мы никогда и ни во что не верим, пока это не коснется нас самих.
– Вера, на. Я слово написал. На немецком!
Беру газету и пытаюсь разглядеть бледный текст. «Wera dura».
Закрываю глаза.
– Никит, – говорю, – чего придуриваешься?
– А чего?
– А того! Иди вон, мамке лучше помоги. Она шаньги печет. Лепить помогать будешь.
– А ты?
– А я в огород. У меня петрушка не полотая. Да вечером коней на поле отведу. Сережке скажу, пусть пасет…
Сережка теперь меня шугается. Я и причины не знаю. Вроде в тот день так хорошо время вместе провели, а сейчас как меня завидит – сразу круто с дороги сворачивает.
– Стой, Вер, – Никита подскакивает с места, берет подушку и вытряхивает из наволочки конфеты в обертках. – На, возьми. Это тебе за буквы немецкие. Ну, потом меня хорошо говорить научишь, я тебе все отдам, а пока только две.
– Ты чего, конфеты по всей избе напрятал?
– А чего? Нельзя?
– Мамка увидит – по заднице тебе надает.
– Да за что? Я ж люблю конфеты! И просто их берегу. Папке получку дадут, так он мне всегда конфет купит. Иногда в обертках даже! Я их особенно храню. И фантики тоже. В книжке.
Я качаю головой. Поднимаюсь, выхожу на кухню.
Мамка сидит за столом и какие-то свертки распаковывает.
Я подпрыгиваю.
– Это чего такое? Это от папки? Папка с фронта прислал?
Мамка вздыхает.
– Нет. Это, наверное, тетя Галя из Крыма фруктов сушеных прислала, на компот. И денег.
– А денег кому?
– Ну я ж откудава знаю? Вот письмо, зачитай, если хочешь.
Я беру сложенную бумагу. Вот же тетя Галя! Ну зачем письмо? Видать, по привычке, папка же обычно такие письма зачитывает. Или забыла просто. Мамка-то у нас безграмотная, в школе не училась, в няньках все детство проработала. Папка ее расписываться научил: "Сова". Это она только первые и последние буквы от фамилии Сотникова выучила. А раньше все крестик ставила. И почему ее зовут Нинель, к слову, не знала ни она, ни ее родители. Баба Катя сама признается, мол, у кого-то слышали и подхватили. Красивым показалось. А папка секрет разгадал и все время смеялся.
– Ты, – говорит, – буквы бы задом наперед прочитала, так и поняла бы, что означает твое "Нинель".
Но мамка читать не умела, и я ей сама потом рассказала, в честь кого ее, сами того не подозревая, назвали.
Я раскрываю конверт, откашливаюсь и зачитываю:
– Дорогая моя Нилечка! Пишу тебе… так, ну, тут неинтересно… Хочу напомнить, что те фрукты, которые я прислала, это тебе на три месяца. Высадили мы их в мае, а крупными такими они у нас вышли, потому что… так, опять пошла вода. Пошла вода, пошла вода, пошла вода… А, вот! Денег у нас пока вдоволь, Дмитрий зарабатывает, хочу и вам оказать помощь. Половину возьми для Никитки, а половину отдай Верочке. Девочка подрастает, ей они больше нужны, чем нам, старухам.
Мамка хмурится. Забирает у меня бумагу и вглядывается в тест.
– Не обманываешь? – подозрительно спрашивает мамка.
Я вздыхаю от обиды и кричу:
– Ну здравствуйте, ты за кого меня держишь?! Так и написано, честно. Даже к Машке могу сходить, она тебе тоже самое прочитает.
– Чего, уже и Машку науськала? На эти деньги туфли тебе купим в Пскове. А то у тебя они все драные. Вот и болеешь постоянно. Как не начнется весна – так сопли до колен. Где ж тут не застудишься, когда в драных башмаках по грязище шлепаешь?
Я хмурюсь. Это как? Это какие еще туфли? Да не нужны мне эти туфли! Мне и в своих хорошо, а что драные – так это заклеить можно! Пацаны разве на туфли смотрят? Да они вообще на ноги не смотрят! А вот было б у меня платье… Я как раз видела в Пскове, красивое! Ни у кого такого нет! Голубое такое, с пионами. Я думала, нигде с пионами не увижу, они ведь редкие, но такие красивые, самые любимые мои цветы! Хоть бы его не купили… Да не купят, наверное, оно ж дорогое, а мне как раз деньги прислали!
– Да зачем мне туфли, – восторженно вздыхаю я. – У меня и так есть, их только залатать – и все. А вот в Пскове я такое платье видела…
– Ты дурочку-то не включай! Какое платье? Платье я тебе сама отошью, а обувь, извиняйте, не делаю! Если б делала, то, наверное, и получала бы больше, чем в телятницах.
– Да ты такое не отошьешь! Оно особенное. С пионами.
– Куда тебе с пионами по деревне ходить? Так только псковские гулены наряжаются. Вырядятся – и пошли на мужиков вешаться. Вот кто так только ходит! А тебе нормальная одежда нужна.
Да чего она вообще командует?! Ясно же сказали – половина моя! Пусть сама себе туфли покупает, раз ей так невмоготу. А мне платье нужно! Я столько им любовалась, подсчитывала, где бы деньги заработать…
– Видела я, в каких гулены ходят! – я скрещиваю на груди руки. – А это… Отличное платье!
– Зачем тебе оно тогда?
– Да потому что я хожу, как все! А я так не хочу! Я хочу что-то особенное…
– Ага, гуленинское. Еще губы намалюй, бусы на шею повесь и иди в кабак, там-то мужики на таких и ведутся.
Я закатываю глаза. Прислоняюсь к стене. Массирую виски.
– Так и скажи, что просто платье мне покупать не хочешь, – выдавливаю я, сцепив губы. – Из одного куска ткани все шьешь, и хожу я вечно в одинаковых. Как серая мышь в школе. Ну и что станется мне с этих башмаков?! Деньги-то мои, мне тетя Галя их прислала, так почему же ты решаешь, как ими распоряжаться?
Мамка вдруг стучит кулаком по столу и кричит:
– Да потому что мозгов у тебя еще нет! Кобыла стоеросовая – а мозгов все нету! Дура из дур! Никакой благодарности! Я тут как белка в колесе кручуся, платья ей из последних сил шью, а ей не нравится! Ей с пионами подавай! И чего, думаешь, спасут тебя твои пионы от болезни?! Сейчас осень начнется, опять ноги мочить в дырявых башмаках будешь, снова простынешь! Так нет же, что ты, ей вырядиться надо, как гулена ходить!
– Почему ты считаешь, что лучше знаешь, чего мне надо? Почему мне не даешь выбора?!
– А ты меня с собой не ровняй! Я уже взрослая, замуж вышла, троих детей родила! Вот будет у тебя ребенок – ему и покупай хоть с пионами, хоть не с пионами… И сама наряжайся как хочешь! Хоть вообще голышом по улицам ходи, пусть люди засмеют! А пока ты живешь в этом доме, ты будешь делать то, что я велю!
Тут я не выдерживаю.
– А ты чего домом меня попрекаешь?! Тебе в тягость, что я тут живу? Так я могу уехать! Я уеду, ты только скажи!
– Ты мои слова не переиначивай! Спорить еще смеешь, когда на родительские деньги и ешь, и пьешь, и одеваешься… И прихоти какие-то еще выдумывает! С пионами! Вы гляньте! Будут у тебя свои деньги, так и покупай себе хоть с чем! А если так невмоготу – иди и заработай себе на пионы! В няньках посиди, в огородах покопайся!
Я сжимаю кулаки и выпаливаю:
– Так вот как, значит, да?! Прочь меня гонишь?! Ну спасибо, мамочка! Пойду зарабатывать, спасибо большое, что надоумила! Куском хлеба меня попрекает… Кто бы мог подумать! Дочь родную куском хлеба попрекает!
Мамка берет полотенце и стегает им в сердцах по столу.
– Так и катись! – кричит. – Раз такой взрослой себя считаешь – катись вон из избы! Иди, зарабатывай! Мнения какие-то появились, надо же… Катись, и чтоб больше глаза мои тебя не видели!
Я фыркаю. Мигом обуваюсь и вылетаю во двор.
Да если б она мне человеческим языком сказала – разве я б не послушала?! Если б она мне просто спокойно сказала: «Нет, Вера, сейчас тебе важнее всего туфли, а платье мы потом купим» – разве я б не послушала?! А она давай сразу кричать, гулен каких-то приплетать, да еще и намекает, что я никто в этом доме, и нет у меня прав не то что на распоряжение своими деньгами – даже на выбор! Говорит, детей трех родила… Ну и что с того? Ее авторитет, что ли, от этого возрос? А если я прям сейчас замуж выскочу и тройню рожу – тоже самой главной и умной буду?
Вывожу из конюшни Любка и запрягаю его в телегу. Глажу его кожу, которая под моими ладонями дергается. Ласково тереблю ему уши и легонько хлопаю по носу. Тяжелое и шумное дыхание от широких ноздрей согревает руку. Он фыркает и пытается лизнуть мне щеку.
Ей, оказывается, меня содержать сложно. Ну-ну. На наши деньги, говорит, ешь и пьешь… Я в школе еще учусь! Потом пойду работать, конечно! На ветеринара, скорее всего, отучусь. Буду коням помогать, птицам разным…
Мамка вдруг выходит на крыльцо. В руках сжимает полотенце. Накручивает его на ладонь и кричит:
– Ну куда ты, дура, собралася? Что творишь вообще? Что за скандалы закатываешь?
Я немедленно разворачиваюсь к ней:
– Это я закатываю?! Ну здравствуйте, вот это мы приплыли! А кто все начал?! Кто орать начал?! Я, что ли?!
Мамка сбегает с крыльца и несется ко мне.
– И куда ты намылилась, дурная?
– А зарабатывать! На платье заработаю – и сразу приеду, а там уже и туфли купим. Я же немощная, я же ваши деньги проедаю, я же вам обуза…
– Вера! Сдурела?! Ты чего мне тут удумала?! Не смей, я сказала!
Я прыгаю в телегу и легонько ударяю вожжами коня.
– Вот это новости! – кричу. – Сдурела я, называется… Кто только что меня на работу гнал? Кто меня прочь выгонял? Да только ты не волнуйся, деньги я не тронула, уж сама в состоянии добыть. Спасибо большое!
И я еду.
Никитка сзади бежит босой. Не понимает ничего, плачет, спотыкается, за телегу схватиться пытается.
– Ты что, навсегда от нас уезжаешь? Не уезжай! А буквы? Буквы немецкие? Вера!
Я только фыркаю. Даже обернуться не хочу. Сжимаю губы.
– Вера! – вопит Никита. – Ну, Вера! Я тебе все свои конфеты отдам! Я же тебе ничего плохого не говорил, так зачем ты меня-то бросаешь?!
У него получается ухватиться сзади за телегу, и я резко разворачиваюсь, с силой отцепляю его ладошки, и Никита падает. Ударяю вожжами лошадь сильнее, чтобы он точно не смог меня догнать. А Никитка лежит в грязи, встать уже не пытается, только барахтается, плачет и зовет меня.
Я закрываю глаза и морщусь. Никитка ведь и вправду ни в чем не виноват! Да только не брать же мне его с собой, в самом деле. Лишь сейчас вдруг одумываюсь: а где я буду жить? И где работать? Что есть?
Да не буду я там жить. Работать… Ну, помогу кому-нибудь, постираю белье, одежду зашью. Мне б хоть немного денег получить, чтобы мамка поняла, что я тоже на что-то способна. До вечера поработаю, а вечером домой вернусь. Пусть на платье и не хватит совсем. Зато мамка хоть знать будет.
Любок отстукивает по земле ритм. Я вздыхаю, сжимаю вожжи покрепче и любуюсь мелькающими избами. Папка меня часто в город возил, да и сама я несколько раз туда ездила, за лекарствами Никите, когда он болел, а папка как раз в командировке был.
– Эй, Верка!
Я оборачиваюсь.
Евдокия Игнатьевна семенит полными ногами, телегу догнать пытается. Я притормаживаю. Она опирается о доски, сгибается, пытается отдышаться. Поднимает ладонь и говорит:
– Ух, Верка, еле нагнала тебя. Чего, в город собраласи?
– Угу, – говорю и откидываю тяжелую прядь волос назад.
– Ой, ягодка, а будь другом? Мне за лопатою срочно надо! У меня телочка в стайке провалилась под пол, а я ее давай оттуда лопатой доставать. Ну и сломала родимую. Вот и нужна новая, а то картошка скоро пойдет, а чем я подкапывать буду? Могла б, конечно, одолжить у кого, а на следующий год как? Свою иметь надо.
Я смеюсь.
– Как же вы, Евдокия Игнатьевна, лопатой умудрились телку выковыривать? Это ж большой ум нужен?
– И не говори, ягодка, надо было граблями, грабли-то у меня запасные есть. Ну так и чего? Подбросишь до города?
Я улыбаюсь. Чешу кончик носа и усмехаюсь:
– Довезти-то довезу, но не за спасибо, конечно.
– Ой, это да, это без вопросов! – она радостно взбирается в телегу и удобно устраивается на подушках. – Я тебе ведро картошки за это дам. Вот только выкопаю. И сразу принесу!
– А когда это в Советском Союзе принято стало картошкой рассчитываться?
Я ехать не спешу.
Евдокия Игнатьевна ворочается сзади. Только через минуту до нее доходит:
– А… Так… Так тебе деньги нужны?
– Не помешали бы.
– Ой, ягодка… А денег у меня с собой нету, только в аккурат на лопату. Давай ты меня довезешь, а я тебе потом как-нибудь верну, хорошо?
Я вздыхаю. Ударяю вожжами и тихо произношу:
– Да ладно уж, помогу… Только вы не забудьте! А если забудете – я вас больше никогда в жизни возить не стану, так и знайте.
– Ой, да что ты, ягодка! Да когда ж я хоть что-нибудь забывала, а?
– Долг папке отдать забывали. Тяпку мамке вернуть забывали. Забывали даже корову свою впустить, пока она всю ночь под вашей калиткой не простояла.
– Ну, сравниваешь тоже! Старая я уже, и память не девичья. Тебе легко говорить, тебе… семнадцать, да?
– Шестнадцать.
– Еще чище! Ты-то молодка, вся жизнь впереди, память свежая, а у меня… А чего, кстати, Сережка-то к тебе ходить перестал?
Я утираю взмокший лоб. Ерзаю.
– А он и не начинал, – вздыхаю. – Один раз всего зашел и все.
– Ну и ладно, ну и хорошо! Ты с ним не связывайся, он разбойник, он яблоки у меня в саду пер! Вот из таких потом ворюги и вырастают! Не надо тебе с Сережкой сдруживаться, найдешь ты потом себе еще лучше. Такая красавица, конечно, найдешь! Влюбишься, семью построите, дети у вас по дому бегать будут… Не то что у меня, одинокой…
Еще одна в мою жизнь нос сует. Ладно мамка, а Евдокия Игнатьевна мне вообще кто? Чего она тут со своими советами расщедрилась?
Но я себя сдерживаю. Молчу до самого Пскова. Евдокия Игнатьевна мне что-то про свое детство рассказывает, рассуждает, смеется. Видимо, это у нее в крови: делиться всем, чем можно и чем нельзя с малознакомым человеком. Или просто не с кем дома поговорить, одна ведь все-таки живет, вот и отдувается на всех, кого не встретит. А я не слушаю. Думаю, как денег заработать можно.
Может, извозчиком поработать? Так я Псков шибко и не знаю. Скажут: вези в филармонию. А я и понятия не имею, где эта филармония находится. Можно, конечно, рискнуть. Сесть в телегу, а люди пусть сами дорогу показывают.
Вот, доезжаем мы до указателя. «53 км до г. Остров; 283 км до г. Ленинград; 5 км до г. Псков». А над указателем вороны кишат. Стаей черной окружили, оккупировали знак, не слетают. Чего это они так к указателю-то прилипли? Медом им, что ли, намазано?
– Ишь! – кричит Евдокия Игнатьевна и чуть приподнимается в телеге, грозя кулаком. – Ишь, нечистые! Пшли вон! Ишь чего, собралися тут! Вам что здесь, жилище?
– Что они вам сделали? – хмыкаю я. – Они вас трогали? Нет. Так чего вы их трогаете?
– Ты чего, Верка! Это ж нечистые птицы!
– С чего это они нечистые?
– Так падальщики они! И нечистому духу служат!
– И что с того, что падальщики? Нужно же им питаться. Они ведь тоже жить хотят. А во все эти сказки я не верю. Животное, любое животное, плохим быть не может. Вороны – птицы умные, хитрые, веселые. А вы на них нападаете.
Евдокия Игнатьевна начинает причитать до самого Пскова. У меня уже голова болит. Скорей бы она за своей лопатой ушла, сил больше нет ее болтовню слушать.
Вон и Псков уже нас башенками встречает. Вижу офицеров, что машину рассматривают. Сломалась, видать, а они смотрят, изучают что-то, чинят. На меня оборачиваются и долго так смотрят, раздумывают, даже шеи вытягивают и в телегу заглядывают, но ничего не говорят.
Однако странным мне кажется, что у папки на фуражке, когда он уезжал, звезда была, а у этих – черепа серебряные. Зелено-серые кителя, орел на плече, а на груди – кресты черные.
Немцы? Да нет, быть не может! Чего бы немцы здесь делали? Чего бы они тут хозяйничали, машины чинили? Это форма, видать, у наших такая появилась. Ничего путного придумать же не могут, только орлов всяких с крестами на кителя навешивают.
Разговаривать с ними все-таки боюсь, да и незачем. Правда, пугает меня, что все они так странно на нас смотрят, безотрывно прямо. Ну что такого, едет девчонка с бабой в город по делам, чего теперь, глазеть на них, что ли?
– И придумают же, – мигом рассуждает Евдокия Игнатьевна. – Раньше хоть звезда была. Хорошо, красиво. А сейчас! Череп повесили! Человеческий! Да где ж это видано? Разве красиво? А дальше что будет? Самого черта на шапку прилепят?
– Евдокия Игнатьевна… – шепчу я. – А… а вы уверены… ну, что это наши? Не немцы?
– Ну ты дурная! С чего бы немцы? Те сразу б убили, – совершенно спокойно отвечает она.
– Зачем убивать? Мы не военные, не солдаты, опасности для них не представляем. А один так в телегу заглядывал… Ну словно думал: ограбить или нет? Только вот что они тут делают? Не могут же они просто посреди улицы с железками возиться? В город еще попасть надо! Так я сомневаюсь, что их бы просто так впустили. Может, все-таки наши?
– Говорю тебе: наши!
– А если нет?
– А ты развернись и спроси!
– Вот сами и спрашивайте.
– Так, Вера! – Евдокия Игнатьевна опять приподнимается в телеге. – Ты давай-ка меня до конца уж довези, а то, небось, уже назад повернуть хочешь? Меня немцами не проведешь, уж делай все, как договаривались.
Я оборачиваюсь и смотрю на маленькие фигурки офицеров. Ну… Евдокия Игнатьевна дело говорит. Немцы не пустили бы. Зачем им пускать-то? Наши это. Машина, видать, сломалась, вот и возятся. А в телегу заглядывали, наверное, с целью попросить довезти.
Вот уже и шумный Псков. Свистят, болтают, колесами по камням шаркают. Люди спокойные, идут по своим делам. Не паникуют, не плачут. Стало быть, то были действительно русские офицеры со странной формой.
Проезжаю по широкой площади. Остальные на меня шибко не смотрят, внимания не обращают. Вот уж и вывески разные пестрят: «Булочная», «Цирюльня», «Мебель»… И на каждом доме плакаты понавешаны! Знаю, что бумага говорить не умеет, но эти прямо вопят: «Слава пролетарию!», «Ночь – работе не помеха!», «Новый горошек – пальчики оближешь!». Еще и картинки такие натуральные рисуют. С тем же горошком – ну сама бы съела, так нарисовали здорово! Зеленый, сочный, красочный. Пахнет, правда, вокруг совсем неаппетитно. Словно жженой кожей… или шерстью? Гарью прет, видать, пожар где-то. Там, вдалеке, женщины кричат, тушат наверняка.
– Вот и моя остановочка, – радостно вскрикивает Евдокия Игнатьевна. – Притормози, Вер… Слушай, а ты назад в Атаманку когда? Доехали бы вместе. Или подожди? Я сейчас, я быстренько… Только не уезжай никуда, хорошо? Сейчас, лопату возьму…
Я киваю. Тянусь, лениво слезаю с телеги и развожу лопатки. Пройтись бы, а то ноги затекли в одной позе час находиться… Как раз Любка напою, должны же где-нибудь здесь колонки быть.
Сколько в Пскове не была, а он все тот же. Те же дома, те же люди: девушки в голубеньких платьях в горошек и пожилые мужчины в костюмах. И флаги те же на крышах развеваются…
Я резко останавливаюсь.
Нет, флаги не те же! Красные-то красные, да только нарисованы на них такие черные изгибающиеся… не то кресты, не то ленты, не то…
Жутко мне становится от этих флагов. Я пячусь назад, смотрю на людей совсем с другой стороны… И вижу совсем другую картину. Кто улыбается – тот улыбается через силу, кто бежит – тот убегает от кого-то, кто занят делом – у того дрожат руки, подкашиваются ноги и блестят глаза. Не тот это Псков, что раньше был, совсем чужой. И кажется мне, что впустить-то меня сюда впустили, а вот выпустить…
Рвано вздыхаю и кидаюсь к коню, но в телегу влезть не успеваю. Проходящая рядом женщина вдруг хватает меня за руку и тащит за собой. Я спотыкаюсь, бегу, ничего не успеваю понять, пока не вижу, как к нам приближается черная вереница мотоциклов и большая блестящая машина.
И только теперь окончательно осознаю, в чем дело.
Один из мотоциклистов встает в люльке направляет на нас автомат и кричит:
– Sich hinlegen! Beweg dich nicht!
Я вздрагиваю. Его речь как удар хлыстом рассекает слух. Спина мгновенно взмокает… и я осознаю, что не могу шелохнуться. Совсем.
– Wenn du dich nicht hinlegst, wirst du sterben!
Я понимаю его, я прекрасно его понимаю. Но не могу двигаться, пока та же самая женщина не толкает меня в спину, отчего я падаю на колени. Прижимаю их к животу, зажмуриваюсь и закрываю уши. Сердце колотится, так громко колотится, что слышу я лишь оглушительное биение. Дышу пылью с земли. Почему-то пытаюсь защитить глаза, вдавливая лицо в колени. Ведь если он начнет стрелять, если он вышибет мне глаза…
С трудом сглатываю. От дичайшего страха закусываю до крови губы и дрожу.
Папка говорил, что в самых страшных ситуациях надо вспоминать что-нибудь смешное. И тогда…
Немец открывает очередь.
И как-то резко у меня исчезает страх. Я просто лежу, почему-то яро прикрывая лицо, и жду, пока меня измолотят пули. Только вот боюсь боли… Это слишком больно? Слишком ли больно, когда в твое тело вонзается кусок свинца?
Животные крики людей, звуки выстрелов, немецкая брань, визг умирающих лошадей – все смешивается в один оглушительный протяжный вой, который разрывает барабанные перепонки и ввинчивается в голову. Когда уже? Ну когда?! Нет ничего хуже ожидания! Чего они медлят?!
Автомат смолкает.
А я лежу, вдавив в лицо колени, а в уши – ладони. Не открываю глаза. Если открою – выбьют. Вышибут пулями. Кажется, в меня просто не попали… Наверное, не заметили, что я жива. Сейчас добьют…
Чуть отвожу руки от ушей.
Слышу, как женщина рядом со свистом дышит. Слышу, как немцы спрыгивают с мотоциклов и неспешно обходят площадь. И слышу шепот спасительницы:
– Они только тех, кто стоял, пришибли. Кто немецкого не знал. Лежи тихо…
И я лежу. Так тихо, насколько вообще могу. Пока вдруг прямо перед моим носом не оказываются блестящие начищенные ботинки.
Я не шевелюсь.
Он не уходит.
Тогда я сглатываю и очень медленно поднимаю голову.
Немецкий офицер стоит и смотрит прямо на меня. Будто и не просто на меня, а в самую душу. Но не только он. Дуло автомата тоже смотрит прямо на меня. В самую душу, бездонной дырой черного глаза.
Глаза… Он же пулями выбьет мне глаза… Зачем я вообще на него посмотрела…
– Steh auf, – выплевывает офицер, резко вытирает губы и перемещается к другим людям.
И я покорно встаю.
Вокруг стараюсь не смотреть. Даже боковым зрением вижу разбросанные тела и внушаю себе, что им просто еще не давали приказа подниматься…
Часть немцев зашла и в магазин. Я затаила дыхание, ведь там Евдокия Игнатьевна!
И я не знаю, жива она или нет. И никогда уже не узнаю. Остальные нацисты нам приказали за ними идти. Часть в мотоциклы уселась, самые важные – в машину, а оставшиеся наш строй со всех сторон окружили и автоматы в руки взяли. Сомкнули так, что не выбраться, да и куда ведут нас – никто тогда не знал.
Но мы пошли. В магазине крики раздавались, выстрелы, позже горелым запахло, а мы шли. И я в тот момент почему-то только об одном думала: теперь мне известно, почему наша планета не светится…








