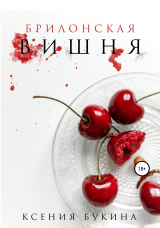
Текст книги "Брилонская вишня"
Автор книги: Ксения Букина
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Глава 3
Уже темнеет.
Деревья вокруг, кусты, люди – все сливается с небом, и с каждой минутой все тщательнее смотришь себе под ноги, дабы не упасть.
А мы идем. В обед вышли, и все идем, до вечера идем. Сначала-то бодро шли, люди переговаривались друг с другом. Кто-то смеялся, кто-то даже шутить умудрялся. А у меня внутри такая тревога росла, что с каждым шагом я все дальше от дома, от мамки с Никиткой… Как она там? Наверное, с ума сходит… Там, в Атаманке, уже наверняка коров домой гонят, бабы с работы возвращаются. Мамка Бобику хлеб в молоке размачивает, поросят кормит, кур загоняет… А мы идем.
К вечеру шум в толпе поутих. Все так вяло шагают, уставшие, злые – а передохнуть нам не дают. И на разговоры сил не осталось, каждый шаг – одышка, да если еще и при этом болтать, точно задохнемся. А немцы сами злые от такой долгой дороги. Если днем они на нас и внимания не обращали почти, то сейчас рявкают на всякого, кто рот раскрыть посмеет.
Сначала с нами еще несколько мотоциклов было и одна машина. А потом мы к полю подошли, туда техника не проедет. Вот и остались мы одни в окружении пеших, очень уставших и очень злых немцев. Насчитывалось в толпе около сотни людей – это к нам еще одна колонна примкнула. Тоже, видать, где-то схватили бедолаг и заставили шагать.
У меня сначала голова кружилась. Тошнило. В боку болело страшно. Каждый раз, когда кто-нибудь смелый спрашивал у немцев передышки, внутри я неистово радовалась, что самый главный мой вопрос задали вместо меня. Но нацисты только орали. Махали пистолетами и орали, чтобы мы заткнулись.
А сейчас уже отпустило… Ноги как дубовые – переставляй и все. Спина, правда, взмокла, аж ручьями пот по спине бежит. В дырявые туфли то и дело попадает то трава, то камни, то грязь. Один камушек забился так, что не вытащить, и давай мне ногу натирать, а потом и вовсе изрезать в мясо.
Морщусь и закусываю губы от адской боли. Хочу на секунду остановиться, сорвать лопух и подложить в туфлю на место камешка, но сзади меня толпа движется. Если остановлюсь – они тоже замрут, и тогда уже встрянут немцы. А выходить из строя нельзя. Расстреляют. Я уже несколько раз выстрелы слышала. Уши зажимала и жмурилась. Самих смертей не видела, поэтому имела право думать, что их просто ранили. Скажем, в ногу. Или в руку. Чтоб идти не мешало.
Но страшнее всего, что мы не знали, куда нас ведут и что ждет дальше. Мы думали, это самое худшее, случавшееся когда-либо в жизни, но и представить себе не могли, что самое худшее может наступить каждую минуту.
Я с воем вздыхаю от боли. Вот и остается мне теперь только хромать. А ведь с каждым шагом камень разрезает ногу все глубже…
Остановиться нельзя. Почти вплотную и сзади, и спереди люди. Да и показывать немцам, что у тебя болит нога, тоже нельзя. Могут расстрелять. Они так делают. Убивают. В основном, пожилых – тех, кто не может уже идти и сваливается от истощения сил. Им с такими возиться ни к чему. И, наверное, с такой, как я, им тоже возиться ни к чему.
Вот уже и мира не видно. Да и тишина почти, только шепотом люди переговариваются, сапоги стучат и изредка немцы выбрасывают что-нибудь очень яростное на своем языке.
Выходим на дорогу. В туфле хлюпает. Уже почти вся кровью наполнилась и насквозь ею пропиталась, из прорехи только успевает выливаться. Я взвываю, сдираю с себя туфли и отшвыриваю их в темноту.
Очень зря. Теперь вместо одного камушка в пятки впиваются тысячи.
А еще ужасно хочется пить. И есть хочется, и по нужде хочется, но ничего из этого не сравнимо с невероятной жаждой. В горле пересохло, губы склеились, язык онемел, и все внутри вопит лишь одно: воды!
Чернота кругом. Ни зги не видать, только маленькими бусинками на небе редкие звезды сияют…
Интересно, а на тех светящихся планетах есть войны? А зло? Неужели там каждый человек идеален, вершится лишь добро, и в награду за это мы можем видеть мерцание их хороших дел за великое множество километров отсюда…
Каждый шаг думаю: немцы ведь тоже устали, с минуты на минуту должны передых сделать. Иначе сами свалятся, а изголодавшая злая толпа их испинает и затопчет!
Босые пятки тонут в грязи и хлюпают по воде. Я специально иду по лужам. По камням пошагаю – в фарш ступни изорву. И регулярно отмахиваюсь от мысли выйти из строя, упасть на землю и ждать милосердной пули.
Где-то вдалеке лают собаки. Совы устрашающе вопят. Кони с сочным хрустом траву срывают. Видать, тоже их в ночное пасут. Пацаны костер разводят и сторожат коней. Усаживаются вокруг огня и страшилки друг другу рассказывают…
А мы идем.
Голова уже кружится, перед глазами то светлеет, то темнеет… и плывет, все плывет. Я уже и идти нормально не могу, все за людей рядом хватаюсь, чтоб не свалиться. Глотаю горячий ночной воздух, кашляю до разрывания глотки и упрямо впечатываю ноги в кинжалы камней.
Но вдруг дорога сглаживается. А в темноте можно различить уже не деревья, а небольшие постройки. И слышно теперь не конское ржание, а людские голоса.
Куда нас привели? Зачем вывели из Пскова и загнали в… А что это за город вообще? Тоже оккупированный? Для чего нам было сюда идти?
– Вдалеке станция? – вдруг слышу немецкую речь.
– Да, уже почти на месте, – хрипло и с большой одышкой отвечает ему другой солдат.
Я восторженно вздыхаю. Появляются вдруг силы идти дальше.
– И долго мы будем ждать поезд?
– Через час должен прибыть.
– Товарный?
– Конечно. Еще не хватало пассажирские завшиветь.
– Как думаешь, нужно их накормить?
– Кинь хлеба, чтоб не сдохли. У станции колонка есть, там попьют. Как раз поезд ждать будем. И смотри в оба, чтобы ни один не сбежал.
Я готова закричать от облегчения. Наконец-то! Наконец! Я-то думала, мы еще черт знает сколько будем шагать, а мы, оказывается, сейчас передохнем, наедимся, напьемся и дальше поедем на поезде!
Правда, странно, что нас не отвели на станцию прямо в Пскове. Или это Псков? Зачем тогда было целый день шагать по полям да дорогам? Может, немцы искали еще людей, которых можно поймать и конвоировать? Это знают только они.
Доходим до станции. Силы у людей уже иссякают настолько, что каждый валится на землю от истощения. И я валюсь. Сначала на колени. Сижу и не могу отдышаться – глотаю тяжелый воздух, закашливаюсь и хриплю. Потом уже медленно ложусь на холодную пыльную землю и закрываю глаза.
Устаю так, что спустя пару секунд уже проваливаюсь в сон. Правда, тут же просыпаюсь и разлепляю глаза. С трудом держу их открытыми, чтобы вновь не задремать.
Немцы из рюкзаков хлеб вынимают и разламывают. Прямо как папка поросятам. Переговариваются между собой, даже шутят… правда, юмор у них настолько пошлый и грубый, что мне даже не хочется в смысл вникать.
Собираю все силы. Встаю и, шатаясь, бреду к колонке. Там уже очередь. Человек пятнадцать стоят… ну, первые стоят. Те, что посередине – сидят, а последние вообще лежат. Торопливо занимаю место и тоже усаживаюсь на землю. Оглядываюсь. Вот и другие подходят… А остальные? А остальные, наверное, еще в себя не пришли.
У немцев, оказывается, в фляжках есть вода. И еда есть. Не просто хлеб, а консервы, сало копченое в шелестящих свертках, лук, огурцы, помидоры… Только нам это, конечно, не дадут. Ничего страшного, и без пира обойдемся! Самое главное – нас накормят хлебом! Даже не так: самое главное – нас накормят!
Я сжимаю урчащий живот. Сглатываю и отворачиваюсь. Не могу смотреть на их еду, слишком тяжко. Сразу рот слюной наполняется, сразу тошнит и голова кружится… Скорей бы уж дали, скорей бы…
Один из немцев вдруг швыряет мешок с хлебом в толпу. Люди мигом подскакивают, толкаются. Те, кто встать не успел – тех топчут, мешок друг у друга рвут, куски хлеба с голодным воем вырывают, вгрызаются в него, давятся, кашляют…
А я что… А я у колонки. Пока дойду, уже весь хлеб съедят, а место мое в очереди займут. Снова сглатываю. Слышу, как люди хрустят сушеными корками, давлюсь слюной и посильнее зажимаю живот.
Когда нас еще раз покормят? И покормят ли вообще?
Тихо вою от обиды. Сжимаю зубы и обнаруживаю, что до колонки осталось всего три человека.
Я очухиваюсь от ходьбы, от палящей спины и обжигающих капелек пота. Теперь мне становится холодно. Я обнимаю себя и начинаю мелко дрожать. Помогает. Но несильно. Теплый тулуп мне здесь вряд ли дадут, так что…
Подходит моя очередь. Я несмело подползаю к колонке. Опершись, встаю и ослабшими, дрожащими от усталости руками нажимаю на рычаг. Сгибаюсь над колонкой, припадаю к струе и делаю жадный глоток. Восхитительно! Настолько ледяная вода, что ноют зубы, холодная до ломоты, но необычайно вкусная, даже немного сладкая, с металлическим привкусом!
Пью потихоньку – боюсь захлебнуться. Каждый глоток словно возвращает мне утраченные силы и не дает рухнуть на землю, а потом умереть от истощения. Во рту больше не сухо, губы не склеены. Ледяная вода течет по подбородку и мочит платье. Я вздрагиваю, но не могу оторваться, словно нас с водой сейчас соединяет неразрывная нить…
– Эй, нам-то попить дай! – возмущаются сзади люди.
Я делаю три прощальных глотка, утираю губы и отхожу.
Попить – попила. Отдохнуть – отдохнула. Теперь вот только бы поесть да по нужде сходить…
Вижу, как люди выстроились в очередь у общественного туалета. Немедленно занимаю место и там. Здесь, правда, ждать приходится намного дольше, но через минут двадцать одной потребностью становится меньше.
Только вот не могу понять: неужели наелись действительно лишь те, кто успел?! А как же я?! А их не волнует, что половина может спокойно умереть от голода, и тогда их же труды будут наполовину бессмысленные!
Наверное, дичайший голод и утоление всех остальных потребностей пробуждает какую-то несвойственную мне храбрость. Протискиваюсь к немцам сквозь толпу и громко кричу:
– Простите!
Они щурятся, поворачиваются ко мне. Едят лук, заедая его хлебом и запивая водой. Вгрызаются в помидоры, разворачивают в свертках сало, курят папиросы…
Я жадно сглатываю и продолжаю:
– Если позволите мне высказаться… Дело в том, что мне не хватило еды. Я правда очень голодна. И не только я. Мне кажется, что если все умрут, весь наш длинный путь – и ваш, между прочим, тоже – станет бессмысленен. Вы меня понимаете?
Они все еще щурятся. Морщатся, переглядываются, но молчат.
– Вы понимаете? – почему-то продолжаю настаивать я. – Мне не досталось даже жалкого кусочка хлеба!
Один из немцев вдруг начинает смеяться. Другой немедленно спрашивает у него:
– Что она говорит?
– Говорит, что ей не хватило еды.
– Неужели она хочет, чтобы мы ей посочувствовали?
– Да кто их, русских, разберет. Посочувствуй, у тебя это отлично получается. Особенно хорошо ты сочувствуешь женщинам.
– Думаешь, она этого хочет?
– А ты разве не понял? Она только что прямым текстом сказала, что возбуждается при виде твоей формы и готова переспать с тобой за кусок хлеба. Ну, иди. Пользуйся. Сочувствуй.
У меня пропадает дар речи. Но почему-то разум твердит: нельзя показывать им, что я понимаю немецкий язык.
– Хлеба жалко, – вздыхает нацист.
– Да? А ты без хлеба.
– Ты думаешь, я б отказался? Но начальство… если узнает – вылечу мигом. Нельзя нацию осквернять и пачкать.
– Какой ты нежный! Ну тогда скажи даме, что сегодня веселья не будет.
Они снова смотрят на меня, отворачиваются и продолжают трапезу, потеряв ко мне интерес.
Да и мне как-то больше не хочется выпрашивать у них продукты. Я скрещиваю на груди руки, отхожу подальше от немцев и тихонько ложусь на землю. Прижимаю к груди колени и закрываю глаза. Все хорошо, все отлично! Вот только б найти, чем накрыться от вечернего холода… и чего съестного в рот положить… И будет все идеально!
Засыпаю. Некрепко совсем, слышу голоса людей, слышу возню, но дремлю. Еще в вагоне неизвестно сколько трястись. Нужно сил поднабраться. Дорога обещает быть долгой…
Меня будят нервные выкрики немцев и громыхание железа. Открываю глаза и передергиваюсь от утреннего холода, ледяной влажности и тумана. Вижу, что начинает светлеть. Несильно, правда, лишь небо чуть-чуть цвет поменяло.
В животе уже сводит от голода. А немцы кричат, автоматами машут и в вагоны всех загоняют. Поезд, оказывается, уже прибыл. Действительно товарняк. Хорошо хоть двери закрываются, а то мы так все повыпадываем. Хотя… это был бы прекрасный шанс сбежать.
Сливаюсь с толпой. Тот самый немец, что коверкал мои слова своим переводом, распределял всех по вагонам. Другие же стояли и охраняли, чтобы не дай боже кто-нибудь не удрал.
Как же глупо я все-таки надеялась, что с прибытием поезда станет легче…
В вагоне были люди. Много людей, почти битком, а меня к ним протискивают. Встаю босиком на ледяное железо. И не лечь, не сесть, не развернуться – теснота такая, что даже голову не повернуть! Глотаю свежий воздух, пока дверь еще держат открытой. Окидываю взглядом вагон. Все замученные, голодные, уставшие, потные, немытые… и я такая же. И настолько разящая внутри стоит вонь, что я даже закашливаюсь и закрываю лицо руками.
Немцы умудряются втиснуть в наш вагон еще шестерых, после чего двери запираются. Люди жмутся друг другу вплотную, руку поднять – и то тяжело, ее еще вытащить надо! Душно, воздух спертый, отвратительный. Пахнет гнилью, потом, мочой – голова кружится. Живот сводит в судорогах. Уже сутки будут, как я ничего не ела. Все почему-то молчат, и я нахожу в себе силы выдавить:
– Вы давно здесь?
Тишина. Никто вступать в диалог не хочет. Либо устали, либо смысла не видят, либо так немцев боятся. Только один мальчишка около меня, по виду не старше моего Никитки, с удивительной бодростью отвечает:
– Дяденька утром сказал: почти три дня.
Я снова закашливаюсь от вони, встречаюсь взглядом с пацаном и спрашиваю:
– А тебя зачем поймали? Ты же маленький.
– А я не знаю, – охотно делится он. – Меня мамка в магазин отправила, я назад возвращался и встретил немецких дяденек. Они так смешно по-русски болтают! Меня спросили, где мои родители. А я: «Дома». Хотел только их сбегать позвать, а меня схватили и идти за всеми заставили.
– Вас здесь кормят?
– Ага, уже целых два раза покормили! А еще… Знаешь, что у меня есть?
Он выковыривает из грязного кармана брюк пряник и незаметно кладет мне в ладонь.
– Ты чего… – шепчу я. – Это же твое… Ты же голодный, наверное…
– Да не, нас кормили уже. А пряники я не люблю. В магазине теть Люся работает, она мне их всегда дает почему-то, а я в карманы бросаю и забываю. Когда домой приедем, я тебе теть Люсю покажу. Может, и тебе даст чего-нибудь. Она добрая.
Я несмело подношу пряник к губам. Люди на меня исподлобья смотрят, но ничего не говорят. Было бы благородно сейчас поделиться с ними, но тогда я рискую получить голодный обморок. Откусываю крохотный кусочек и рассасываю, долго пережевываю и наконец осмеливаюсь проглотить. Мятный, немного отвердевший и грязный, но сладкий и настоящий. Решаюсь на еще один кусок. Большой – но последний. Иначе если мне и потом еды не достанется, я просто умру. А так у меня будет хоть пряник.
Мальчик замолкает на несколько секунд. Уже с грустью вздыхает:
– Меня мамка в пятницу на прививку водила. Там мне такой укол болючий поставили. А у меня после прививок всегда жар и голова болит. Я у немецких дяденек просил таблетку, а они не дали почему-то. Может, они мой язык не понимают?
И я вдруг со страхом и горечью понимаю, зачем немцы повязали этого мальчишку, куда его везут и что с ним собираются сделать. Понимаю – но не подаю виду. Не хочу верить и думать об этом. Сглатываю. Неуверенно улыбаюсь.
А он ни о чем не догадывается.
Он вообще ни о чем не догадывается.
Вдруг берет меня за руку и тихо произносит:
– У нас на прошлой неделе курица белая сдохла. Она давно болела, уже не ходила совсем. На одном месте сидела, а на глазах – пленка какая-то. Я ей зерен давал и воды. Жалко, что сдохла… Мы ее в огороде похоронили. Я веточку в это место воткнул. Мамка говорит, что теперь ей хорошо.
Он опять замолкает.
Я не знаю, что ответить. Поэтому просто стою и жду, когда поезд придет в движение.
Стою уже где-то час. Ноги устали, но не присядешь, и от вони никуда не денешься. Так жарко становится, так душно… Мне остается опираться то на одну ногу, то на другую, чтобы нагрузки поменьше было. Успокаиваю себя пряником и мыслью о том, что я смогу все перетерпеть. Искушаюсь и откусываю мучной кругляш еще раз. На этот раз обещаю себе – в последний.
Наконец поезд громыхнул, загудел и очень лениво сдвинулся с места, будто бы хотел еще постоять, подремать. Наверное, пока распределяли людей, пока усаживались сами… Столько времени и прошло.
Слишком душно. Воздуха не хватает. Я пытаюсь протиснуться сквозь потную, липкую толпу. Щемлюсь, изворачиваюсь, но оказываюсь у заветной стены. Прислоняюсь щекой к холодному железу и облегченно закрываю глаза.
Как ни странно, засыпаю почти сразу. Истощенная, сплю стоя, опираясь на дребезжащую стену вагона. И мне даже сон снится. Правда, их много, и они все какие-то странные, бессвязные: не начатые и не законченные. Словно вырванные отрывки из книги. Дом снился, мамка ворчащая. Потом площадь, засада, нацисты. Снилось, как мы с немцами все еще идем, реку какую-то переплываем… они все рявкают на нас… Снилось, как мы приехали в Германию, а там я папку встретила, который мне блокнот немецкий подарил…
Мы останавливаемся. Я не могу даже глаз разлепить – закрываются. Но с усилием просыпаюсь, поскольку опять могу прозевать кормежку. Утешает, что сейчас я нахожусь почти ближе всех к выходу.
Но нас даже не открывают. Возятся с другими вагонами, кричат и снова чем-то гремят. Видать, новеньких засаживают. Я вздыхаю и вдруг замечаю небольшую щель. Прислоняюсь к ней.
Оттуда, оказывается, продувает ветром и чистым воздухом! Вот где я могу спастись от вони с духотой! Вот где могу наблюдать за происходящим вне вагона!
На этот раз возятся быстрее. Поезд трогается, а я с интересом гляжу в щель.
Неровные горбы холмов проносятся мимо замершим зеленым морем в ненастье. Как небрежные веснушки, их осыпают созвездия незабудок, разбавленных в некоторых местах душистым цикорием. Пролетают реки, зеркалами отражающие мохнатые облака. Зеленые июльские деревья. Деревни с маленькими домиками. Все-все: стада кучерявых овечек, холмы и равнины, блеск солнца в реках, пашни и поля – все пролетает мимо меня. Весь этот мир, все это летнее блаженство находится за железной стеной душного вонючего вагона.
Это больше не мой мир.
И в него меня теперь уже вряд ли когда-нибудь пустят…
Мы ехали трое суток.
Нас и вправду здесь кормили. Открывали вагон, бросали хлеба да всучали большую фляжку воды на всех. Но теперь я была проворней: мигом вытягивала руку и цепко хватала кусок батона, а потом незамедлительно в него вгрызалась, уже не думая о такой поблажке, как экономия. На радостях доела даже пряник.
Правда, воду люди берегли, делились, пили немного и осторожно, передавая друг другу помятую фляжку. Каждый взял за неоговоренное правило: делать ровно два маленьких глотка. И я делаю, когда емкость оказывается у меня в руках. Теплая вода, с каким-то огуречным привкусом, но и она хоть немного утоляет жажду.
Поели, едем дальше. Оказывается, здесь даже туалет был. Кто-то выломал дыру в полу, а нам приходилось протискиваться и побарывать всякое стеснение. В утешение хочу сказать, что никто шибко и не смотрел: люди все-таки, понимали.
Грязная, потная – я продолжала ехать, узнавая о смене суток лишь по маленькой щели. Спала стоя, опершись на стену. Иногда разговаривала с кем-нибудь… правда, уже не помню, с кем и о чем. А тело уже не просто чесалось, оно щипало от грязи, я до крови расчесывала кожу и выла от безысходности. Пыталась плевать на ладони и мыть себя слюной, но так выходит лишь хуже.
Несколько раз мы останавливались. На одной станции из нашего вагона даже вывели несколько. Вместе с – очень странно – с мальчиком, который собеседником мне был. Места стало побольше, ехать – полегче, и теперь мы уже, слава богу, не прижимаемся друг к другу немытыми телами.
Что с ногами стало – молчу. Вначале они адски ныли от усталости, а потом просто перестали чувствоваться. Только когда народу поубавилось, у меня получилось сесть на пол и аж взвыть от наслаждения.
Вот теперь все идеально. Нас недавно еще раз накормили, напоили, и теперь я сижу в углу и обессиленно сплю. На этот раз – крепко. Вижу глубокие, подробные сны… просыпаюсь на секунду – и опять проваливаюсь в небытие.
И, наверное, всю оставшуюся дорогу я просто сплю. Проснусь, отгрызу часть от куска хлеба в руках – и засыпаю опять. То желаю, чтобы мы поскорей приехали. То хочу пребывать в поезде всю вечность, чтобы не оказываться там, куда меня столько времени везли.
Но поезд наконец тормозит. Наши двери открываются, а немецкий солдат приказывает всем выходить.
Я, опираясь, на стены, медленно выползаю и вываливаюсь из вагона. Щурюсь от яркого света и кашляю из-за непривычно чистого воздуха.
Вижу: вышедших опять конвоируют и снова собираются куда-то вести. Не всех, от силы два вагона. Ступаю босиком на холодную площадку. Вздыхаю. Покорно вливаюсь в колонну, которая вскоре уже начинает шествие.
Правда, шли мы в этот раз недолго. Совсем скоро вижу укрытые сумраком постройки, окруженные железной изгородью. Скорее всего, какой-то лагерь или штаб. И почему-то чувствую: я еще здесь, на своей родине, а не в какой-то там Германии. Расположились гады на границе, а к ним… Зачем? В прислуги?
И нас уже встречают конвоиры с распростертыми объятиями, автоматами и широко раскрытыми воротами…








