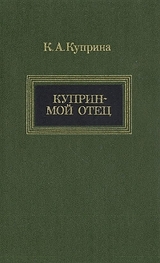
Текст книги "Куприн — мой отец"
Автор книги: Ксения Куприна
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Мне неизвестно точно, когда узнали Щербовы о смерти Вадима. Очень может быть, что после нашего отъезда из Гатчины Настасья Давыдовна нашла письма в шкафу Александра Ивановича. Говорят, что, узнав об этом, Павел Егорович молчал три дня, потом вдруг дико закричал.
В 1919 году большой друг Щербовых и наша ближайшая соседка Александра Александровна Белогруд, жена знаменитого архитектора, видя поистине бедственное положение Павла Егоровича, не желавшего из-за своего гордого характера обращаться к кому-либо, поехала к А. М. Горькому. Вернулась она в Гатчину очень недовольная, так как Алексей Максимович ей ответил резко: «Кто не работает, тот не ест!» Но, что так характерно для А. М. Горького, он не оставил без внимания просьбу А. А. Белогруд и немедленно написал в Гатчинский исполком. В своем письме он говорит:
«Это самый крупный художник-карикатурист, в России широко известный и за границей. Он такой же буржуй, как я, как любой из вас. Он изумительно талантлив и принадлежит к числу людей, которых мы должны и любить и беречь в нашей небогатой талантами стране. Я убедительно прошу вас, товарищи, не трогайте Щербова, дайте ему жить и работать без помехи.
Очень прошу об этом и думаю, что мои заслуги перед вами и дают мне право дружески сказать вам, не обижайте человека».
Гатчинский исполком 14 апреля 1919 года, помимо предоставления прав на пожизненно бесплатное пользование домом, постановил еще следующее:
«…исполнительный комитет предлагает всем лицам и правительственным учреждениям, находящимся в пределах Гатчины, при обращении к ним гражданина Щербова оказывать ему всяческое содействие, а также удостоверяет, что гражданин Щербов освобождается от всяких обысков и реквизиций и вообще каких-либо обложений и обысков, как элемент буржуазный и контрреволюционный, так как означенный гражданин Щербов является единственным человеком во всей России, как художник-карикатурист, который производит срочные работы по заданиям Комиссариата Народного Просвещения».
А в 1927 году, при содействии В. Ф. Боцяновского, было возбуждено ходатайство о переводе Павла Егоровича в высшую группу работников искусств.
Жизнь одинокой пары протекала тихо и мирно, они никогда не покидали Гатчину.
Глава XI
1917 ГОД
Конечно, я была слишком мала, чтобы понимать события, совершавшиеся в России. Я помню только возбужденные, радостные лица отца, матери и наших общих друзей в Гатчине, помню красные банты, украшавшие нашу одежду, помню слово «свобода».
Первое открытое выступление гатчинских рабочих произошло в дни Февральской революции.
Восставшие с красными знаменами и революционными лозунгами заполнили центральные улицы. Они ворвались в здание городской полиции, освободили арестованных.
Одновременно с Советом гатчинской коммуны возник так называемый Временный комитет граждан города Гатчины.
После Февральской революции появилось несметное количество разных политических группировок. Куприн ринулся в эту политическую гущу, во многом не разбираясь.
Материальное состояние нашей семьи в 1917 году было неважное, если судить по сохранившимся распискам ломбарда. В них числятся: «Брошка, серьги, три кольца, брелок с брильянтами и камнями и цепочка с тремя брелоками, золотая, срок перезакладки 2 июня 1919 г.». Этих вещей в эмиграции с нами не было, наверное, так и остались в ломбарде.
Одно время отец сотрудничал в новой газете «Свободная Россия». Он выступал с самыми разнообразными статьями – то в защиту зверей цирка, которые голодали, то за сохранность исторических памятников. Он очень беспокоился также за гатчинские дворцовые сокровища. Дело в том, что летом 1917 года Временное правительство дало разрешение членам царской семьи вывезти из Гатчины множество произведений искусства. Однако Гатчинский Совет не допустил разбазаривания ценностей, ставших народным достоянием, и всячески содействовал работе руководимого Куприным Союза любителей свободного искусства, который принял ряд мер по охране дворца. Совет бдительно следил за сохранностью этого ценнейшего памятника национальной культуры и поручил Куприну выступить в печати по вопросу об охране перешедших к народу ценностей.
Вскоре Куприн начинает защищать интеллигенцию, наивно полагая, что она незаслуженно гонима, и пишет о том, что выдумали партию И. И. И. И. – Иван Иванович Испуганный Интеллигент – и сколько над ней зубоскалили! А если хорошенько подумать, то этот интеллигент достоин всяческого сочувствия и уважения, имея в виду хотя бы «лютые и мрачные времена пирамидального самодержавия», когда именно интеллигент теплил в своей душе, хотя и украдкой, «огонек веры в грядущую свободу».
Вот отрывок из статьи от 17 мая 1917 года:
«Ведь протекли же первые, красные не от крови, а от общей радости – дни великой революции в стройном порядке, в спокойствии, единодушии и самообладании, восхитивших весь цивилизованный мир.
Нет, не осуждена на бесславное разрушение страна, которая вынесла на своих плечах более того, что отмерено судьбою всем другим народам, вынесла татарское иго… крепостное бесправие, ужасы аракчеевщины и николаевщины и тягость непрерывных и бесцельных войн; вынесла это непосильное бремя и все-таки под налетом рабства сохранила живучесть, упорство и доброту души.
…В Сибирь ссылало правительство и гнали помещики все страстное и живое из народа, не мирящееся с колодками закона и с безумным произволом власти, – и вот вам теперешние сибиряки, сыновья и внуки ссыльных-поселенцев – этот суровый, кряжистый, сильный, смелый, свободный, свободолюбивый народ, владеющий сказачно богатым краем.
А разве, спрессованная бессмысленным грузом самодержавия, не протестовала русская интеллигенция? Не та интеллигенция, какою ее себе представлял скверный памяти бывший околоточный надзиратель, который отечески распекал нашумевшего обывателя: „А еще интеллигентный человек, в крахмале и при цепочке и брюки навыпуск!“ – истинные печальники и великомученики страны, ее совесть, мозг и нервы. Вспомните декабристов, петрашевцев, народовольцев, переберите в уме кровавый синодик наших современников, борцов, сознательно погибших почти на наших глазах, за святое и сладкое слово – свобода. Посмотрим весь цвет и свет России, целые ряды ее молодых поколений, ее лучшие умы и чистейшие души прошли сквозь тяжкое горнило каторги, ссылки, жандармских застенков, одиночек – прошли и вышли оттуда, сохранив твердую веру в человечество и горячую любовь к человеку.
Вспомните и нашу многострадальную литературу, этот термометр угнетенного общественного самосознания. Она задыхалась, принужденная к молчанию, надолго совсем замолкала, временами жалко мелела, но никогда и никто не мог поставить ее на колени и приказать говорить холопским языком…
Дело в том, что нам тысячу лет подряд снился тяжелый кошмарный сон, от которого мы наконец проснулись с тревожным биением сердца, еще не веря, что проснулись, не веря тому, что светлый день под окнами…»
Вскоре «Свободная Россия» оканчивает свое существование. Куприн переходит в газету «Вольность», а затем его статьи появляются во многих мимолетных газетах.
В сентябре – октябре 1917 года усиливается кризис буржуазного Временного правительства, растет большевистское влияние среди народа.
* * *
Я не помню точно, в котором году появилась организация скаутов в Гатчине, не то в 1915-м, не то в 1916-м. Конечно, эта организация привлекла многих гатчинских детей, и меня в том числе. Помню, что каждый из нас должен был сделать в день три добрых дела, и никто из нас не хотел делать их дома. И поэтому мы приставали ко всем гатчинским обывателям с предложением помочь нести пакетик, повозить коляску с ребенком или убрать двор. Когда три добрых дела были сделаны, на галстуке появлялся узел, а в душе удовлетворение.
Очень скоро я стала «лейтенантом»; под моей командой было десять девочек и десять мальчиков. Мы маршировали по-военному, учились поворачиваться, отдавать честь. Часто устраивались пикники с палатками, кострами и играми в разведку.
Один случай мне запомнился на всю жизнь. Нас всех вызвали в большой зал. Около ста ребят стояли в каре со знаменами, регалиями и не знали, что будет происходить. За столом, покрытым зеленым сукном, сидели старшие, лет пятнадцати – семнадцати. Наконец вызвали пятнадцатилетнего мальчишку, обвинили его в том, что он воровал цветы на кладбище. Он сознался. И в полном молчании с него сняли погоны, ленточки и исключили из скаутов. Наверное, это было сделано по принципу полевого суда над шпионами или дезертирами.
Все мы стояли в полном молчании, совершенно потрясенные, переживая и ставя себя на место этого парня.
Несколько скаутов, старших по возрасту и настроенных своими родителями реакционно, готовили диверсию. Они должны были взорвать поезд. Их, к счастью, поймали до того, как они что-нибудь совершили. Приговорили к расстрелу. Обезумевшие родители бросились к моему отцу, прося ходатайствовать. Отец поехал к Горькому (в который раз!), и при его содействии приговор был отменен, так как старшему не было, кажется, и шестнадцати лет.
О скаутах больше не могло быть и речи.
В конце октября Гатчина стала ареной борьбы сторонников Временного правительства с войсками уже победивших в Петрограде большевиков. Некоторое время здесь находился штаб Керенского и генерала Краснова.
В связи с близостью фронта город был объявлен на осадном положении. В феврале 1918 года Гатчина стала одним из узловых пунктов обороны революционного Петрограда от наступающих германских войск. После подписания Брестского мирного договора с Германией военные действия прекратились, и жизнь в Гатчине стала медленно налаживаться. Приходилось преодолевать огромные трудности, связанные с тяжелыми последствиями многолетней войны и разрухи – голодом, холодом, безработицей, эпидемией заразных болезней. Помимо жителей, в городе находилось множество военных частей, беженцев и рабочих, мобилизованных на строительство оборонительных сооружений. С хлебом было очень плохо, от Петрограда ждать помощи было нельзя, он сам голодал. Не менее страшным врагом, чем голод, был холод. Население города пережило тяжелую зиму в неотапливаемых домах.
Чтобы как-то прокормиться, Куприн, Щербов и еще кое-какие соседи организовали некую огородную артель: вскапывали огороды на месте цветников и сажали главным образом картошку. Помню, что на железном занавесе давно закрытой кондитерской был нарисован рог изобилия, из которого сыпались всевозможные пирожные, и мы, дети, подолгу останавливались, стараясь припомнить вкус трубочек со взбитыми сливками или слоек. В первых новых школах учителям очень трудно было восстановить порядок, так как мы восприняли слово «свобода» в полном смысле – можем не учиться, можем не слушаться, вместо уроков устраивали игры в войну, в революцию.
Отец продолжал сотрудничать в разных газетах. Он слабо разбирался в сложных политических переплетениях.
Но он никогда не позволял себе вместе с некоторыми газетчиками выкликать уныло и злорадно: да, Россия при последнем издыхании, Россия гибнет, России нет.
Глава XII
1918 ГОД
Несмотря на серьезные события, в 1918 году мы, дети, затеяли постановку пьески в стихах. Вначале я очень ревниво относилась к своим обязанностям режиссера и не хотела допускать к ним отца. Он обижался, так как умел быть с детьми настоящим ребенком.
В этой пьесе была и пастушка, и прекрасный рыцарь, и хор, и всякие героические перипетии.
У родителей одной из моих подруг был старый запущенный особняк с громадным пустым залом, в котором мы и собирались показать папам и мамам наш спектакль. Выбрав себе главную роль, я почувствовала все-таки необходимость настоящего режиссера, и мне пришлось обратиться к отцу.
Когда уже спектакль был подготовлен, наша труппа, придя на одну из последних репетиций, узнала, что зал реквизирован под концерт для раненых красноармейцев. Мы долго бродили с отчаянием по залу, наталкиваясь на военных распорядителей, пока наконец не обратили на себя внимание. Красноармеец с участием спросил нас: в чем дело? Почему такие траурные лица и слезы? Мы объяснили ему, что у нас срывается спектакль и что нам помогал Александр Иванович Куприн. Заинтересовавшийся военный предложил нам показать наш спектакль. Наверное, это было очень смешно, потому что смотрящие громко смеялись и предложили нам выступить для раненых.
Тут уже все пошло, как в настоящем театре. Появилась сцена, подмостки. Нас спросили, какая нам нужна декорация. Мы сказали, что лес. Нам срубили несколько елок, даже для пущей достоверности срезали кочки травы. Из-за этих кочек мой выход очаровательной пастушки чуть не провалился – я споткнулась и упала. Но в общем спектакль имел большой успех, и нам предложили постоянно участвовать в концертах.
Второй спектакль был тоже в стихах. Там действовала спящая царевна, которую должен был разбудить один из трех женихов – француз, немец или русский. Француз пел сладкие песенки, но не разбудил принцессу. Немец читал стихи, стучал кулаками по кровати – это тоже не дало никаких результатов. Видя это, русский царевич совсем растерялся и попросил своего слугу Ивана заменить его. Иван, не будь дураком, напевая также какую-то песенку, соломинкой пощекотал у принцессы в носу. И, чихнув, принцесса проснулась. В восторге король подводит царевича к принцессе и представляет ей будущего супруга, но принцесса, напомнив, что король обещал ее руку тому, кто ее разбудит, бросается в объятия слуги Ивана. Пьеса имела настоящий успех.
Отец выступал в Петрограде в качестве лектора первой школы журналистов. По словам газеты «Петроградский голос» от 16 апреля 1918 года, «это было наглядное демонстрирование того, как художник слова творит на заданную тему прекрасный бытовой очерк не пером, а словами».
Отец также участвовал в любительской постановке «Дяди Вани» в Гатчине в роли доктора Астрова.
_____
В то время у меня был дружок. Красивый и строгий мальчик Леля, старше меня года на три-четыре. Он относился ко мне ласково и благосклонно, а я боготворила его и даже слушалась. Играли мы в благородные игры. Дрались на дуэли ради прекрасных дам, нарисованных на песке, разыгрывали целые рыцарские романы, где замком служил куст сирени.
Весной 1918 года мы как-то шли втроем с папой по Люцевской улице в Гатчине. Леля робко попросил отца написать ему на память в альбом какое-нибудь стихотворение. Александр Иванович спросил, на какую тему? Может, о животных? О весне? и тут же начал: «На углу, задравши ножку, кобелек стоит…» Леля сконфузился, а я возмутилась. Тогда папа обещал подумать дома. На следующий день он исполнил свое слово и вписал в альбом примерно такое стихотворение:
Набухли почки на кустах,
В деревьях бродит сок,
А у меня на сердце страх,
Забыл внести налог,
и т. д.
В общем, весна и неприятности в нескольких четверостишиях.
Через несколько дней какой-то журналист пристал к Куприну с просьбой дать что-нибудь для его газеты. Отец взял и дал ему черновик этого стихотворения, забыв посвятить его мальчику Леле. Узнав об этом, я устроила настоящий скандал. Мне показалось, что отец отнял у моего кумира подаренное. Я перестала разговаривать с отцом, а он всегда очень расстраивался нашими ссорами. Он пошел извиняться перед Лелей, попросил его помирить нас и в компенсацию подарил свою книгу с надписью:
«Леле Шассу – Саша Куприн».
Леонид Шасс – военный врач – напомнил мне этот эпизод. Альбом и книга не сохранились.
В июне 1918 года отец, совершенно не учитывая сложной политической обстановки, выступил в газете «Молва» со статьей под названием «Михаил Александрович» в защиту великого князя Михаила. Лично отец никогда с ним не был знаком, но многое о нем слышал. Брасова, морганатическая жена Михаила, жила в Гатчине. Этот брак вызвал скандал в свое время во дворце и лишил Михаила права на престол. Романтическая любовь и рассказы о простоте и непритязательности великого князя вызвали известную симпатию Куприна.
В своей статье он пишет:
«Почти все Романовы были мстительны, эгоисты, властолюбивы, неблагодарны, двуличны, жестоки, трусливы, вероломны и поразительно скупы. В Михаиле Александровиче нет ни одной из этих наследственных черт».
От себя редакция «Молвы» прибавила к статье: «Помещая эту статью А. И. Куприна, редакция оставляет ее на ответственности высокоталантливого автора».
Иногда гатчинские знакомые собирались у нас поиграть в преферанс. Так было и в тот вечер, когда раздался звонок и пришли арестовать моего отца. Обыск продолжался долго, я уже спала, когда в детскую заглянули чужие лица, а за ними бледная, но восхитительно спокойная мама. Партнеров в преферанс отпустили с миром. Отец с юмором вспоминал, что «по торопливости ни один из них не попрощался с хозяевами» и что «большевики оказались людьми гораздо более светскими».
Утром, когда я проснулась, в доме не было ни мамы, ни папы. Я осталась на попечении Катерины, нашей бывшей кухарки, и Герцога Альбы, черного пуделя. В течение трех дней мама иногда появлялась, успокаивала меня и снова летела в Питер.
Газета «Наш век» 2 июля 1918 года писала:
«По постановлению следственной комиссии при революционном трибунале в ночь на первое июля в Гатчине у себя на даче был арестован А. И. Куприн. Приводим текст постановления следственной комиссии об его аресте:
Следственная комиссия, рассмотрев фельетон А. И. Куприна, помещенный в № 15 газеты „Молва“ от 22 июня 1918 г., и принимая во внимание:
1) что бывший великий князь Михаил Александрович с самого начала Российской революции выдвигался монархическими партиями, как кандидат на престол взамен свергнутого Николая II и т. д.;
2) что означенный фельетон, являющийся публичным восхвалением личности Михаила Александровича, носит характер явной тенденции и т. д. и подготовляет почву для восстановления в России монархии, в лице бывшего великого князя Михаила Александровича,
3) что при таких обстоятельствах фельетон А. И. Куприна является прямым вызовом революционной демократии и актом контрреволюции. Следственная комиссия постановила привлечь А. И. Куприна к уголовной ответственности за помещение в газете „Молва“ фельетона контрреволюционного направления. Мерой пресечения для него избрать заключение под стражу.
Распоряжение об аресте А. И. Куприна было передано Гатчинскому совдепу. Около 12 часов ночи несколько членов этого Совета явились на дачу А. И. Куприна, произвели здесь тщательный обыск, продолжавшийся свыше 3 часов, и затем арестовали писателя.
По окончании обыска, уже на рассвете, А. И. Куприн был доставлен в Гатчинский совдеп, в помещении которого он провел остаток ночи. Утром к нему пришла жена, которая ему принесла чай и пищу. Затем А. И. Куприна усадили в мотор и увезли в Петроград в помещение революционного трибунала. Здесь арестованный оставался весь день 1 июля. Днем его тут снова посетила жена. Комендант Революционного трибунала передал жене писателя, которой личного свидания с арестованным писателем не разрешили, чтобы она доставила мужу подушку и одеяло. По словам жены А. И. Куприна, во время обыска и затем в Гатчинском совдепе обращение с ее мужем было самое корректное.
Из здания революционного трибунала А. И. Куприн будет переведен в одиночную выборгскую тюрьму „Крест“.»
За этими сухими строками я вижу мою маленькую маму, следующую с тревогой в сердце за отцом по всем этапам и готовую на все. Она стояла в толпе часами, чтобы мельком ободрить отца улыбкой, когда его перевозили.
Революционный трибунал, где находился Александр Иванович, был в бывшем дворце великого князя Николая Николаевича. Комендант, в прошлом матрос, на вид довольно суровый, неожиданно стал преданнейшим поклонником Куприна, радостно угождал ему во всех мелочах, чудесно кормил и поил красным вином. Была разрешена встреча с мамой. Она бросилась к отцу со словами: «Ты жив?» Оказывается, когда она звонила, чтобы узнать о судьбе Куприна, комендант пошутил и ответил своей любимой фразой: «Расстрелян к чертовой матери». Мама накинулась на него с упреками, но он радужно улыбался: «Я трошки пошутил, товарищ Куприна».
Позднее, дома, отец много раз задумывался над «сумбурной личностью» своего коменданта и долго не мог понять его, пока не решил, что этот пестрый комендант – просто-напросто крикливая разновидность породы добрых дураков. 4 июля в газете «Вольность» появилась статья «Освобождение Куприна».
«Лично писатель не был знаком с князем Михаилом Александровичем – единственная связь, существовавшая между ним и б. князем, заключалась в том, что детям А. И. Куприна и детям. М. А. преподавала французский язык француженка Барле.
В восстановление монархии в России А. И. Куприн абсолютно не верит и лично является противником всякой власти. Власть одного человека над другим – это духовное нищенство.
Редактор „Вольности“ Амфитеатров».
Арест длился недолго, всего три дня. Отец содержался в прекрасных условиях, комендант и охрана были с ним крайне учтивы, но арест нанес Куприну моральную травму.
Первая статья отца после ареста, опубликованная газетой «Эра» 8 июля 1918 года, называлась «У могилы», – отклик на смерть Володарского.
«Володарский, ведя войну с оппозиционной печатью, выступал ее публичным обвинителем, не ища личных выгод и не имея в виду личных целей. Он весь был во власти горевшей в нем идеи. Он знал, что противник его искуснее в бою и вооружен лучше. Но он твердо верил в то, что на его стороне – огромная и святая правда.
Большевизм, в обнаженной основе своей, представляет бескорыстное, чистое, великое и неизбежное для человечества учение».
В ту пору отец вступил в возникшее в 1918 году первое профессионально-творческое объединение писателей в Петрограде. Оно называлось СДХЛ (Союз деятелей художественной литературы). Союз занимался издательской и культурно-просветительской деятельностью. А. М. Горький мечтал организовать специальное издательство при Союзе, которое осуществило бы издание образцов русской литературы конца XIX века и начала XX. Куприн вошел в состав возглавленной Горьким редакционной коллегии издательства. Он занимался отбором произведений для первых номеров будущего журнала и альманахов, участвовал в обсуждениях их структуры и направления.
Однако Союз просуществовал только до апреля 1919 года. В это же время отец, часто бывавший в Петрограде и видевшийся со многими литераторами, оказывается во власти другой идеи: создать народную газету для крестьян под названием «Земля». План этой газеты был выработан, несомненно, при участии А. М. Горького.
Отец настолько загорелся этой идеей, что собирался перебраться в Москву. В декабре он пишет Николаю Михайловичу Гермашову, художнику-акварелисту, письмо с просьбой позондировать почву у знакомых большевиков и посылает проект газеты «Земля».
В это же время А. М. Горький пишет В. И. Ленину:
«Дорогой Владимир Ильич. Очень прошу Вас принять и выслушать Александра Ивановича Куприна по литературному делу.
Привет. А. Пешков».
По-видимому, ответ был утвердительный, так как отец быстро собрался в Москву вместе с мамой и со мной. Остановились мы у Гермашова, принимавшего также какое-то участие в предполагавшейся газете. Я помню, что квартира была у него огромная, но совсем неотапливаемая. Сам он был похож на красивого цыгана, многословного и хвастливого. Жена у него тоже была очень красивая, но холодная женщина.
25 декабря 1918 года В. И. Ленин принял Куприна и журналиста О. Леонидова.
«В проходе башни Кутафьи, – вспоминает Куприн гораздо позднее, – мы предъявили наши бумаги солдатскому караулу. Здесь нам сказали, что товарищ Ленин живет в комендантском крыле, и указали вход в канцелярию. Надо сказать, нигде нас не обыскивали. Ждали мы недолго, минуты три. Из большой двери, обитой черной рваной клеенкой, показалась барышня – бледнолицая с блекло-голубыми глазами, спросила фамилию и скрылась. Та же клеенчатая дверь слегка приоткрылась, и из нее наполовину высунулся рослый серьезный человек.
– Идите, – сказал он. – В эту дверь, налево.
Просторный кабинет. Три черных кожаных кресла и огромный письменный стол, на котором соблюден чрезвычайный порядок. Из-за стола поднимается Ленин и делает навстречу несколько шагов. Он маленького роста, широкоплеч и сухощав. На нем скромный темно-синий костюм и очень опрятный, но не щегольской белый отложной мягкий воротничок, темный узкий, длинный галстук. И весь он сразу производит впечатление телесной чистоты, свежести.
Зрачки у Ленина точно проколы, сделанные тоненькой иголкой, и из них точно выскакивают синие искры. Он указывает на кресло, просит садиться, спрашивает, в чем дело. Разговор наш очень краток. Я говорю, что мне известно, как ему дорого время, и поэтому не буду утруждать его чтением проспекта будущей газеты: он сам пробежит его на досуге и скажет свое мнение. Но он все-таки наскоро перебрасывает листки рукописи, низко склоняясь к ним головой. Спрашивает, какой я фракции. Никакой, начинаю дело по личному почину. „Так, – говорит он и отодвигает листки. – Я увижусь и переговорю с товарищами…“ Все это занимает минуты три-четыре».
Вернулся отец ободренный, полный надежды и немного испуганный, по его словам, силой, исходящей от великого вождя.
План беспартийной газеты «Земля» был, разумеется, бесконечно наивен. Но Куприн в политике был мечтателем и, как все талантливые мечтатели, имел дар предвидения. Поэтому в его плане, на мой взгляд, есть интересные мысли и полезные пожелания.
Я привожу несколько выдержек.
«Сейчас деревне до зарезу нужны землемер, агроном, садовник, инженер, лесничий, сыровар, маслодел, ветеринар, коннозаводчик, учитель, врач, акушерка, санитар и т. д. Недоверие к этим людям интеллигентных профессий исчезнет только тогда, когда мужик воочию увидит, что делают дело с любовью, знанием и ощутимой пользой. Каждый инженер должен сначала работать, как техник, техник, как простой рабочий. Медик сначала должен отбыть в деревне фельдшерский и кураторский стаж, чтобы вновь возвратиться в деревню знающим врачом. Настоящий агроном умеет пахать, боронить, косить и при случае починить телегу…
…Мы не видим причины, почему бы студентам, даже и изучающим гуманитарные науки, и старшим ученикам средней школы не употреблять свой летний досуг на выполнение тех общественных работ для деревни, которые можно производить только летом, то есть в самую горячую страдную пору, когда все крестьянские руки заняты. Ниже мы указываем на целый ряд подобных работ, оставляя, однако, открытым вопрос о помощи в самих полевых работах. Кстати, здесь напомним, что лучший отдых от труда не праздность, а перемена одного труда на другой…
…В первую голову – забота о лесах. Охранять это истинное народное сокровище, эти естественные резервуары здоровья, эти источники хлебопашества и судоходства надо, не щадя сил и средств.
Берегите лес! Это мы в нашей газете будем так же часто повторять, как в общежитии говорят „здравствуйте“, „прощайте“ и „благодарю“. Уважение к дереву должно быть любовно внедрено в душу деревенского и городского ребенка еще в школе. Нам ничего не известно о результатах т. н. школьных праздников древонасаждения, но в основе их заложена глубокая мысль. Хищническая порубка леса должна преследоваться как одно из наитягчайших преступлений. Лесоустройство и надзор за лесом должны быть усилены. Для этого необходимо значительно увеличить корпус образованных лесничих и их помощников и образовать курсы сведущих лесников и объездчиков.
Приводим еще два экономических вопроса, которым мы будем уделять серьезное внимание… Это – упорядочение рыболовства и охоты. Закон должен не только строго, но даже жестоко наказывать все запрещенные, варварские, опустошительные и несвоевременные способы охоты и лова.
…Газета стремится к поднятию умственного и культурного уровня народных масс на почве их благосостояния.
Одной из первых задач газеты будет художественная литература. Она же нам кажется и наиболее трудной, потому что наш орган будет народный, а не „народничающий“, и потому еще, что мы знаем, как остро различает народ фальсификацию и ненужное от ценного и правдивого, а, главным образом, потому, что впереди нас почти нет опыта такой литературы. Почти все написанное до сих пор о народе или для народа было бесполезно и бездарно. Газета организует во время зимних вакаций поездки артистов по деревням для концертов и спектаклей в народных домах. Опыт концертов в госпиталях и на фронте показал, как благодарна, отзывчива и внимательна народная аудитория к такого рода начинаниям…
…Переход к многопольному хозяйству. Посев кормовых трав и кормовых корнеплодов. Широкое применение искусственных удобрений. Меры к борьбе с засухой. Опытные показательные поля под руководством агрономов-практиков. Высокая семенная культура. Элеваторы. Расширение водных путей сообщения. Каналы. Общественные сельскохозяйственные машины. Случные пункты. Конские заводы. Коневодство степное. Выработать тип сильной неприхотливой лошади – и рабочей и упряжной. Образцовые кузницы. И охранение лошади от дурного обращения.
Выносливый и удойный молочный скот. Образцовые фермы. Племенные общественные быки. Мелкий скот…
…Россия до сих пор – страна грунтовых и проселочных дорог, недоступных в течение трех четвертей года для гужевого проезда, а на короткое время езды являющихся гибелью для лошадей и экипажей. Если в ужасные аракчеевские и николаевские времена рабский, темный и голодный народ мог проводить прекрасные, обсаженные деревьями шоссе, то можно ли сомневаться в том, что свободный, сознательный и сытый – он покроет всю страну сетью шоссейных дорог. Засаждение обочин деревьями – веселое и приятное дело для школьников: их личный труд – залог того, что эти деревья будут щадиться…»
Во время пребывания в Москве я помню очень ярко наше посещение студии Художественного театра. Шла «Двенадцатая ночь» Шекспира. Сцена была разделена на две части занавесом, открывалась то правая, то левая сторона. Очень запомнился артист Колин, игравший Мальволио. Сидели в шубах. Не было ни одного свободного места. Зритель новый, серьезный, тихий.
Время проходило в разговорах и спорах с многочисленными старыми и новыми знакомыми – москвичами у Гермашовых за обеденным столом под низко опущенной керосиновой люстрой.
Наконец, 25 января 1919 года, отец был вызван в Кремль на совещание, посвященное делам газеты. Визит оказался неудачным. В субсидии, необходимой для финансирования газеты, Куприну было отказано; ему было предложено участвовать в еженедельнике «Красный пахарь». Огорченный и недовольный, отец от предложения отказался. Этот день он назвал «самым тяжелым днем своей жизни».








