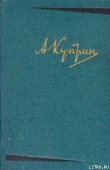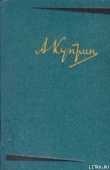Текст книги "Куприн — мой отец"
Автор книги: Ксения Куприна
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Многие из этих людей впоследствии оказались в эмиграции. В начале 20-х годов семья Швецовых открыла на французской Ривьере первобытный уголок – долину La Favier, напоминающую Баты-Лиман.
До первой мировой войны Лазурный берег был в моде только зимой: в феврале в Ницце и Монте-Карло проходил знаменитый карнавал цветов. Еще не было принято жариться на солнце. И только после 20-х годов начали разрастаться курорты Канны, Сан-Рафаэль и другие и совсем вытеснили Ниццу.
От Тулона берег разделен горами Эстерель, по которым вьется дорога со множеством крутых поворотов. Все модные пляжи начинались от Эстереля до Монте-Карло. А от Эстереля до Тулона в середине 20-х годов берега были совсем пустынными. Маленький курорт Лаванду состоял из двух гостиниц, деревушки и многокилометрового пустынного пляжа. С одной стороны после семи километров соснового леса в море врезался мыс Гурон, защищавший маленькую бухту под названием Ла-Фавьер.
Фавьерская долина принадлежала пяти-шести провансальским фермерам, имеющим виноградные и главным образом оливковые плантации. Разбогатев, они стали продавать лишнюю землю по баснословно низкой цене, так как туда не вела ни одна дорога, не было ни канализации, ни электричества, ни лавок, ни вообще какого бы то ни было признака цивилизации.
Людмила Елпатьевская вышла замуж за Н. А. Врангеля (ничего общего не имеющего с «Черным бароном»). Отец Николая Александровича, А. К. Врангель, жил в крымской деревушке Чергун во время севастопольских событий и по просьбе Куприна принял и укрыл матросов с крейсера «Очаков» в 1905 году. Врангели эмигрировали сначала в Болгарию. Оттуда Людмила Сергеевна вела с Александром Ивановичем частую переписку.
Затем Врангели приехали к Швецовым на юг Франции, туда же приехал писатель Г. Д. Гребенщиков. Все были очарованы окружающей природой и решили устроить второй Баты-Лиман. Знакомая фермерша продавала целый холм вместе с заливом и пляжем, цена была что-то по пять франков квадратный метр. Решили купить землю, разделить ее на участки и тянуть жребий среди желающих. Таковых оказалось много, прежде всего «баты-лиманцы» Елпатьевские, художник Билибин с женой, художницей Щекатихиной, Титовы, профессор Метальников, Белокопытов, Гребенщиков, А. Л. Рубинштейн, Милюков, Саша и Маша Черные, Мечников, жена которого была художницей и скульптором, и многие другие.
Куприным было тоже предложено вступить в пай. Мой отец, всегда мечтавший о клочке земли, загорелся. Он пишет Врангель-Елпатьевской:
«Саша и Маша, кажется, отступились от земли, обещали мне передать свой участок. Но – вопрос, натужусь ли я для покупки и своих 600 сажен? Скоро будет общее заседание, где землю поделят, а затем надо будет в 10-дневный срок внести деньги. Кто не внес – из игры вон. Жду ворона, который спустится с неба с кредитными билетами в клюве».
К сожалению, ворон не прилетел, а Саша и Маша Черные все же купили участок с крошечным виноградником.
Белокопытов привез с собой казака П. Г. Мосолова, помогавшего строить домики. Те, у кого были средства, построили дома, напоминающие дачи Баты-Лимана, другие – а их было большинство – строили хибарки. Вид поселка был в общем довольно первобытный.
В 1929 году мои родители сняли там рыбачью хижину, одиноко стоявшую на выдающемся в море утесе. Там Куприн написал серию очерков «Мыс Гурон».
Я в то время только что снялась в первой кинокартине, и со мной подписали договор на год. Успех опьянил меня, и я разыгрывала из себя кинозвезду, отягощенную славой. Конечно, жить в хибарке без удобств я категорически отказалась и поселилась в Лаванду, в скромной гостинице. Я часто посещала родителей в их хижине, по местному называемой «кабано», легко проходя шесть километров сосновым, звенящим цикадами лесом. В ту пору я еще была в том счастливом возрасте, когда жара и самые палящие лучи солнца нипочем. А иногда я брала напрокат тяжелую широкую лодку и с трудом гребла, преодолевая течение и прибой вокруг мыса Гурон. В своем очерке отец описывает меня как некую барышню Наташу. Молодое поколение русских туземцев Ла-Фавьера я игнорировала. Иногда мои родители приходили ко мне в Лаванду, и мы проводили день на пустынном пляже, барахтаясь в ласковом Средиземном море.
Сын художницы Щекатихиной – Слава Потоцкий рассказывал, что однажды Саша Черный в ярком синем костюме поехал кататься на лодке. Возвращаясь к мысу Гурон, на причале он оступился и упал в воду. Новый синий костюм оказался очень недобротным и весь полинял. Александр Иванович, сидя на лесенке своего «кабано», острил, что Саша Черный стал сначала Белым, а теперь синим. Сашу Черного всегда сопровождал фокстерьер Микки, герой рассказа «Дневник фокстерьера Микки».
Уже километров за двести до Средиземного моря чувствуешь специфический запах – запах мирта, хвои, морского прибоя. Он настолько сильный, настолько терпкий, что раздражал отца, а для меня остался как бы запахом юности.
А такой голубизны, как на Средиземном море, я нигде не видела. Даже самые размалеванные открытки не передают всей яркости красок поистине «Лазурного» края.
От Тулона по берегу шла маленькая железная дорога – какая-то семейная, домашняя. Часто машинисты останавливались на каком-нибудь полустанке, шли выпить с друзьями стаканчик знаменитого «пастиса» или поиграть в «петанк». Эта игра – самое излюбленное занятие провансальцев. В нее играют все и всюду, днем и ночью при свете луны. Играют, разделившись на два лагеря, металлическими шарами величиною с большой апельсин, позолоченными и посеребренными. Вначале кто-нибудь швыряет на неопределенное расстояние маленький деревянный шарик под названием «свинюшка». Игра заключается в ловкости метания шаров. Выигрывают те, чьи шары окажутся ближе к «свинюшке». Все это сопровождается чисто итальянскими жестами и возгласами. А если какой-нибудь пассажир торопится, то ему машинист отвечает с белозубой улыбкой: «Э-э…»
Часто письма, пакеты, посылки выгружались прямо на скамейку, и кто-нибудь оповещал жителей: «Эй, мосье… у вас там на скамейке срочное письмо…»
Интересны быт и нравы островов напротив Лаванду. Остров Дю-Леван был куплен французским обществом нудистов, то есть людьми, проповедующими пользу житья-бытья в полной наготе. На этом острове добропорядочные французские буржуа проводят свои летние каникулы нагишом. И, странное дело, когда попадаешь туда одетым, то не им становится стыдно, не они чувствуют себя неловко, а вы. Натуральная жизнь настолько здесь естественная, что у многих людей приобретается нечто от животной грации, какой-то первобытности. Нравы там не разнузданные, а скорее патриархальные. Шутников и безобразников с этого острова выгоняли.
Другой остров – Поркро. Он целиком принадлежал какой-то очень богатой француженке. Там был маленький рыбачий поселок, две очень комфортабельные гостиницы – и все.
Мне очень понравились коренные жители этого острова. Все они рыбаки. Десять семейств. Покормив детей, взрослые отпускают их на полную свободу уже с трехлетнего возраста. Все здесь живут в очень простых условиях. На острове нет ни магазинов, ни лавочек; единственное, что вы сможете купить, – это пару парусиновых сандалет, открытки и рыболовные снасти на почте.
Очень часто, наловив рыбы, мы причаливали к какому-нибудь берегу, разводили костер и варили знаменитую марсельскую уху под названием «буябес».
Хотя Александр Иванович собирался на будущий год снова в «кабано» на мыс Гурон, но ему так и не пришлось попасть туда.
В 1932 году Саша Черный умер в Ла-Фавьере. Некоторые говорили, что он помогал тушить пожар в крестьянском доме, вследствие чего его сердце не выдержало. Другие утверждали, что он в этот день очень долго работал в своем крошечном винограднике под палящим южным солнцем. Очень может быть, что было и то и другое. Рассказывали, что, когда он скончался, его собака Микки прыгнула к нему на грудь и тоже умерла от разрыва сердца.
Отец был потрясен смертью Саши Черного, но его горе, как всегда, было замкнутым, молчаливым.
Свой некролог Куприн начинает со слов Г. Гейне:
Герольдом моим будет юмор
С смеющейся слезкой в щите.
Дальше он пишет, что однажды в душу и сознание читателей «вошел милый поэт, совсем своеобразный, полный восхищения жизнью, людьми, травами и животными, тот ласковый и скромный рыцарь, в щите которого, заменяя герольда, смеется юмор и сверкает капелька слезы. И дружески интимной, точно родной, стала читателям его простая подпись под прелестными юморесками – „Саша Черный“.»
Глава XXVIII
ПИСЬМА ОТЦА К МОЕЙ МАМЕ
В 1928 году отец почувствовал себя неважно, доктора посоветовали ему поехать полечиться. Кто-то порекомендовал Лансу. Прибыв туда, отец тотчас же пишет маме.
«13 июня 1928 г.
Приехал. Так устал от жары и от пересадок, что спал всего 2 часа. Сегодня был у д-ра Белова. Жена его была добра, что повела меня в самое этаблессеману, в двух шагах от которого я и нанял комнатку с полным пансионом за 27 франков в сутки. Из того отеля, где я вчера вечером остановился, приходилось бы трижды в день спускаться вниз, чтобы купаться и пить воды. A Bourbon находится на высоте 200 метров и весь гористый. Где мне с моими ногами. Здесь были раньше Агафонов и Бернацкий и какой-то „тоже“ русский писатель с длинной бородою и длинной фамилией, которую нельзя запомнить. Я не знаю, как будет дальше. Но дышать мне здесь гораздо легче. Правда, дыхание не доходит до глубины… как в молодости, но все-таки до подложечки, а в Париже его хватало до кадыка в горле.
Здесь воды un peu[14]14
Немножко (фр.).
[Закрыть] содовые, un peu литиевы, un peu асмиевые, un peu солоны, un peu успокаивающие, un peu укрепляющие. Они для тебя! Если ты дашь мне слово, что в случае, если я заработаю за этот месяц больше 3000 франков, ты после меня поедешь сюда и это обещание, против обыкновения, исполнишь, то я тебя снова буду любить и уважать.
Здесь 5000 жителей, но улицы полны. Чудесный скот. Много зелени. По ночам очень мелодично звенят лягушки, край богатый. В бельт никто не играет.
Выше того адреса, что на обороте, не забудь написать Alexandre Kouprine, который тебя, Аксинью
целует крепко.
А. К.
Пши».
«Милая Лиза!
Я уже начинаю сомневаться. После первой ванны чувствовал себя еще более расслабленным. Ночью болело сердце, и спал всего два часа.
Сегодня я нарочно велел вместо 34° сделать 30°, вместо 20 минут ванны – 15, вместо 7-ми минут душа – 5. Посмотрю, что будет ночью. Я, конечно, знаю, что все такие грязевые, водяные и прочие не аптекарские лечения сначала расслабляют и изнуряют, но почему Актов не мог ошибиться, а коллега не счел нужным поддержать коллегу? Кого здесь ни спроси – ревматизм, подагра. Некоторых носят на носилках. Иные идут, согнувшись вдвое. А женщины здесь все старые, мордастые, и сразу видно, что у всех их внутренности протухли тридцать лет назад. Одно скажу: воды здесь изумительной силы. Но я же не подагрик. Попробую еще раза два-три и брошу. Черт бы побрал их идиотского валика на постелях. Как живете, мои милые, такие чудесные и привлекательные издали дети? Что нового? Мне ску-у-у-у-чно!
А. К.»
«Я получил посылку, распечатал ее, немного надулся, что при ней не было письма. Потом пошел позавтракать. Так как никак не мог справиться с желтым огромным тугим воротником (новость!), то решил его переменить и тут же нашел твое милое письмо, почему и пишу в день дважды.
Очень прошу тебя, не посылай мне ничего больше или уж заодно пришли один из тех огромных английских чемоданов, которые выше Азанчевского и толще Налбандовой. Я тогда буду всюду передвигаться тихой скоростью. Ты меня просто завалила носильными вещами. Уже сам не знаю, разыграть ли их в лотерею или пожертвовать в местный детский приют.
Удивительно: как всегда, меня трогают и радуют твои письма, когда мы далеко друг от друга. И весь мой дом после них мне представляется каким-то тихим, светлым-светлым, чистым, спокойно-игрушечным, и всюду ландыши, и окна открыты в зеленый сад…
Твой Саша».
«Милая Ма, Ли и Лиза.
Как тебя мне не узнать? Одно письмо тебе написать лень и труд великий. А вот собрать и прислать багаж, годный для отправления экспедиции к Сев. полюсу, это тебя хлебом не корми!
Согласись, что когда твой ручной Мишка о чем-нибудь говорит по первому вдохновению, то так и нужно делать, ибо он решает не своим малым и диким умом, а звериным чутьем. Вот так и с дорогой. Поехал я во II классе, обошлось дороже на 60 фр., да завтрак 33 фр. Вот почти сто. А ехал в ужасающей тесноте и духоте. Буржуи не позволяли открыть окно в купе. Я испекся и задохся. А завтрак был плох, гораздо хуже твоего приготовления котлеток. Ксеньке, как всегда, ты отдала лучшее.
Каждая ванна здесь стоит 10 фр. Да лить воду – 20 фр. За все 21 день. Я уж отдал 70 (5 ванн). Да первая ночь в гостинице мне обошлась в 65 фр., и автомобилем от вокзала (до города верст 15). Да три пересадки (третья из города в курорт) 15 фр., итого 33 + 70 + 65 + 15 = 183 фр., да у меня 170, итого 353. Куда же девались еще 47? Вот куда! См. малую бумажку.
Не находишь ли ты, что патентованным пером я пишу гораздо хуже?
Ну теперь: что я сделал. Переписал последнюю главу Жанеты. На днях вышлю тебе Рыжих, гнедых, серых, вороных. Пожалуй, со стареньким рассказом Миронову кое-как и оправдаю первую неделю.
Мне здесь сидеть, повторяю, стыдно: я один не ревматик, не паралитик, не подагрик. Я уж и то, из сочувствия, стараюсь сгибаться в спине, кривиться набок и хромать. Так, думаю, другим безобидно. Но что поистине мне в пользу – это воздух (240 м). Так как моя очередь лезть в ванну 6 ч. 30 м. утра, то, идя туда-обратно, я с наслаждением дышу очень чистым воздухом, проходя парком. Потом метут улицы, снует мимо меня множество автомобилей. И уже дышу тяжело. По правде-то, мне бы надо было поехать куда-нибудь специально для инфюземы. А лучше было бы достать у Форо скидку с III класса, да дунуть куда-нибудь высоко над Ниццей, а то в С. Соверг. Здесь я долго не заживусь.
Был в городе бродячий цирк. Я не пошел. В курорте есть казино и в нем булль, нечто вроде рулетки, только с 9-ю номерами вместо 36. Я пошел, поставил франк, проиграл и больше не пошел. Вино пью с водою „une guatre“[15]15
«Четвертинку» (фр.).
[Закрыть], хватает мне на завтрак и ужин. Могу без труда обойтись и водою. Не умница ли?
Пиши, пожалуйста, про себя, про Ксенкины горизонты. Да скажи своему Дрдр., что дать приличную форму для передачи тебе права получать деньги.
Напиши о маленьких сплетнях.
Целую М.»
В 1930 году отец отправляется в Bourbon-Ланси на лечение. Ему исполнилось 60 лет. Его письма удивительно нежны к маме, а некоторые еще полны семейного юмора.
«6 августа 1930 г.
Ну, вот, милая Лизочка, я и приехал в этот замечательный городишку. Можешь себе представить: через почти три года. Мне кажется, что ни люди здесь, ни улицы, ни вывески, ни кошки с собаками – ничто, ничто не переменилось ни на йоту. Кажется мне, будто бы Бурбон-Ланси все это время прожил под непроницаемым колпаком, а я чувствую себя гораздо старее, чем прежде, и в этом сознании есть тягучая печаль.
Доехал я благополучно, если не считать одного маленького ротозейства. Доехал до Moulins и, не узнав его, покатился дальше. На станции Hauteville одумался и поехал обратно в Moulins, что мне стоило в 3 классе 3 фр. 50 с. К счастию, следующие поезда с пересадками сошлись хорошо. Комната препаршивая во 2-м этаже (по-нашему), и в ней неистребимый запах клюквенного киселя. Народу много, но не полно. Курвуазье поднят. Шикарный „Гранд-Отель“ полон и заел его. Спасибо за укладку вещей. Сделано идеально. Я насилу-насилу разделал ее. Какую-то рукопись ты забыла положить; теперь не соображу, какую именно, но – все равно. Распорядилась ли ты о русской газете мне? Начну с „темы“.
Целую тебя крепко. Дочери послал. Пиши побольше новостей.
Твой А. Куприн».
«Лиза!
В понедельник пришел Фактёр. Такой же толстый и румяный, как мой, и так же от него пахло вином, и такой же веселый. У меня осталось ровно-ровно полтора франка, я их ему и отдам. Теперь буду еще экономнее. Ну уж за что спасибо, то это за „Сегодня“. Что за удивительная и как мало исследованная вещь – память тела! Мы с Ксеном, как наивернейшее средство от запора, полагали в чтении „Сегодня“. Удивительно мягко и нежно действует в ватерклозете. Я теперь об этом позабыл, но при виде одном волшебной газеты сразу повлекло в W: это после 5-ти дней воздержания. Чудо.
Я, пожалуй, здесь прижился. Но какая пытка мне, болтуну, молчать уже целую неделю абсолютно. Чувствую, что ржавеют какие-то горловые связки.
Но и рожи же здесь сидят за табль-д’отом: толстые, седые, злющие, бугристые. Скажи, что значит слово La potiniere[16]16
Место, где сплетничают.
[Закрыть]. У нас есть здесь такой дансинг. Я еще не был там, а в булль никто не ходит играть. Я тоже.
Пишу тебе на подоконнике. Как видишь, довольно разборчиво. Это, оказывается, мне сначала по отвычке не давалось слово, а я валил на Ерему – на плохой стол. Что же нет никаких новостей? Или мы уж так, должно быть, стары, что нас быстро все забывают?
Целую, моя дорогая, с нежностью и благодарностью.
Твой сердцем и всеми конечностями Алекс.».
«Сам не знаю, почему я так часто и нежно думаю о тебе. И во всех моих мыслях одно: нет лучше тебя ни зверя, ни птицы и никакого человека. Какими прелестными кажутся мне теперь и твое лицо, и твой голос! Нет, это не то, что „далекое“ мило. Это от абсолютного и важного молчания. Ты думаешь: „хитрит мой Афанасий, подделывается“. Право же не так. Покажу тебе рекорд бережливости, буду тратить на себя всего 5 фр. в день. Да и куда девать? Игры нету, даже в белот, даже в 66, даже в пикет. В кино я не высижу более 10 минут, да ведь кино наш с тобою семейный враг. Рассказ „Свет царства“ скоро пошлю тебе, а там начну отделывать Жанетку, поцелуй экстр-боба. Да еще странно: совсем позабыл о существовании Ю-ю. Впрочем, он стал теперь такой тупой и такой старый эгоист, что вряд ли почувствует мой ему поклон. Обнимаю тебя и целую осторожно в кончик носа и за ушком.
Твой Александр Идиотов».
С 1932 года почерк отца резко меняется, он начинает плохо видеть, иногда теряет чувство ориентации. Чтобы отдохнуть, он едет в городок Provins, не очень далеко от Парижа, куда мама его провожает. Но ему уже трудно жить одному, мама ему необходима каждую минуту, каждую секунду.
«Лиза (единственная).
Бумага у меня почти вышла. Пишу очень много. Оказывается, что для большой работы Карне[17]17
Карне – блокнот.
[Закрыть] не годится. Я свое окончательно растянул и исписал. Осталось три листочка. Никак не могу сообразить, куда у меня девалась рубашка-панама. Сплю прескверно. Никак не справляюсь с этими проклятыми перами и поминутно просыпаюсь.
Никак не найду ни стола, ни шкафчика, ни электрической кнопки, ни горшка, ни края постели. Кормят хорошо, но постоянно мясо. Жара чертова, и на улице и на дворе очень много свистают (отец органически не переносил свиста; я полностью унаследовала эту черту. – К. К.).
Приедешь ли ты ко мне?
Завтра вторник. Цирк, но без тебя я дорогу к нему не найду. Раз пробовал в народную библиотеку, что в одном месте с народным садом, и каждый раз вместо нее попадаю на вокзал или в Венецию. Что Ксенака? Здорова ли ты? Посплетничай мне что-нибудь о знакомых. Сейчас иду купить конверт и марку. Твоя дама из Bureau de Tabac[18]18
Лавка, где продают табак, табачные принадлежности, а также и марки.
[Закрыть], правда, головастая и расторопная женщина.
Ваш Александр.
Что Каску?[19]19
Каску – наша кошка; по-французски Каску значит сорвиголова.
[Закрыть] Поняла ли она о нашем отсутствии и обрадовалась ли тебе?»
«Теперь я тебе по чести скажу, Лиза. Больше вытерпеть я уже не могу. Я много сделал успехов, а сам мою и сушу мой платок, вскоре перейду к подштанникам. В довершение к прежним кипам я надрал уже 30 страниц главы „Травля“ (повести „Юнкера“. – К. К.). Живу тихо, смирно, трудолюбиво и замкнуто. Но извелся. Шумы? Черт с ними, шумами. Сегодня воскресенье, и они потише. Но какой-то депутат вот уже четвертый час читает над моим ухом политическую речь. Читает глухим голосом Волкенштейна, и сердце у меня корчится от омерзения.
Но самое ужасное – ночи. Досидеть до 12-ти совсем невозможно. Нечего делать. А рано ляжешь – сон испорчен. Боже мой, как я бился, как страдал, как отчаивался в эту проклятую ночь. Часами не мог найти ни кнопки, ни фонаря. Горшок уехал куда-то. Сплюнуть некуда. Черт возьми. Сел на эту высокую короткую идиотскую французскую национальную постель и решился ждать рассвета. Все думал, вот я голый, больной, всеми брошенный и оставленный, даже мамой, которая уехала бог знает куда и обо мне забыла. Ей-богу, клянусь тебе, эти долгие часы не лучше часов приговоренного к смерти. Умоляю! Увези меня отсюда. Кричу диким голосом! Я уже здорово настрекался на работу, продолжать, вернее, кончать буду на курьерских. Спаси!!!
Александр.
P.S;
Сойти с ума. На кровати, и где же у них, сукиных сынов, культура?»
В то время отец работал над романом «Юнкера»; с 1928 года роман печатался отдельными главами в газете «Возрождение». «Юнкера» были задуманы как продолжение повести «На переломе (Кадеты)». Никаких рукописей, ни заметок с собой отец за границу не взял, поэтому ему пришлось начинать все сначала.