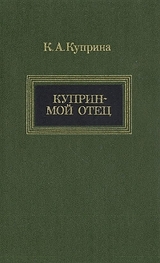
Текст книги "Куприн — мой отец"
Автор книги: Ксения Куприна
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
Глава IX
КАВКАЗ
В 1916 году мне особенно ярко запомнилась наша не совсем удачная поездка на Кавказ.
В середине августа приехал импресарио Федор Евсеевич Долидзе, энергичный человек с интересной биографией. В юности он работал помощником паровозного машиниста в тифлисском депо. Он не только сам жаждал учиться, но и организовывал для рабочих научные лекции. Так началась его просветительская деятельность. По инициативе Федора Евсеевича в 1908 году было создано Народное музыкальное товарищество и проводилось много спектаклей и концертов для широких масс. С 1911 года Долидзе обосновался в Петербурге как антрепренер. По роду своей работы он был знаком и дружил со многими знаменитостями. Встречался неоднократно и с Александром Ивановичем, который часто говорил ему о своем желании посетить Грузию. Помня об этом, Долидзе приехал в Гатчину, чтобы предложить отцу прочесть на Кавказе несколько лекций. Александр Иванович не любил выступать, долго отказывался, но соблазн посетить пушкинские места взял верх. Решили ехать всей семьей. Собираться пришлось быстро, и в доме стояла кутерьма. Взяли много вещей, но самым «тяжелым» багажом оказалась моя гувернантка, француженка мадемуазель Барле. Это была женщина лет тридцати пяти, очень некрасивая, с черными живыми глазами и в ужасно уродливом темно-коричневом парике.
В дороге случился комический инцидент с мадемуазель Барле. Она много слышала о тульских пряниках и решила выйти в Туле, чтобы их купить, но замешкалась. Поезд тронулся, и мы не сразу заметили ее отсутствие; потом стали бегать по всем вагонам и спрашивать: «Не видал ли кто дамы в клетчатом костюме с красным шарфом на голове?» Убедившись, что ее нет в поезде, мои родители выслали ей с ближайшей станции деньги, документы и билет. Она вскоре нагнала нас, невероятно шумная, возбужденная. Оказывается, м-ль Барле металась по тульскому вокзалу в полной панике и что-то лепетала про monsieur Kouprine, le célèbre écrivain[2]2
М-сье Куприна, знаменитого писателя (фр.).
[Закрыть], но ее никто не понимал.
Перед лекциями отец решил отдохнуть неделю в Кисловодске. Там мы встретили Мамонта Дальского, приехавшего на гастроли драматического актера, гремевшего в то время в России. Он мне показался ослепительным, и я запомнила его на всю жизнь: холеный, нарядный, перстни, брелоки, палка с золотым набалдашником, панама, бритое актерское лицо, обволакивающий голос… Любовь к Пушкину очень сблизила Дальского с отцом. Они решили провести совместно несколько вечеров, посвященных великому поэту. Отдых не удался, ибо пришлось кочевать между Кисловодском, Пятигорском и Ессентуками.
Первый вечер состоялся в Пятигорске в курзале. Отец прочитал лекцию о драмах Пушкина. Он закончил ее выражением своей глубокой веры в то, что народ, который имеет великого Пушкина и который со временем весь заговорит на великолепном пушкинском языке, даст еще миру много ценного в области искусства.
После лекции Мамонт Дальский исполнил монологи из «Скупого рыцаря» и «Бориса Годунова».
До сих пор помню силу поразительного перевоплощения Мамонта Дальского. Из холеного, упитанного, самоуверенного он делался то жалким, тощим стариком, то величавым царем.
Я присутствовала почти на всех вечерах. У меня с папой была такая игра: потихоньку от всех, закрываясь ладошкой, мы показывали друг другу кончик языка. И, сидя в ложе на авансцене, когда папа косился на нас, я показывала ему язык, радуясь своему преимуществу. Но в нем всегда жил озорной мальчишка, и однажды, кланяясь публике и делая вид, что поглаживает усы, он умудрился ответить мне тем же.
Мамонт Дальский и Куприн пользовались громадным успехом. Первый не разочаровывал скучающих курортников своей наружностью – таким и должен был быть знаменитый актер; про отца же, одевавшегося весьма небрежно, в чем была доля кокетства, местная поэтесса Зоя Мерцалова напечатала стишки в газете «Кавказский край», высмеивающие мещанскую психологию обывателей:
КУПРИН НА ГРУППАХ
(Подслушанный разговор)
Светит солнце ярко,
Блекнет цвет куртин.
По аллее парка
Шествует Куприн.
Вздулось, словно парус,
Серое пальто.
В небе тучек ярус,
Уж сентябрь на то…
Глянула Наташа
И толкнула мать:
– Вот Куприн, мамаша!
Вот он самый, глядь! —
Агния Сергевна
Видит Куприна.
«Ишь ты! – задушевно
Говорит она.—
Чу́дно пишет, чу́дно,
Прямо Аполлон,
Только верить трудно,
Будто это он».
– Он! Поверьте, мама, —
Уверяет дочь.
Но «маман» упряма
И съязвить не прочь:
«Ой ли? Что за диво?
Внешность не по мне.
Всяк писатель с гривой,
На носу пенсне.
Нос утрет Парижу
Русский беллетрист!
А Куприн, я вижу,
Вовсе неказист:
Нет манер маркиза,
Не видать волос,
Вроде он киргиза
Где-то в степи рос».
И мамаша строже
Глянула на дочь:
«Выдумала тоже!
Ты мне не морочь…»
Шел в то время с шиком
Парикмахер Жан.
И в восторге диком
Вскрикнула «маман»:
«Что за шевелюра!
Это шик один!
Глянь, Наталья-дура,
Вот тебе Куприн!»
Помню, как моего отца одолевали фотографы. Не умея отказывать людям, он часто попадал впросак. Однажды проезжий куплетист Петр Карамазов попросил у него разрешения сфотографироваться с ним. Через несколько дней появились «кровавые» афиши, на которых был помещен снимок с надписью: «Петр Карамазов – друг А. И. Куприна». Это дало Петру Карамазову полный сбор. Конечно, после первого же выступления, показавшего бездарность Карамазова, ему пришлось покинуть Пятигорск.
В Ново-Кавказской гостинице в Ессентуках, где мы остановились, без конца толпился народ.
Лекции Куприна назывались по разному: «Этапы развития русской литературы с 1812 года до наших дней»; «Этапы русской литературы от Пушкина до Чехова, от Чехова до наших дней». Потом Александр Иванович решил, что тема слишком обширная, и сократил ее: «От Чехова до наших дней». А впоследствии просто: «Судьба русской литературы».
Как правило, отец всегда навещал наборщиков местных типографий и, зная их скудные заработки, старался им помочь. Он не знал счета деньгам и никогда о них не думал. К счастью, главной семейной кассой всегда заведовала мать. Это продолжалось и в Париже, когда наше материальное положение бывало серьезным и даже трагичным. Маме волей-неволей приходилось брать на себя практическую сторону жизни, хотя это совсем было не по ее характеру.
21 сентября 1916 года мы должны были выехать во Владикавказ, а потом в Тифлис, по Военно-Грузинской дороге, что в то время было небезопасно. Знакомые дамы укоризненно качали головами в громадных шляпах, зловеще скрипели корсетами и старались запугать мою маму. Больше всего их возмущало, что берут с собой ребенка. Но мама, всегда дрожавшая за нас, ничего не боялась, когда ее «дети» (отец и я) были с нею. Надо сказать, что из-за своего неистощимого любопытства отец часто подвергал себя всевозможным опасностям.
Несмотря на все рассказы о нападениях разбойников, обвалах, наши планы не переменились – только в Гатчину был отправлен лишний багаж вместе с мадемуазель Барле.
Много лет спустя мы встретили эту милую женщину в Париже. Она вышла замуж, часто приглашала нас обедать и помогала нам в трудные минуты чем могла.
24 сентября Куприн выступал с лекцией во владикавказском городском театре. Зал был переполнен. При появлении отца на сцене раздался гром аплодисментов. Аплодировал и сам губернатор с семьей, находившийся в своей ложе.
Большую часть сбора решили внести в пользу раненых и инвалидов войны.
На другой день чуть свет мы вместе с Федором Евсеевичем Долидзе покинули Владикавказ и направились в Тифлис по Военно-Грузинской дороге.
Ехали мы очень медленно, в открытой коляске. Отец всю дорогу читал стихи Пушкина и Лермонтова, он знал многие наизусть.
Было невыносимо жарко.
Горы становились все выше и заметно приближались. Дарьяльское ущелье. Мы ползли между небом и землею, сверху нависли голые скалы, а глубоко внизу пенился стремительный Терек. Среди этой дикой природы было странно увидеть серые развалины одинокого дома на берегу реки. Мне сказали, что это замок царицы Тамары.
Начало смеркаться, и спустился сильный туман. По мере того как мы взбирались в гору, становилось все холоднее. Еды с собой не взяли – не предусмотрели. Дорога была узкая и скользкая, и казалось, что копыта лошадей скользят по краю дороги и вот-вот сорвутся. Туман сгущался. Вдруг наверху появился горец на коне. Он минутку постоял, презрительно поглядел на нас и ускакал. Сразу вспомнились рассказы о нападениях разбойников… Все молчали, мама судорожно прижимала меня к себе.
Долго и медленно поднимались мы в гору. Становилось темнее. Наконец заметили огоньки на верху Крестовского перевала. Там, в низком каменном здании, расположился военный караул. Но, когда мы добрались туда, нас не хотели пустить переночевать и довольно грубо сказали, что это не гостиница. Как Долидзе ни убеждал караульных, говоря, что нам невозможно спускаться ночью в тумане, что это опасно, что среди нас есть ребенок, что мы голодны, – ничего не помогло. Наконец, зевая и почесываясь, вышел начальник караула узнать, в чем дело. Ему сказали, что писатель Куприн просится на ночлег, и тут свершилось чудо.
– Тот самый Куприн, который написал «Поединок»? Что же вы раньше молчали?
И нам оказали самый радушный прием. Каждый солдат старался сделать нам что-нибудь приятное. У меня появились бородатые няньки. Принесли кто что мог: живую форель, вино, свои лучшие одеяла, подушки… Меня положили спать на столе. Остальные разместились на лавках.
Известность Куприна дошла каким-то образом до этого затерянного уголка, до полуграмотных и даже неграмотных солдат. До сих пор меня поражает и волнует популярность отца среди простых людей.
На другое утро нас провожали, как самых близких друзей.
Позднее отец писал своей сестре Софье Ивановне Можаровой:
«Ксения оказалась прекрасным дорожным товарищем в нашей поездке на Кавказ, поездке утомительной… впроголодь, без ночлегов, днем в страшном пекле, вечером однажды на вершине хребта в тумане».
В Пассанаури нас также ждала неприятность: хотя начальник владикавказского транспорта, узнав, что едет писатель Куприн, сделал распоряжение, чтобы нам дали лучших лошадей, их не оказалось, и нам пришлось там ночевать.
На другой день, 27 сентября, мы благополучно прибыли в Тифлис и остановились у композитора Генсиорского, тестя Ф. Е. Долидзе.
В Тифлисе гастролировал любимый друг Александра Ивановича – Иван Заикин, а также Поддубный и другие борцы. Отец очень радовался предстоящим встречам.
В первый же вечер по приезде мы отправились в цирк. Как и всегда, узнав Куприна, один из циркачей известил публику о нашем присутствии, и нас приветствовали громкими аплодисментами. Отца сейчас же пригласили в почетное жюри. Должен был выступать Заикин, который буквально раздавил своего противника Броненосцева.
На другой день состоялся грандиозный банкет.
Любовь к цирку прошла через всю жизнь моего отца. Борец Заикин долгие годы был одним из самых близких его друзей. Великан, похожий на добродушного слона, в квартирах он всегда чувствовал себя неловко, боясь что-либо опрокинуть или сломать. Но его жесты отличались чисто цирковой ловкостью. Он весьма осмотрительно садился на хлипкие стульчики на тонких ножках или брал в свои громадные руки хрупкую фарфоровую чашку. Даже походка его была легкой и осторожной – он как бы боялся раздавить случайно что-либо живое.
В Тифлисе был такой случай: отец, Заикин и Долидзе проходили по какому-то проспекту и увидели огромное скопление народа. Из толпы доносились шум и крики. Это была бурная уличная драка. Заинтересовавшись, отец стал пробираться в гущу толпы, но Заикин, как всегда оберегая Александра Ивановича, буквально вытащил его оттуда и увел. Долидзе с удивлением спросил у Заикина:
– Неужели вы, сильнейший борец и чемпион мира, боитесь какой-то драки?
– Я силен на ковре во время борьбы, – ответил Заикин, – а тут всякий мальчишка может пырнуть ножом, и твоя сила останется ни при чем.
Почти каждый свободный от лекций вечер отец проводил в цирке.
В семье Генсиорского было несколько дочерей, и дом был полон молодого веселья. Отец много времени проводил там. Девушки наперебой старались угодить ему – готовили любимые грузинские блюда и всячески баловали его. Сюда же приходили молодые, начинающие писатели. Отец всегда внимательно к ним относился и помогал кому советами, кому материально чем мог.
Писательниц же он недолюбливал; почему-то совсем не верил, что женщины могут писать, и называл их творчество «женским рукодельем». Иногда он не выдерживал натиска молодых «гениев», и чтение рукописей доводило его до исступления. Тогда он умолял домашних сказать, что он умер, сломал ногу или лежит в горячке. Софья Евсеевна Долидзе вспоминает, как Куприн мгновенно повязался салфеткой, увидев молодого человека с подозрительным свертком в руке, ворвавшегося во время обеда. «Я болен, – жалобно сказал он, – очень болен…» Но на следующий день он снова радушно и терпеливо принимал всех.
1 октября в зале тифлисского музыкального училища состоялась лекция на тему: «Этапы развития русской литературы». Куприна горячо приветствовали. После долгой паузы он наконец начал:
– Собственно говоря, никакой лекции вы от меня не ждите. Это не моя специальность.
В зале произошло смятение. Послышались возгласы: «Как? А на афише…», «А судьба русской литературы?»
Александр Иванович тяжело вздохнул:
– Вот вам и судьба русской литературы. Ну, ничего… Я вам все же кое-что расскажу… Свои воспоминания о Льве Толстом, о Чехове, о Горьком.
И Куприн начал рассказывать.
После перерыва на эстраду внесли огромную корзину цветов от участников циркового чемпионата. Подношения и подарки борцов всегда как бы соответствовали их «великанским» масштабам. Как-то Поддубный и Илларион, гастролировавшие в Царицыне, послали отцу в Гатчину маленький подарок – три пуда зернистой икры. Весь город ел ее ложками, досталось и большим друзьям отца – гатчинским извозчикам.
Вторая лекция состоялась 2 октября; ее предусмотрительно назвали «беседой». Александр Иванович стал говорить о футуристах, подвергавшихся в то время яростным нападкам критики. Отец выразил свое несогласие с огульным разносом футуризма. Он сказал, что среди них есть настоящие таланты, например Маяковский и Каменский.
Заканчивая лекцию, отец по требованию слушателей сказал несколько слов и о себе:
– На Куприне по многим причинам не могу долго останавливаться. Скажу только, что отсутствие общего образования и систематической работы над собой составляют недостатки этого писателя. Но в своей бурной молодости он видел многое, побывал везде… и потому его произведения представляют справочник российского бродяжничества…
После лекции Александр Иванович прочел с большой выразительностью рассказ «Как я был актером».
Отзывы тифлисских газет о выступлениях отца были весьма разноречивы. Наряду с благожелательными рецензиями были и «разносные».
Закончив лекционные выступления, отец решил некоторое время пожить в Тифлисе, чтобы основательнее познакомиться с городом. Он жадно впитывал колорит людей и природы, запахи маленьких духанов и лавочек, торговавших сафьяном.
Помню, как смешно и живо рассказывал он о тифлисских банях. Как видно, с пушкинских времен они совсем не переменились. На отца вдруг наскочил голый, худой, проворный старик, стал его мять коленками, топтать, бить, танцевать на нем, ни на минуту не прекращая, несмотря на все мольбы. Старик не понимал по-русски или решил не понимать. Сначала было больно и очень неприятно, но, выйдя из бани, отец почувствовал себя так легко, что много раз потом возвращался к своему мучителю.
В Тифлисе у Куприна были интересные встречи с грузинскими писателями и поэтами.
Павлина Павловна, жена Заикина, рассказала мне о своем пребывании в Тифлисе в 1916 году:
«После Ташкента мы попали в Тбилиси, где встретились с Александром Ивановичем. Остановились вблизи цирка у пожилого немца-столяра, недалеко от реки Куры. Там было прохладно и хозяева очень были милыми. Жилье затейливое, полуподвал во дворе, в который можно было попасть, поднявшись на семь-восемь ступенек; пройти площадку и спуститься на семь-восемь ступенек. Ступеньки были широкие и длинные, заменяли нам диваны и стулья, а на площадке стояли наши кровати и скамейки с примусом. Иван Заикин был большим хлебосолом и, несмотря на неудобства, приглашал обедать, а после представления в цирке – ужинать и пить чай всех борцов и других знакомых. Иногда на каждой ступеньке сидело по четыре-пять человек в ряд, держа на коленях тарелки. Александр Иванович часто приходил и включался в цирковые разговоры.
Было очень весело. Казалось, что мы сидим где-то на пристани и ждем парохода. А Александр Иванович возьмет записную книжку и все считает, сколько раз я поднимаюсь и спускаюсь по ступенькам».
В Тифлисе мы пробыли две недели.
10 октября нужно было уезжать в Баку, где была уже объявлена очередная лекция.
Семья Долидзе устроила в честь отца торжественный обед. Было много приглашенных, произносились тосты, исполнялись грузинские песни. Замечательно играл на цитре Генсиорский. Отец экспромтом написал стихи Софье Евсеевне Долидзе:
Ты недоступна и горда,
Тебе любви моей не надо.
Зачем же говорят мне «Да!»
И яркость губ, и томность взгляда.
Но ты замедлила ответ,
Еще минута колебанья…
И упоительное «Нет!»
Потонет в пламени лобзанья.
Генсиорский обещал положить эти стихи на музыку.
На другой день мы покинули гостеприимную семью Долидзе.
Федор Евсеевич задержался в Тифлисе, и нас сопровождал до Баку его племянник, композитор Виктор Долидзе, будущий автор оперетты «Кэто и Котэ».
В Баку мы приехали утром 11 октября, а на следующий день в зале Общественного собрания Александр Иванович прочел лекцию на тему: «От Чехова до наших дней». Большое внимание он уделил молодым писателям-реалистам – К. Треневу, Н. Никандрову, горячо одобряя в их творчестве интерес к быту далеких окраин России. Он сказал, что наша страна представляет собой безграничное поле для зорких и пытливых наблюдателей.
13 октября мы отправились поездом в Армавир. Там нас встретил старый знакомый отца, журналист и писатель, большевик Михаил Федорович Доронович. Он издавал и редактировал газету «Отклики Кавказа». Направление газеты было радикальное, и она постоянно подвергалась штрафам и судебным преследованиям.
М. Ф. Доронович радушно пригласил нас остановиться у себя дома. Его дети были моими сверстниками.
Последняя лекция состоялась в театре «Марс» 15 октября. Куприн почувствовал, что не может больше осилить это «ремесло». Он повторял, что лектор он – никакой, хуже любого сельского попа. По договору предстояли еще лекции в Таганроге, Харькове, Ростове и Киеве. Пришлось оповестить все города об отмене лекций по причине серьезной болезни Куприна.
В Армавире мы остались еще на несколько дней, так как отец узнал о скором приезде туда на гастроли знаменитого дрессировщика Анатолия Дурова. Их знакомство началось еще со Вдовьего дома в Москве, где проживали мать отца Любовь Алексеевна Куприна и бабушка Анатолия Дурова, Прасковья Семеновна Соболева. Саша Куприн, как известно, жил там с четырех до шести лет, а потом часто навещал свою мать. А маленького Анатолия отправляли к бабушке на несколько дней в виде наказания. Он был старше Куприна и показывал маленькому Саше разные сальто, – уже тогда он твердо решил стать цирковым артистом.
Вскоре пришлось уезжать. На этот раз нас сопровождал М. Ф. Доронович.
После яркого кавказского солнца мы застали в Гатчине хмурую, гнилую осень. Но наш маленький домашний мирок, зеленый домик и его обитатели встретили нас радушно.
Глава X
ЩЕРБОВ
Павел Егорович Щербов был одним из ближайших друзей отца. Его оригинальная фигура прошла через все мое детство. Точно не знаю, когда отец с ним познакомился, думаю, что приблизительно в 1905 году в Гатчине, где он гостил у писателя и драматурга В. А. Тихонова. Блестящий, едкий карикатурист П. Е. Щербов, откликавшийся на основные события своей эпохи, ныне, к сожалению, забыт.
Павел Егорович Щербов родился 3 июня 1866 года, получил первоначальное образование в частной классической гимназии Видемана. В 1886 году он поступил в Академию художеств. Пробыв там три года, Щербов вышел из академии, не удовлетворенный рутинной постановкой дела, и продолжал учиться и работать самостоятельно. Он организовал у себя на квартире кружок художников под названием «Ревущий стан». Веселая, свободная жизнь молодых художников вскоре возбудила подозрение полицейских властей. За «Ревущим станом» установили особое наблюдение. Там бывали и официально прописанные жильцы квартиры, члены академии и нелегальные гости, часто остававшиеся ночевать. Журналист А. А. Чикин, друг и собрат Щербова, так вспоминает этот период:
«У себя на квартире он (Щербов) устроил нечто вроде вечерних классов. Куплена была большая, какую можно было достать тогда, керосиновая лампа и подвешена к потолку зала, и вот ежедневно после занятий в академии собирались у этой лампы, и один кто-нибудь из нас служил натурщиком, а остальные рисовали с него. Работали усердно часов до двенадцати ночи, а потом устраивались в складчину знаменитые вареники или пельмени… Полная непринужденность, бесшабашное буйное веселье, смех, шутки, пение и даже танцы царили в „Ревущем стане“.»
Часто Павел Егорович рисовал карикатуры на приятелей и всяких посетителей, а также на предстоящие события домашнего или общего масштаба. Наверное, так и определилась его дорога: четкий рисунок, способность увидеть сущность каждого человека, его смешные или просто гадкие стороны, показать события в очень оригинальном, порой – трагическом щербовском преломлении.
Вскоре Павлу Егоровичу стало тесно в «Ревущем стане». Но его желание уехать за границу, чтобы усовершенствоваться, встретило большие затруднения со стороны полиции.
Наконец в 1890 году вместе с Чикиным Щербов совершает большое путешествие: Дальний Восток, Африка, Персия, Яффа, Порт-Саид, Аден, Занзибар, Килиманджаро. Путешествие, полное всевозможных приключений.
В 1894 году Павел Егорович женится гражданским браком и в свадебное путешествие отправляется в Японию через Сибирь. Во Владивостоке пристав требует венчания в церкви. Об этом эпизоде остроумно рассказывает одна из карикатур Щербова. Путешествие по Японии оставило глубокий след в творчестве Павла Егоровича.
Впоследствии его рисунок своей точностью и приемами напоминал японские гравюры. Щербов раскрашивал рисунки акварелью, потом смывал и снова наносил краски… и так несколько раз, пока не добивался желаемого колорита. Первая работа Щербова в журнале «Шут» изображала бал в Академии художеств. Тогда он подписывался «Old judge» (старый судья). В прессе отметили его творчество как серьезную сатиру – меткую и едкую. Одним из первых, если не первым, еще в 1900 году заметил Щербова Александр Бенуа. Он утверждал, что карикатуры Щербова – наиболее талантливое явление в сатирической журналистике за последние годы.
О Щербове говорили, что он сумел из мелочей жизни создать целую сатирическую поэму. Дорошевич называл Щербова «божком смеха».
Работы Щербова с 1895 года появились на выставках акварелистов «Мира искусства», а также в сатирических журналах. В. Ф. Боцяновский, известный литературный критик (друг Щербова, Горького, Куприна и многих других), в своих воспоминаниях пишет, что эти работы обратили на себя внимание удивительно утонченной, стилизованной остротой рисунка, благородством тона красок, глубиной содержания. Все рисунки Щербова – лишь этюды, лишь отдельные камешки, из которых складывается одна огромная и страшная картина, портрет человеческой пошлости.
На лихаче с дутыми шинами едет дама в красном с огромными страусовыми перьями, воплощенная пошлость! Обдает всех грязью. Но все вытираются и не протестуют… привыкли.
Большая картина Щербова «Базар XIX века» наделала много шума и кровных обид. Картина изображала ярмарку художников, где высмеяны были очень жестоко и метко современники Павла Егоровича: В. Стасов, С. Дягилев, Ф. Малявин, И. Репин и т. д. Особенный вред нанесла эта картина С. Дягилеву, изображенному доящим корову. Под коровой подразумевалась меценатка, субсидирующая журнал С. Дягилева «Мир искусства». В январе 1908 года на выставке акварелей в Петербурге отец купил картину Щербова «В Ваньке пляшут суставы», которая также появилась в журнале «Серый волк». Картина изображала Куприна.
Куприн всегда высоко ценил талант Павла Егоровича. По свидетельству журналистов, в 1909 году в Житомире квартира моих родителей была увешана картинами Щербова.
Щербовы построили в Гатчине каменный дом. Дом такой же оригинальный, как и сами его хозяева. В детстве дом этот мне казался средневековым замком. Его окружала большая стена, булыжники для которой собирали сами Щербовы. Крыша и верх были покрыты красной черепицей. Внутри всегда ощущались какой-то очень своеобразный запах и особенная гулкость. Большой холл с огромным камином был как бы сердцем дома. Вокруг камина – оружие, медные и кованого железа принадлежности. Посередине холла лежала шкура белого медведя. На верхний этаж в мастерскую Павла Егоровича вела широкая лестница. К холлу прилегало несколько маленьких комнат, меблированных на восточный лад: низкие тахты, яркие половики, столики с медными подносами, с разными трубками и кальянами.
Павел Егорович всегда носил просторную синюю блузу, большой берет, надвинутый на лоб. Смуглый, с длинной редкой ассирийской бородой, в домашнем быту Павел Егорович был очень строгим, властным и иногда жестоким. Его жена Настасья Давыдовна, которую я всегда называла тетей Настей, одевалась в какие-то турецкие хламиды, а на голове у нее всегда был намотан небольшой тюрбан, без которого я, кажется, ее никогда не видала. Щербовы и их дом всегда напоминали что-то восточное, пришедшее из далеких стран.
Я думаю, решение переехать в Гатчину и там обосноваться было результатом дружбы наших семей, хотя Куприн и Щербов часто ссорились – оба были вспыльчивыми. Отец мой был более отходчив, и, когда ссора слишком затягивалась, он посылал меня с запиской, как голубя мира. Вот сохранившаяся в архиве моя записка без каких-либо знаков препинания:
«Дорогой Павел Егорович
24 мои именины и если не придете будет обидно. С самого утра помиритесь с папой я очень хочу мама и папа хотят вас я больше всех».
Для меня всегда было праздником идти к Щербовым. Я очень любила Настасью Давыдовну – тетю Настю. И Павел Егорович был всегда очень добр ко мне.
Частыми гостями Щербова были Горький, Шаляпин и многие другие.
У нас в доме висело много картин Павла Егоровича, которые, к сожалению, пропали. Спустя много лет после нашего отъезда за границу в Гатчину приезжал Боцяновский. Вместе с Щербовым они пошли на нашу бывшую дачу. Но, к сожалению, найти картины и рукописи не удалось. Одно время в Петербурге появился плакатный портрет Щербова, сделанный художником Троянским для табачной фабрики Шапшал, под названием «Дядя Михей». Один из этих плакатов висел у нас в гостиной.
Странными были отношения Павла Егоровича с сыновьями. Старшего – Вадима, веселого и самоуверенного, – он боготворил, к младшему – Егору – относился со строгостью и почти с жестокостью. Егор был невероятно кротким существом. У него были большие черные, почти женские, глаза, которые часто наполнялись слезами. Он не ревновал к брату потому, что также относился к нему со страстным обожанием. Однако его не могли не обижать сухость и несправедливость отца.
Я не помню, мобилизовали ли Вадима или он пошел добровольцем на войну, но после этого Павел Егорович стал еще мрачнее и угрюмее.
От Вадима долгое время не было никаких известий. Его родители совершенно сходили с ума. И вдруг мой отец получил письмо от С. М. Пашковского, товарища Вадима, что он погиб. Товарищ просил подготовить родителей Вадима и как-то смягчить удар. Мой отец был очень потрясен этим письмом. 2 сентября 1918 года он пишет:
«Многоуважаемый Сергей Митрофанович!
Ваше письмо, кроме того, что оно принесло большое горе нашей семье, знавшей Вадима с самого раннего детства, оно поставило нас в весьма тяжелое, почти безвыходное положение, которое происходит именно от нашей давнишней крепкой привязанности и дружбы к семье Щербовых.
Состояние их всех трех теперь поистине ужасно. Павел Егорович страшно постарел и ослабел. Он почти не спит, часто плачет, его изнуряют постоянные тревоги о Вадиме, часто говорит, что не переживет известия о Вадиминой смерти. Но иногда у него проскальзывает мысль, что все-таки лучше хоть на что-нибудь надеяться.
Руки у него в нарывах от худого питания, возвратились давнишние припадки болотной лихорадки. Как ему скажешь, что Вадима нет!
Анастасия Давыдовна в еще худшем состоянии. Плачет меньше, но нервна до крайности. Чтобы не пасть духом окончательно, вся ушла в хозяйство. Угасает на глазах».
Дальше отец пишет, что Егорушка плачет втихомолку, по ночам под одеялом и еще – что он никогда в жизни не видел семьи, где бы на одного человека было устремлено столько страстного обожания, сколько у Щербовых на Вадима.
Мои родители очень долго мучались, но так и не смогли нанести своим друзьям удар.
В одной из своих книг отец описывает эти события и свои сомнения:
«…Я решил промолчать. И в самом деле, что было лучше: убить милого, обаятельного старика жестокой правдой или оставить его в решительном чаянии и неведении? И я молчал почти два года.
Это было нелегко. С. (Щербов) иногда глядел на меня такими проницательными, спрашивающими глазами, будто догадывался, что я о чем-то важном осведомлен, но не хочу, не могу сказать».
Павел Егорович решил, что Вадим попал к белым. Поэтому, когда кроткий Егорушка вступил добровольцем в Красную Армию, Щербову не давала покоя мысль, что оба брата могут оказаться врагами. Егорушка вскоре погиб от сыпного тифа. Моим родителям стало еще труднее. Мама несколько раз начинала с тетей Настей разговор на эту тему, но уверенность матери, что ее сын жив, каждый раз останавливала страшные слова. Настасья Давыдовна дошла до того, что стала бегать по гадалкам и возвращалась с радостно горящими глазами, принимая всерьез предсказания пифий, что ее сын скоро вернется. И даже Павел Егорович невольно заражался этой уверенностью.
Покидая Гатчину, мои родители так и не решились отнять у своих друзей последнюю надежду. Письмо товарища Вадима осталось лежать в кабинете отца в американском шкафчике.
Часто в эмиграции мои родители говорили об этом, не зная, хорошо ли они поступили.








