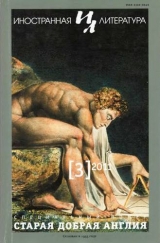
Текст книги "Мемориал. Семейный портрет"
Автор книги: Кристофер Ишервуд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
– Уверен, здесь нам удастся вызвать эманацию.
– А что это – эманация?
– Она белая. Несколько напоминает саговый пуддинг. Нисходящей формы обыкновенно.
На полном серьезе, так что толком не разобрать, дурачится или нет, он описал ряд экспериментов с одним австрийским медиумом. Явно бездну всякого на эту тему начитался. И до глубины души потряс Памелу.
– Вот я и смотрю, такой умопомрачительный дом. Того гляди привиденье покажется.
Подошли к окну – видом полюбоваться. Явилась миссис Компстолл, приведя с собой мужа, явно выволоченного из постели. Тот повторял, что, если б знать, мол, мистер Томас едет… и т. д. и т. д. Еще поторчал немного и убыл, сочтя, по-видимому, что исполнил свой долг.
Мэри предложила выйти в сад. Почему-то такое противно было оставаться в этом доме. Старом, противном, затхлом. Ничего-ничего, неважно, лишь бы у Энн с Томми такого впечатления не сложилось.
На лестнице Эдвард провозгласил, что небольшой портрет восемнадцатого века, под окном, очевидно обладает магической силой.
– Вот поверните его лицом к стене, как-нибудь вечерком, когда будете в доме одна, – втолковывал он миссис Компстолл, – а через полчасика примерно сами увидите: снова перевернется обратно.
Миссис Компстолл пристально в него вглядывалась, чуя подвох.
– Ну уж не знаю, мне небось не захочется, – сказала она наконец, – если тем более Компстолла дома не будет.
Памела с Морисом долго над этим хихикали. У Мориса от усталости начиналась истерика. Стал лезть к Эдварду, его подначивать, пока Эдвард на него не набросился, и оба кубарем скатились с лестницы, сбежали в сад, выбежали за ворота, помчались по парку. Морис, чуть не на голову выше, бегал, как борзая, и все равно Эдвард его обставил. Остальные смотрели из окна, зачарованные.
– Ух ты! – хмыкнул Томми. – А ведь умеет бегать, да.
Морис, побежденный, тащился обратно к дому понуро, задыхаясь, Эдвард был как огурчик. Перемахнул ограду в тылах и поскакал через сад, ко всем на крыльцо, сияющий, молодцеватый. Морис еле плелся. Эдвард осклабился:
– Честь спасена.
Но Мэри заметила, как поредели у него волосы. И когда отстает эта прядка, видишь ямку над виском, где операцию ему делали, – после той катастрофы на мотоцикле, прошлой зимой, в Берлине. Да, видно, тряхануло его – жуть. Лучше не смотреть на эту ямку. И Мэри спросила с улыбкой:
– Совсем моего ребенка извести удумал?
– Прости.
Прошли через прихожую, вышли на террасу. Утро стояло серое, четкое, копя в себе новый дождь.
– Какой вид! Так бы смотрел и смотрел без конца! – вздохнул Эрл.
Такой невинный, мдльчик совсем, и уголки воротника так трогательно пристегнуты на пуговичках, стоит, щупает замшелую стену, неотрывно смотрит в долину. Не больно бы ты обрадовался, мой миленький, приведись тебе такое изо дня в день, думала Мэри, и как по-дурацки упиваются янки этим семнадцатым веком, и смех и грех. Но все равно – пробилась привычная мысль, – да, все они мои дети.
Все они мои дети, и даже Жорж, – вот он, кстати, вплыл лучезарно в поле зрения на краю террасы: широкополая шляпа, крапчатый галстук-бабочка, клетчатый костюм, рыжие башмаки, – набродился, сараи осматривал.
– А я куриц видаль, – объявил восторженно. Так-так, значит, Компстоллы втихаря кур разводят. Маргарет что-то рисовала на обороте конверта.
– Пойдем, глянем на этих кур, – предложил Эдвард.
– Ты идешь? – спросили у Мэри.
– Нет уж, ребятки. Я, пожалуй, посижу. Можно и отдых дать на несколько минут своим старым ногам.
– Старая ленивая корова! – хмыкнул Морис.
– Спасибочки на таком на вашем на добром слове, милок.
И она пошла в дом, по пути остановилась – закурить сигарету. Заприметила в гостиной довольно-таки симпатичный диванчик, остаток прежней роскоши, а, да какой угодно сойдет, лишь бы не торчать снаружи в такое утро. И все же как-то тут неуют-но, надо признаться. Страшно как-то, прямо бегут мурашки – может, даже в буквальном смысле, такие черные мурашки – и сыро, сыро. Сыро, хоть выжимай, да и немудрено, столько лет не топят как следует. В детстве всегда боялась в этой части дома одна оставаться. Только стемнеет, на главную лестницу пряником не заманишь. И днем^го тут было нехорошо. Вечно чудилось: кто-то стоит прямо за углом наверху, подстерегает, когда подниматься начнешь. В арке перед самым коридором, где густая такая тень. Стоит тихо-тихо – и ждет. "Ох ты Господи!" – чуть ли не вслух вырвалось у Мэри.
– Ты что, мам? – встревожилась Энн. – Мы тебя напугали?
– Ой, да. На секунду.
– Решила, это фамильное привидение явилось? Посмеялись.
– Мы вот обсуждаем, – сказала Энн, – не позвонить ли на фабрику. Честный шанс спроворить обед.
– Господи! – Мэри засомневалась. – Ну как это мы все вместе нагрянем.
– Отец будет рад, – сказал Томми очень серьезно. – Он совсем один. Он мне не простит, если узнает, что вы были тут и я вас не привел.
– А вдруг другие тем временем решат возвращаться?
– И успеется. Мы пораньше поедим. В двенадцать, если хотите.
– Но ты уверен, совсем уверен, что это ничего?
– Абсолютно, – заверил Томми. – Сейчас же сгоняем машиной на почту. Это максимум четверть часа.
На том и порешили. Мэри со вздохом отставила свою идею соснуть. Да ладно. И почему бы в конце концов не повидать старого Рэма.
Тут же стали спускаться. Мэри через лестничное окно увидела: Эдвард с Маргарет, по саду фланируют. Явно углублены в одну из своих таинственных приватных бесед. Было дело, пыталась уследить за зигзагами их отношений – давно на этом поставила крест.
Эдвард поднял взгляд, увидал Мэри. Механически ей помахал, ничуть не меняя тона на вопросе:
– Ну, и как сей последний? Он тоже из Оксфорда? Маргарет кивнула.
– Я обречена, кажется, инструктировать молодежь.
– И это его первая вылазка?
– Ей-богу, мой друг, вы злоупотребляете моей девичьей скромностью.
Эдвард осклабился.
II
Сложив руки на сгибе зонта, голову слегка склонив, майор Чарлзуорт покорно отдавался мерному скольжению лифта, как мученик, возносящийся на небеса. У дверей квартиры миссис Верной минуту помедлил, прежде чем позвонить, кротким, смиренным жестом поднял пальцы к редким усам. Так оробел сегодня, что впору, кажется, снова отрепетировать даже те несколько слов, какие положено сказать горничной. Но дверь отворила сама миссис Верной:
– А я вас жду.
Она сегодня казалась почти веселой. Улыбалась:
– Я отпустила свою девицу с ухажером. Чай сами заварим, осилим уж как-нибудь.
Трудов, собственно, особенных и не требовалось. Все, что нужно, в готовности разложено по кружевной скатерочке. Только и дел – вскипятить воду и наполнить серебряный заварочный чайничек. Который она протянула Роналду. Он принял этот чайничек трепетно, как принимают за литургией потир. Она улыбалась, наливая горячую воду:
– Пальцы берегите, как бы не ошпарить.
И когда уже уселись друг против друга за низеньким столиком, она попросила:
– Ну, рассказывайте про четверг,
В четверг он побывал на аукционе в одном старом эссек-ском доме. Она, в последний момент выяснилось, поехать не могла. Роналд подробно описал замечательную коллекцию старинных гравюр. И были там еще стулья, просто прелестные стулья.
– Ах! Жалко, меня там не было! – вздохнула она.
Хотелось сказать ей, что без нее весь аукцион потерял всякий смысл. Потому, мол, исключительно и пошел, что знал, как ей интересно потом будет про все про это послушать. Но выговорилось только:
– Вам, наверно, было бы интересно.
– Еще бы.
Она отхлебнула чаю; спросила:
– А в субботу на эту встречу пойдете?
– Как-то пока не уверен.
– А я не пойду, если вас не будет. Когда у вас прояснится? Она улыбалась, потешаясь, кажется, над его уклончивостью. Он слегка покраснел, но храбро ответил:
– Я, собственно, ждал, я хотел, собственно, узнать, собираетесь вы пойти или нет.
Она на него сверкнула быстрой улыбкой.
– Я вот часто думаю, – она сказала, – насколько искренне мое увлечение прошлым. Конечно, было бы страшно нудно таскаться по всем этим достопримечательностям одной.
Он почувствовал, что лицо его выдает. Промямлил:
– Приятно с кем-то сопоставлять впечатления. Снова она улыбнулась:
– Вы должны обещать, что никогда не бросите меня.
И весело рассмеялась. Он рассмеялся тоже. Подделываться под нее – что еще оставалось. Удерживая голос на легких, даже галантных нотах, ответил:
– Да, миссис Верной, я вам обещаю.
Она налила ему еще чашечку чаю. Глядя с улыбкой прямо ему в глаза, без смущания:
– Я давно уже собиралась вас просить об одной милости. Сердце у него подпрыгнуло и покатилось:
– Да?
– Мне бы очень хотелось, чтоб вы меня называли Лили. А я вас буду Роналд называть, можно?
Склонил голову – и сам себе даже почти не поверил:
– Да, будьте так любезны, – сумел выговорить.
Она чуть откинулась на стуле, легко и прелестно ставя на этом точку:
– Вот и спасибо. А то прямо нелепая официалыцина получается, раз мы с вами друзья.
И кончилось чаепитие. Еще немного посидели, помолчали. Он кожей чувствовал тишь светлой квартиры под лампами, в высоком доме, далеко над гремучей уличной толчеей. Как в склепе – тишь, пустота. Лили задумчиво смотрела прямо перед собой, на свою руку с единственным бледно сияющим золотым кольцом. Потом спросила:
– Скажите, Роналд. Приведись вам прожить жизнь сначала, вы бы стали что-то менять?
Пришлось тщательно взвесить ее вопрос. Никто еще о подобном не спрашивал. И как-то привычки такой не сложилось – говорить о самом себе.
– Возможно, – выговорил наконец, – мне было бы лучше в кавалерийском полку. Но в то время это был вопрос денег. Невозможно прожить на жалованье.
Кажется, она не совсем то имела в виду, потому что сказала с легкой усмешкой:
– Для мужчины, наверно, все совсем по-другому.
И это замечание тоже пришлось тщательно взвесить:
– Да, скорей всего, так именно дело и обстоит. Она весело хохотала.
– Мужчины, по-моему, – такие беспокойные существа и вечно всем недовольны, в отличье от женщин. Из кожи лезут, лишь бы что-то переменить, пусть им от этого даже хуже будет.
Видно, он допустил, позволил себе какой-то молящий жест, не удержался, потому что она сказала:
– Да-да, и не спорьте! Сами знаете, и вы бы туда же, дай только вам волю.
Она улыбалась; она смеялась над ним, как-то странно, с каким-то вызовом, как бы отстраняя, отталкивая, удерживая на расстоянии.
– Ну а нам, – она прибавила, – нам, женщинам, только одно и нужно: покой.
Ну что на такое ответишь. Она его к стенке прижала, она почти издевалась:
– Вы, конечно, в этом видите эгоизм? Удалось ответить твердо, не без достоинства:
– Простите, но тут я не совсем верю в вавту искренность. Она засмеялась странно:
– Может, я и не искренна. Не знаю.
Нависло молчанье. Ах, не надо было так говорить! Вот же она, кажется, приоткрыла какую-то дверцу – и сразу захлопнула. Теперь вот сидим, не глядя друг другу в глаза. И заговорила она только затем, чтобы переменить тему:
– Вы, кстати, в серебре понимаете?
– Разве что так, слегка. Она встала, улыбаясь:
– Я вам никогда не показывала?
Открыла шкаф, вынула застланную изнутри ватой коробку и, слой за слоем разоблачив, поднесла под свет лампы:
– Собственно, вы и не могли его видеть, с самой войны было в банке. Только что забрала.
– Красивая вещь, – повертел в руках тяжелое, плоское блюдо.
– Считается, что эпохи Якова. Тщательно его осмотрел.
– Да. Думаю, очень ценное.
– Уж наверно. Тетушкино. На свадьбу мне подарила.
И задумчиво поставила блюдо на стол. Оно между ними стояло. Потом она сказала, не то чтобы грустно, а с тихим каким-то недоумением, будто сама себе:
– Странно, удивительно, как подумаешь, вот я жива еще, и блюдо стоит себе целехонькое. Будто из иной цивилизации откопали.
Промолчал. Боялся неловким словом спугнуть, оскорбить ее чувства. Опять она заговорила:
– Кажется, есть модная такая теория, будто старые люди должны наслаждаться жизнью и вести себя как молодые. Будто бы не должно быть никакого различия. Пусть одеваются так же, и разговаривают, и вовсю стараются так же выглядеть.
Помолчала, вгляделась в густую тень.
– Ну, а я думаю, что счастье создано для молодых. Старым остаются воспоминания.
И так она в эту минуту была хороша, и так хотелось ее оборвать, и спорить, доказывать, что вовсе она не старая, она молодая – она будет молодая всегда. Но как вдруг выговоришь такое. Сидел и молчал, завороженный, – до того был у нее удивительный тон. Как пророческий, как сквозь дрему:
– По-моему, если кто был очень, очень счастлив когда-то – прочее все не в счет. – И через секунду добавила, как бы думая все о том же: – А жаль, что вы с Ричардом друг друга не знали. У вас, по-моему, нашлось бы много общего.
Ну что тут можно ответить? Она улыбнулась. Сказала совсем просто:
– Он, иногда мне кажется, рад, что мы с вами друзья.
* * *
Лифт скользил вниз по шахте. Из квартиры его вынесло, как сомнамбулу; и вот он длинными шагами мерил улицу в огнях фонарей.
Наконец– то, как никогда еще прежде, можно было в полной мере оценить драгоценное сокровище -дружбу с ней. Шел, распрямясь, как герой, покачивая зонтом, и знал, что нет никого счастливей, взысканнее судьбой и более недостойного среди смертных. И это великое счастье, слава Богу, осознано во-время, не на излете. Оно будет длиться и длиться. Неделя за неделей. Я буду с ней видаться. С ней говорить. Будем вместе чай пить. Разговаривать.
И Боже ты мой! – еще сегодня утром себя терзать сумасшедшими, несбыточными мечтами, дурацкими планами, призрачной надеждой! Прикидывать, примерять свой тощий счет в банке, хилый бюджет, квартиренку. И чуть ведь не выкинул несусветную глупость, да, наглость была бы прямо непоправимая. И больше бы в жизни ее не видать, как своих ушей. Теперь-то совершенно ясно, в этом предложении руки и сердца она бы усмотрела кощунство, предательство, злоупотребле-нье доверием. Да, теперь-то понятно, это бы и было предательство, в сущности.
И так прелестно уберечь его от безумного шага, от горечи отказа. Так прелестно поставить на место. В мыслях она умеет читать, что ли, ведь каждое ее слово сегодня было остережением, дивно, тонко высказанным остережением. И это такая радость. Потому что теперь все встало на свои места, и можно по праву ей оказывать кой-какие услуги, попусту не надеясь на большее. Разве этого мало для счастья.
Если бы в юности ее встретить, мелькнула мысль – ах, да чего уж, юность не юность, ничего б это не меняло, нет, но все же мелькнула мысль: если бы я тогда ее втретил, насколько лучше бы-
ла бы жизнь. Такие женщины поднимают мужчин над скотством. Без них мы пустое место. Она святая, он думал. Я узнал святую.
* * *
Выдохшись, сбавив шаг, он наконец остановился перед дверью, которая показалась знакомой. Перед дверью своего Клуба. Несколько сочленов, кивавших ему, пока проходил по курительной к своему любимому креслу, отметили, что Чарлзуорт на целых четверть часа опоздал. Обычно ведь хоть часы сверяй по майору – во все три его клубных вечера.
III
"Вот я и сматываюсь, – писал Эдвард, удерживая руку от дрожи на скачущем столике, – а ты, будь добра, умиротвори Мэри, уж я на тебя полагаюсь. Ради Бога, изобрети какой-нибудь исключительно изящный предлог для моей отлучки, только не забудь написать и точно мне его изложить. И тогда я пошлю ей рождественскую открытку. Но если честно, мне вдруг было ослепительное видение – вся предстоящая колбасня у Гауэров, у Кляйнов и миссис Гидден на Новый год. И душа не выдержала. Прости мне, пожалуйста, это мое, естественно, не последнее свинство".
Уже давно миновали Ганновер; отобедали. Серые грустные поля, без оград, размежеванные пунктиром лесов, мягко кружили за толстым стеклом, от малейшего сквозняка защищенным зеленой бязью. Вагон-ресторан густо пропах сигарами крепких, обритых наголо, пассажиров со студенческими шрамами на щеках. Он их озирал не без наглости, барабаня пальцами по ножке бокала.
Поднял его, отпил; послюнил карандаш, прибавил:
"Вернусь сразу после Нового года".
* * *
Он лежал в шезлонге под облезлым эвкалиптом. Легкий бриз, улетая на мол, мимоходом шуршал листвой. Взгляд сонно скользил по уступчатым склонам, простеганным чернотой виноградных лоз, по рыжим и розовым домикам, жмущимся к колокольне. Как каждый камешек остро и четко рисуется на ярком свету! А за темно-синим заливом, на той стороне, почти не видать их, затаились низкие, серые миноносцы. Дальше, выше, высоко над земным горизонтом, снежные грани альпийских круч недопроявленными снимками стынут в слепящем просторе.
Рядом встает Маргарет. Только что вышла из дома.
Она улыбается. Зубы особенно ярко белеют на фоне загара. Она вся сияет. Глаза излучают свет.
– Кушать подано.
– И что там? – с широким зевком.
– Омлет, фрукты, салат… я сегодня новый способ испробовала, какой нам демонстрировала Тереза.
– Роскошно.
Поднялся устало – от долгого сидения устал. Наелся давно и надолго. Не хочется есть – под ее взглядом, подталкивающим в рот каждый кусок. Она допытывается озабоченно:
– Вкусно?
– Высший класс.
– Нет, ты только скажи, заправка точно такая же, нет? Он старательно вдумывается.
– Может быть, следовало бы чуть-чуть еще подбавить этой штуковины – петрушка на вид, но не петрушка, ну, как ее?
– Да. Ты прав. Совершенно точно.
Потом он лежал и смотрел, как она стоит у мольберта. Работает споро, решительно, как-то победно касаясь холста и про себя улыбаясь. Знал: любит она, чтоб лежал тут как тут, на веранде, или под тем эвкалиптом. Если уйти в одиночестве в город, или через мол к Пампелонне, воротясь, обнаружишь, что она почти ничего не сделала. От тоски по своему любимому котику-песику.
А сама все подбивает прогуляться немного. Быть независимым.
– Кажется, старый Морель завтра гонит машину в Сент-Ра-фаэль. Не хочешь смотаться?
– Не особенно. А ты?
– О, мне работать надо.
– Спровадить меня надумала. Она смеется:
– Сам знаешь прекрасно, что нет.
– Так поехали вместе.
– Давай, если я тебе нужна.
– С чего ты взяла, что можешь быть не нужна? И оба остаются дома.
Часто осеняла догадка: а ведь если заявиться домой вдреба-дан, она бы только обрадовалась. Даже хочет, чтоб вел себя гнусно. Поощряет отлучки по вечерам. Вот и брел добросовестно к узенькой гавани: рыбачьи лодки, три кабака и бардак, кичащийся непристойностью допотопного, от старости моросящего фильма. Иногда чуть ли не до утра там просиживал – трепался с художниками, в карты играл. Поджарые, тонкие, ломкие французы, теребя сигареты, медленно заводят себя, как пружины, под жужжание разговора, чтобы в первую же паузу с налету вклиниться со своим "Je suppose que…" Маленькие, грязноватые, настороженные испанцы, мрачно трагичные, но все равно почему-то смахивающие на парикмахеров. Ленивые, громадные русские с множеством жен. И почти ни единого англичанина. Вот за это – большое спасибо. Но все равно – такая тоска.
1. "Я считаю, что…" (франц.)
Тоска – как ностальгия по всему миру сразу. Вот именно что – хорошо исключительно там, везде там, где нас нет.
Если вечером оставался на вилле, сидел вместе с Маргарет на веранде. Читали друг другу вслух. Или в покер играли, с двумя саквояжами, на которых были карманы для карт. А в двенадцать – спать. Целовались:
– Спокойной ночи.
Маргарет и Тереза делали все по дому. И рад бы помочь, да разве они дадут.
– Женщинам нужно работать, мужчинам нужно спать, – усмехался он.
Она только смеялась своим тихим, победным, обескураживающим смехом. Иногда он был прямо невыносим, этот смех. Будто треплют тебя по головке.
Пристрастился к купанью. Уходил к Пампелонне, на огромный, пустынный пляж, как костями, усеянный выбеленными отбросами моря. Теченья тут были опасны. Иногда, обозлясь, нарочно ее мучал тревогой. И – каждое утро эти упражнения на веранде; лежал растянутый, распятый, голым телом впивая солнце. Кожа забронзовела. Совершенно голый, распираемый бешеной энергией, исполнял этот комически-религиозный обряд: упасть, вытянуться, отжаться. Она смотрела, улыбалась. И, как заметишь на себе ее взгляд, сразу стыдно делается, кураж как рукой снимает.
А еще ходили под парусом, с сынком смотрителя маяка. Часто пропадали вдвоем с утра до заката. Маргарет приходила на берег – встречать.
– Напишу-ка я, пожалуй, портрет Мими, – она как-то сказала.
– С какой радости?
– Великолепнейший тип. Очень даже красивый по-своему. Такое в нем звериное что-то.
– Правда? – Ощутил раздражение и укол вины бог весть от чего. – Ей-богу, Маргарет, – прибавил с самой своей неприятной ухмылкой, – ты людей описываешь, как няня детишкам в Национальной галерее.
Но прогулки с Мими после этого прекратились. Другой мальчик, Гастон, с превеликой радостью его заменил. Один глаз у этого Гастона смотрел в одну сторону, другой в другую.
Несколько дней спустя поинтересовался, заговаривала ли она с Мими про портрет.
– Ничего не говорила.
– Почему? Уверен, он будет в восторге.
А Мими, оказывается, вовсе питал слабость к Маргарет. Нашел какой-то предлог, объявился на вилле. И Эдвард – при
1. Перефразированные строки из стихотворения Чарльза Кингсли (1819– 1891) «Три рыбака» – «Мужчинам нужно работать/ Женщинам нужно рыдать».
Маргарет – ему сообщил про портрет. Мальчишка страшно обрадовался. Тут уж естественно. Маргарет некуда было деваться. И хуже этого портрета она, ей-богу, в жизни ничего не писала. Такая дешевка, нагло прущая завлекательность. Как-то вернулся домой – а она свое прелестное творение вешает у него в спальне. Буквально взорвался:
– Убери ты эту гадость куда подальше!
И портрет в конце концов был преподнесен самому Мими. Надо думать, на маяке он занял почетное место.
* * *
И вот, вечером как-то, Маргарет вдруг спросила:
– Эдвард, ты долго еще намерен здесь оставаться?
– А куда ты хотела бы двинуться?
– Ты меня неправильно понял. Я… я понимаю, иногда тебе хочется быть одному. Ты вовсе не обязан себя чувствовать связанным.
– Тебе тут разве не нравится? – неловко промямлил он.
– Ну почему. Если тебе нравится.
И на этом кончился разговор. А через несколько дней она объявила:
– Эдвард, на той неделе я еду в Париж.
Вот и все. Виллу эту в одиночестве больше двух дней невозможно было выдержать. Подался в Марсель, и дальше, пароходом, в Константинополь. Осенью был снова в Париже с легкой простудой. Встретились. Сказал ей:
– Видишь, я к тебе бегу, едва палец порежу. Она засмеялась:
– Милый. Да мне ж только того и надо.
* * *
Но им хорошо было вместе. Много бродили, разыгрывая из себя янки, впервые попавших в Париж. Купили очки в роговой оправе и разговаривали, как им это представлялось, с американским акцентом. Затея, правда, сразу иссякла, когда напоролись на одного исключительно симпатичного скульптора из Каролины и пришлось перед ним оправдываться за свое поведение.
Скоро перебрались в Лондон. Маргарет обосновалась у себя в мастерской, он снял квартиру. Но являлись повсюду вместе – приглашали как женатую пару. Бесконечно оба острили на эту тему – особенно Маргарет. Мэри была особенно трогательна, прямо прелесть. Эта ее тактичность, бережность, ненавязчивое как бы благословенье – ну просто с ума сойти.
Маргарет говорила:
– Что за чудо эта наша Мэри. Потрясающая невинность. – И прибавляла: – Ах, Эдвард – если бы только они тебя знали как следует!
Такие шуточки задевали. Она избрала неверный тон; юмор был слегка натужный. Наедине теперь оставаться не очень тянуло. Зато в гостях они неизменно блистали, как вышколенные актеры, разыгрывая свой спектакль на двоих.
Собственно, и на вилле уже обсуждалось то, что он сформулировал, как "наш долг перед соседями". Он тогда говорил: "Конечно, надо бы как-нибудь попробовать. Чем черт не шутит. Попытка не пытка". И Маргарет хохотала: "Только подумать, Эдвард, а вдруг я тебя излечу".
И вот как-то раз, в мастерской, воротясь после особенно буйной попойки, они было попытались – и оказалось ужасно смешно, ничуточки не противно, – но начисто безнадежно. Сидели в постели и хохотали, и хохотали. "Ох, Эдвард! – хохотала Маргарет (потому что тоже прилично наклюкалась), – я теперь уже с мужчиной спать не смогу. В решающий миг всегда тебя буду вспоминать".
– Боюсь, что должен вернуть тебе твой комплимент.
* * *
Весной опять подались на юг, по пути на несколько недель застряв в Париже. И – всего-ничего пробыли на вилле, как вдруг новость: всеобщая забастовка. Он порывался сразу вернуться.
– Что тебе-то там делать? – она спрашивала, забавляясь, хоть в то же время, кажется, под некоторым впечатлением.
Не мешало бы сначала определиться хотя бы, на какой надо быть стороне. Ах, как она его высмеяла. Он злился, как мальчишка.
– Ты не понимаешь. Свершается нечто важное. Революция, может быть. А ты хочешь, чтоб я тут торчал, прятался в этой проклятой стране.
– Почему не сознаться, милый, что просто тебе скучно? Ужасно было обидно. Отчасти верно. Отчасти – обычная
бабья философия. Мелькала мысль – может, бросить ее. Стала бы цепляться, удерживать – и бросил бы за милую душу. Но нет уж, не на такую напал. Дни текли. И наконец пришло письмо от Мэри, и оказалось, что все вместе взятое, конечно, просто-напросто лопнуло, как кошмарный мыльный пузырь. Блеф. Морис какую-то машину водил. Они с Энн служили в столовой. Письмо кончалось:
"Нам дико вас не хватало. Вот бы вы развлеклись".
– Уж прости, – сказала Маргарет, – такая досада, если это из-за меня ты в конце концов не поехал.
Проходило лето. Гавань кишела художниками. Он плавал, ходил под парусом, жарился на солнцепеке. Больше Маргарет не предлагала писать никаких Мими, но он часто чувствовал на себе ее иронический взгляд. Иногда вдруг положение представлялось невыносимым; а на другой день – смотришь, и сно-
ва все тишь, да гладь, и даже неясно, что могло покорежить. Любимая фраза Маргарет:
– Ничего, по-моему, нет такого неодолимого, если только люди по-настоящему честны друг с другом.
Как укол в самое сердце. Ей-богу, в один прекрасный день вдруг не выдержу: "Так-так, и кто же тут у нас честен?"
Похолодало, погода портилась, и как-то Маргарет предложила:
– Почему бы нам не пригласить сюда Оливье?
Оливье – один парижский знакомый. Молоденький балетный танцовщик.
– С какой это радости нам его приглашать?
– Просто, по-моему, он тебе нравится.
Как ни старался сдержаться, почувствовал, что краснеет:
– Я только очень хорошо знаю, что тебе-то уж он вовсе не нравится.
Маргарет залилась хохотом:
– Милый, ну с чего ты взял? И вообще, я-то причем? Не хватало нам только встревать в наши отношения с друзьями!
– Что-то я не заметил, – ответил злобно, – чтобы ты своих друзей-подруг сюда табунами водила.
– Моих друзей-подруг? – она улыбнулась. – Да откуда я их возьму.
На том разговор и кончился. А через несколько дней она опять перешла в наступление:
– Эдвард. Я хочу, чтоб ты сюда пригласил Оливье.
И так настроение было паршивое. Весь день дул мистраль, на вилле тряслись все окна, со стороны города неслись серые пыльные вихри. А у знакомого аптекаря вышли все порошки, которыми тот потчевал хронических жертв непогоды. Метнул в нее взгляд:
– С чего это ты взяла, что я сохну по Оливье?
Она ответила холодновато, как бы имея дело с капризным ребенком, холодновато, но терпеливо:
– Кто говорит, сохнешь? Просто я слишком хорошо знаю, что иногда тебе, кроме моего, требуется общество несколько иного рода. Вот я и предлагаю Оливье.
– Интересно, что ты хочешь сказать этим своим "обществом несколько иного рода"?
– Что говорю, то и хочу сказать.
– Типично женская черта – вечно тыкать человека носом в его обязательства.
– Не поняла.
– Ладно, объясняю доходчиво. Ты на меня смотришь так, будто я на тебе женат.
– Эдвард – ты это серьезно?
– Но я не потерплю, слышишь? Я не потерплю, чтобы надо мной потешались.
И по спокойствию ее ответа стало очевидно: она просто увещевает больного.
– Говоришь, сам не знаешь что.
Мгновенье он смотрел на нее со своей нехорошей усмешкой. Потом сказал:
– Могла бы, по-моему, избавить меня от этого последнего унижения и хотя бы не сводничать.
Она вышла из комнаты.
Потом снова был мир. Преувеличенное раскаяние, полная капитуляция. Все это печень. Мистраль. И мало ли что я плел – не верь ни единому слову. Она грустно качала головой:
– Нет, милый. Не надо. Кое-чему из того, что ты плел, хочешь не хочешь приходится верить. – Помолчали. Потом она прибавила: – Но ты, может, и прав. Иногда я бываю чуточку… собственницей. – Как он тряс головой. Но она сказала:
– Иногда я думаю – может, это никуда не годится. Я про наш образ жизни.
– На что-то сгодился же, нет? Она печально улыбнулась:
– Ты считаешь?
– Значит, для тебя не годится?
– О, я-то как раз всем довольна, – она ответила быстро.
"А зря" – вертелось на кончике языка. Но осталось невысказанным. Трус, как всегда, побоялся поставить точку над "Г. Вечер прошел ласково – но печально. Все было очень корректно. А наутро она объявила, что через несколько дней уезжает в Англию. Как всегда, взяла на себя этот неприятный труд – сделала первый ход.
* * *
– Я уверен, что одолеваю эти трудности, – говорил на своем прихрамывающем, но смелом английском молодой голландец, выбивая пепел из своей небольшой трубки и равнодушно озирая Place de L'Opera Бледный, можно сказать, плотный Эдвард кивнул вдумчиво и заказал себе еще абсенту. Голландец пил исключительно лимонад.
Неделю спустя они уехали из Парижа. Опыты производились в одном местечке, недалеко от Бовэ. Голландец изобрел новый тип самолетного двигателя. Экономил, как только мог, но скоро оказался на мели. Речь шла о каких-то несчастных нескольких сотнях. Эдвард телеграфировал к себе в банк. Маргарет написал с бесстыдным восторгом: "Я верю, это подлинное Воскресение из мертвых. Поразительно, после всех этих лет снова на что-то сгодиться. Одно жаль – я, кажется, начисто растерял все свои небогатые познания в технике. Но даже они постепенно, потихонечку возвращаются".
Маргарет ответила тепло, великодушно. Правда, между строк сквозила тревога. Зато прямой текст дышал верой в будущее. Глядишь, оно и принесет ему невероятную славу.
Все шло великолепно. Французское правительство заинтересовалось. Через несколько недель намечался приезд экспертов. Явилось несколько репортеров, поошивались поблизости день-другой и отчалили, разочарованные. Дни быстро мелькали в долгих часах работы, в спорах, пробных полетах. Да, оказалось – есть еще порох в пороховницах. Покончил с питьем. Сбросил с себя десять лет.
Голландец разбился, как-то утром, летая один, за несколько дней до приезда экспертов. Элементарная халатность одного из механиков. В воздухе сломалось шасси. Самолет скользнул на крыло и сгорел, превратился в груду лома через несколько минут после того, как грянулся оземь. Эдвард кидался в пламя, пытался добраться до места пилота – идиотство, конечно, но что же еще он мог. И как его только вытащили живым.








