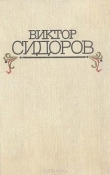Текст книги "Тени"
Автор книги: Корнель Филипович
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Омульский вернулся к себе в комнату, оделся и вышел в город. Ему нужны были покой и одиночество, чтобы упорядочить свои мысли – чтобы вообще начать думать. Он сел в пустой трамвай, который, прежде чем тронуться, довольно долго стоял на остановке. Трамвай поехал, и Омульский мог начать спокойно размышлять. В центре он пересел на другой трамвай, идущий далеко за город. Примерно через полчаса вышел в местности, ему практически незнакомой, рядом с какими-то бараками и ларьками с пивом и фруктами. Оттуда третий трамвай отвез его в фабричный район, расположенный в противоположной части города. Благодаря пятидесятипроцентной скидке для пенсионеров Омульский за гроши совершил длинную поездку среди чужих, постоянно сменяющихся людей, никого не зная и никому не знакомый, – вот так он мог хорошо все обдумать. И Боже упаси над ним смеяться. Ведь дело касалось его мировоззрения, которому грозил полный крах. Целостная, такая ясная и прозрачная система ценностей, основанная на том, что все в мире поделено на добро и зло, свет и тень, система, которой Омульский руководствовался без малого полвека, сейчас вдруг должна рухнуть?
Заканчивая в полдень свое долгое путешествие, Омульский уже определил для себя четкую позицию, позволившую ему обрести внутреннее спокойствие. И вот к чему он пришел: все люди, похожие на евреев, хоть ими и не являются, по сути своей – евреи. Это заключение не так глупо, как может показаться, и даже если и содержит в себе некоторое противоречие, то давайте порассуждаем: ведь самое дорогое, что у нас есть, это наши убеждения. И почему бы время от времени чуточку не схитрить – лишь бы только своих убеждений не растерять, лишь бы их сохранить?
ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ НАТАНА РУФФА
Перевод Е. Барзовой и Г. Мурадян

С середины января до конца февраля и даже еще в начале марта стояла морозная ясная погода, бодрящая и здоровая, по ночам шел иногда мелкий сухой снежок, а утра были солнечные, свежие и веселые. Станислав Омульский давно уже не чувствовал себя так хорошо, как сейчас, в преддверии весны, не ощущал такой физической крепости и ясности рассудка, не возлагал таких больших надежд на приближающуюся весну и лето и не строил таких грандиозных планов на будущее. Но, как и все старые люди, Омульский был слегка суеверен и, чтобы не сглазить, не рассказывал никому о себе и не похвалялся своим хорошим самочувствием. Напротив, частенько брюзжал и, как все вокруг, жаловался на печень, сердце и желудок. И болезнь, обрушившаяся на него в середине марта, оказалась тем более неожиданна и необъяснима.
В середине марта погода внезапно переменилась; резко потеплело, снег стаял за одни сутки, и после полудня со стороны черных садов и голых деревьев парка прямо в окно комнаты задул теплый ветерок. После обеда Омульский вышел в парк, чтобы насладиться наступающей весной. Впрочем, на улице оказалось вовсе не так тепло и приятно, как можно было подумать, глядя в окно. Воздух был холодный, влажный и зябкий. Но птицы пели как ошалелые, и Омульский верил, что они инстинктивно чувствуют близость весны. Он обошел парк вокруг и даже добрался до парников и теплицы, где за запотевшими рамами уже висели зеленые помидоры. Омульскому стало обидно, что не он их отведает первым. Помидоры дадут только в конце мая или начале июня к воскресному обеду в виде салата из пяти ломтиков, тонюсеньких, как облатка, и посыпанных мелко нарезанным зеленым луком. Однако он довольно быстро с этим смирился: что ж, не всем доступны помидоры по девяносто злотых за килограмм. Ну и пускай их жрет номенклатура, Омульский к ней не относится. Это соображение его вполне устроило, теперь можно было переходить к следующему пункту программы. И он стал думать о портном (надо бы отнести подкоротить и заузить клетчатое пальто, полученное недавно в порядке социальной помощи), о пасхальных праздниках (в этом году Пасха ранняя, второго апреля), а также, невесть почему, о некоем часовщике, разводившем канареек и аквариумных рыбок, и – уж совсем непонятно, по какой причине, – о колючей проволоке: как он пропорол себе ногу, когда был ребенком, лет семьдесят назад. Потом в голову пришли пирожные с кремом – такие большущие и ароматные, он их видел вчера в кондитерской на углу Мицкевича и Дзержинского – и снова какие-то очень яркие сценки из детства: орущий отец с багровым лицом, школьный друг Руткевич и его большегрудая сестра, собирающая в поле маки. Эти мимолетные, далекие и близкие, не связанные одно с другим воспоминания вырывались откуда-то из закутков памяти и блуждали, текли непрерывным потоком у Омульского в голове. Наверное, их пробудила к жизни и привела в движение весна! Картинки сменялись быстро, их невозможно было ни вернуть, ни удержать, как те слайды, которые показывал иногда в комнате отдыха вечно спешивший лектор из общества «Знание». Впрочем, Омульскому вовсе и не хотелось их останавливать.
В какой-то момент, уже довольно сильно отдалившись от дома, он с удивлением обнаружил, что промочил ноги, и быстро пошел обратно, порой даже переходя на бег. Лучше немного запыхаться, сказал он себе, чем простудиться, схватить воспаление легких и умереть, как эта ненормальная Лащевская, которая носилась по снегу в полукедах и с непокрытой головой, пока не доигралась. Вспомнив Лащевскую, он припустил еще быстрее. Однако, открывая большую, тяжелую дверь на пружине, почувствовал, что это последнее усилие, на которое он сегодня способен. В холле Омульский, тяжело дыша, опустился на первую попавшуюся банкетку. Через раскрытую настежь дверь в комнату отдыха виднелись мельтешившие на зелено-фиолетовом экране телевизора фигуры, слышались крики и выстрелы, потом все смолкло и кто-то остался неподвижно лежать на земле. Его участь была Омульскому безразлична, как не были интересны и люди, сидевшие в комнате и смотревшие эту передачу. Омульский был занят только собой: чувствовал, что с ним начинает твориться что-то неладное, что-то, не касающееся никого, кроме него самого. Это он промочил себе ноги, простудился, может свалиться с гриппом – как знать, нет ли у него уже температуры, но кого это волнует? Это он, Станислав Омульский, болен, и не кому-нибудь, а ему угрожает опасность. Что могут посоветовать другие, даже если он об этом расскажет? Он встал и, преодолев невыносимое сопротивление мышц и тяжесть тела, взобрался на второй этаж и доплелся до своей комнаты; сил хватило только на то, чтобы стянуть башмаки и мокрые носки. Дрожа от холода, охваченный беспокойством и остро ощущая свое одиночество, он лежал под одеялом и ждал – неизвестно чего. Новый сосед по комнате, инженер Валенга, еще сидел у телевизора, потом он пойдет играть в шахматы, а оттуда прямо на ужин. Не увидев Омульского в столовой, принесет ему ужин на деревянном подносе, это будет тарелка, прикрытая другой, перевернутой, и стакан чая. Но Омульскому не хотелось есть. Он прикрыл глаза и почувствовал себя очень странно: он словно бы плыл, словно бы поставил ногу на эскалатор и этот эскалатор теперь безостановочно нес его вперед, вперед. Наверное, он спал. Проснулся в темноте, посреди ночи, обливаясь потом, с ужасной, раскалывающей череп головной болью. Но это, наверное, было еще не пробуждение, потому что Омульский не в состоянии был подняться с постели, а когда попытался крикнуть, разбудить инженера Валенгу – он явственно видел его в лунном свете, спящего на спине, запрокинув голову и открыв рот, – так вот, когда хотел крикнуть, чтобы тот встал и позвонил дежурной сестре, потому что он, Омульский, болен, у него жар, а может, даже воспаление легких, – голос увяз в горле, вообще не сорвался с губ. Потом он сделал еще одну попытку и еще много раз пробовал, но добился только того, что наконец понял: из его уст вместо голоса вырывается беззвучная, пустая струя воздуха. Значит, он все-таки спит? Теперь он достаточно четко видел в темноте обстановку комнаты, видел в свете луны лицо спящего Валенги – но в то же время ему снился кошмарный сон: что он немой. Выходит, это был сон во сне или, может, только полусон? Омульскому захотелось как можно быстрее из этого выбраться, вырваться – если не получится иначе, то силой! Надо пошевелиться, встать, включить свет! Но оказалось, что Омульский утратил не только голос, а еще и способность двигаться. Он мог думать, слышать, чувствовать, но тело его было безжизненным, как мешок с песком. Однако после многих попыток ему удалось сдвинуть с места этот безжизненный груз и неуклюже шевельнуть рукой: он услышал звон разбившейся тарелки и увидел, что Валенга поднимается, садится, смотрит. Потом встает, идет к выключателю, и в комнате загорается свет. Валенга стоит в кальсонах и сером свитере, глядя на Омульского.
– Дурной сон приснился?
Омульский хочет ответить, но не может. Валенга внимательно вглядывается ему в лицо:
– Вам нехорошо?
Омульский видит, как Валенга надевает брюки и пиджак, идет к двери, потом возвращается непонятно зачем. Может, чтобы подобрать с пола осколки разбитой тарелки? Но он не подбирает осколков, а снова идет к двери, открывает ее, выходит. Омульский смотрит на закрытую дверь. Через долгое, долгое время дверь открывается и входит сестра в белом халате, накинутом поверх домашнего халатика, а за ней инженер Валенга. Сестра приближается, встает около кровати, изучает взглядом лицо Омульского, потом смотрит на пол, на разбитую тарелку. Говорит очень громко:
– Ну и что вы натворили?
Омульский хочет сказать: не могу, не могу говорить, – но знает, что сестра его не услышит. Тем не менее он пытается это сказать еще несколько раз и в конце концов, измученный и раздосадованный, закрывает глаза. Медсестра вышла, Валенга сел и закурил. Тишина, кто-то прошел по коридору туда и обратно, где-то хлопнула дверь, и снова повисла тишина. Внезапно Омульский слышит ужасные слова, звучащие, как приговор, и теперь он уже абсолютно точно знает, что не спит.
– Может, за священником послать?
«Так, значит, выглядят его дела! Но они ошибаются, и Валенга, и эта дурочка сестричка, это еще не оно, это какая-то болезнь, а не смерть! Нет, нет, не надо, что вы, нет!» Вероятно, ему все же удалось сделать какое-то мелкое движение, замотать головой или, может, только пошевелить губами, поскольку Валенга, кажется, понял. Застыл на кровати, сидит, курит, Омульский снова прикрывает глаза и позволяет дальше себя нести этому эскалатору, странному эскалатору, который не идет ни вверх, ни вниз, только несет его, несет, несет вперед. Вошла доктор Сколышевская, склонилась над ним, от нее резко пахнет духами. Слушает ему сердце, потом щупает пульс. Все пока понятно, все так, как и должно быть, когда болен. Но вот внезапно в руке доктора Сколышевской появляется маленький, ярко светящий фонарик, и доктор Сколышевская начинает дурачиться, закрывает ему ладонью то один глаз, то другой, светит фонариком, гасит, снова светит, делает пальцами дурацкие движения, как будто хочет Омульского загипнотизировать. Омульскому приходит в голову, что доктор Сколышевская сошла с ума или его держит за сумасшедшего. Наконец доктор Сколышевская отходит от кровати, прячет фонарик в карман халата – выходит в коридор – и снова долго, долго ничего не происходит. Инженер Валенга сидит на кровати, положив руки на колени, и вид у него ужасно глупый. Потом в коридоре слышатся очень громкие шаги, кто-то ударил чем-то твердым в стену, дверь отворилась, и в комнату вошли два чужих человека с носилками, еще один мужчина, похожий на врача, а за ними доктор Сколышевская и сестра. Доктор Сколышевская держит в руке шприц; поднеся к лампе, смотрит его на просвет, потом наклоняется и делает Омульскому укол, от которого он погружается вроде как в легкую дремоту; он все видит, слышит и понимает, но ему безразлично, что с ним проделывают. Зато перестает болеть голова. «Я болен, – думает он, – но еще не умер. Если бы я умер, ко мне бы не вызвали „скорую“, потому что не положено, оставили бы здесь, внизу, в подвале». Санитар сидит около него, врач рядом с водителем. Водитель говорит: «Вот зараза, смотрите, опять разрыли! И как тут проедешь?!» Машина тормозит, разворачивается, трогается с места и снова едет – но без сирены, что ж, может, его дела не так еще плохи? Потом машина останавливается, санитар с шофером вносят Омульского в лифт, лифт едет… Стоп. Стук двери, скрип колесиков, шаги, шорохи – все эти звуки, кажется, никак не связаны с Омульским. Его кладут в коридоре, и долгое время никто им не интересуется. Потом какой-то молодой врач осматривает его, а сестра делает в вену укол, после которого он засыпает окончательно.
Когда он проснулся, было уже позднее утро, завтрак, наверное, только-только закончился, потому что слышен звон пустых тарелок, которые, вероятно, везут на тележках. Наконец и Омульский дождался своей очереди: его кровать на колесиках дернулась и поехала. Но почти тут же остановилась.
– В восьмую, да?
– Куда в восьмую, там еще лежит.
– Так куда?
– В седьмую.
Кровать повернула, проехала немного, задела за стену и въехала в маленькую палату с тремя кроватями. На койке у окна сидел человек в пижаме, висящей на нем, как на скелете, справа лежал человек, который непрерывно стонал и жаловался, на чистую белую постель слева положили Омульского. Тот, что сидел у окна, встал, снял со спинки кровати палку и, опираясь на нее, медленно сделал несколько шагов, с трудом переставляя ноги. Задержался около Омульского, долго молча его рассматривал, потом вышел в коридор. Омульский остался в комнате один на один с человеком, лежащим справа, которого не видел, но слышал. Болезнь, отнявшая у Омульского голос и обездвижившая его тело, скомпенсировала ему эти утраты и обострила зрение и слух, особенно слух. Его ухо стало до боли восприимчивым к каждому, даже самому тихому шороху и самому отдаленному звуку. И надо же было именно ему, Омульскому, угодить аккурат сюда, и теперь он – что за издевательство! – не мог не слышать потока слов, исходящих из уст умирающего. Это была одна нескончаемая жалоба и одно сплошное богохульство.
– Ах, лучше б мне вообще не родиться, лучше б вообще не было того дня, когда я родился, лучше бы этот день обратился в ночь и его бы не было, не будь его, не было бы и меня, не будь меня, не пришлось бы мне пережить то, что я пережил, и ни видеть, ни слышать того, что я видел и слышал, ведь не будь меня, не было бы у меня ни жены, ни детей. Если б я не родился, давно уже был бы там, куда только теперь должен идти, и зачем мне понадобилось жить, затем, чтобы смотреть на смерть моей жены Сары, моих деток Моисея, Евы и Рут, а не будь меня, то и их бы не было, и не пришлось бы мне сейчас их оплакивать и умирать самому, ведь если б я не родился, то и не умер бы. А теперь я умираю, и они еще раз умирают вместе со мной, и умирает всё, умирают мои слезы, моя скорбь, мое отчаяние, что они умерли, и всё это умирает еще раз. Лучше б я не родился, лучше б не было того дня, лучше б день тот обратился в ночь, а та ночь – еще в одну ночь, и еще одну, и меня бы не было, не пришлось бы мне ходить, учиться, петь, любить мою жену и детей, и пережить всё, и видеть, и слышать всё. Если б я не родился, то был бы там, куда иду, но не пришлось бы мне перед тем умирать, мучиться, плакать, если бы я не родился, я и не пережил бы ничего и не надо было бы помнить того, что я пережил. И сейчас не пришлось бы мучиться и плакать, и думать, что, когда я умру, никто не вспомнит ни обо мне, ни о моей жене, ни о моих детках…
Омульский вынужден был это слушать, поскольку был бездвижен и бессилен, как будто его связали веревками. Поток причитаний не иссякал, порой они затихали и превращались в монотонный стон, а потом усиливались почти до крика. Постоянно повторялись одни и те же слова, меняясь только местами в предложениях, как в бреду человека, который ничего не осознает или повредился рассудком. Тощий, с палкой, подойдя к двери, ведущей в коридор, говорил кому-то:
– Пан доцент сегодня здесь?
– Здесь, в десять будет обход.
– Вкололи бы этому старому еврею укол какой или еще что, чтобы заснул спокойно.
– И не стыдно вам?
– Он глухой, не слышит. Я так говорю, потому что больно уж он убивается, свихнуться можно, так страшно слушать.
– А вы не слушайте, сидите себе в коридоре на лавочке или подите в холл и послушайте радио, дайте старику спокойно умереть.
– Я, что ли, запрещаю ему умирать?
Разговор в коридоре оборвался, но вскоре стало что-то происходить у кровати старика. Омульский не мог видеть, что там происходит, но все слышал.
– Вены все исколотые… Не могу…
– Попытайтесь, о, здесь…
– Не получается…
– Позвольте мне!
Врач, по-видимому, взял у медсестры шприц и сам сделал вливание, потому что настала тишина. Минуту спустя Омульский увидел, что в комнату внесли предмет, которого прежде не было: ширму, обтянутую белым, чистеньким, густо присборенным полотном. Предмет этот появился в поле зрения Омульского лишь на мгновение, поскольку его тут же сдвинули вправо, заслоняя, наверное, кровать умирающего еврея. Все вышли, кровать тощего у окна была пуста. Омульский остался наедине с человеком, отделенным от него ширмой. Откуда-то издалека донесся телефонный звонок: зазвенел, повторился несколько раз, потом умолк. Омульский мог видеть только кровать у окна, застланную серым одеялом. На жестяной подоконник снаружи уселся голубь – посидел и стал прохаживаться, скребя коготками по жести и воркуя так громко, как будто был в комнате. Потом голубь сорвался с места и улетел. Омульский задумался, сколько сейчас может быть времени. Восемь, девять? Десяти еще нет, потому что в десять должен прийти врач. Долго царила тишина, но внезапно снова послышался голос старого еврея, однако голос этот так изменился, что Омульский подумал: наверно, еврей уже умер, его вынесли, а за ширмой лежит теперь кто-то другой и говорит как чревовещатель или как будто залез в колодец. Омульский вслушивается в его речь и чуть погодя уже знает, что это тот же самый человек, только теперь его несет совсем в другую сторону. Будь Омульский поздоровее, а настроение у него получше, он неплохо бы позабавился, слушая эти бредни. По стилю они напоминали печатавшиеся в газетах романы с продолжением, которые Омульский в молодости почитывал, надрываясь от хохота.
– Какая прекрасная у меня жизнь! Какая прекрасная у меня жизнь! Временами хуже, временами лучше, но, так или иначе, жизнь у меня прекрасная. Может, вчера был-таки не самый лучший день, Розенкранц сказал, что опротестует вексель, но если он говорит, это еще не значит, что опротестует, а мне нужны наличные, потому что когда я покупаю за наличные, то имею семь процентов, а когда беру в кредит, то имею только два, потому что семь минус пять это два, и это никакой не гешефт, так я больше съем, чем заработаю! Ха, ха! Но завтра шабат! Тихо, Сара, что ты говоришь? Что рыба маленькая, что когда отрежешь голову и хвост – и что останется? Не беда. В следующий шабат будет рыба побольше. Откуда я могу это знать? Не смеши! Это же совсем просто: если в этот шабат рыба маленькая, то в следующий шабат будет большая рыба. Что ты говоришь? Что может быть еще меньше? А как же, может быть и меньше, даже совсем маленькая. Но сколько может быть таких маленьких и как долго? В реке есть рыбы поменьше и рыбы побольше. Если не на третий, то на четвертый шабат будет самая большая рыба. О чем тут говорить? Деньги, деньги! Бабская болтовня! Тут не в деньгах дело, а в рыбе. Не всегда за большие деньги можно получить большую рыбу. Всё, хватит, тихо! Садимся ужинать. Моше, сыночек, сядь рядом с отцом. Вот мы и все тут. Тепло, приятно, хорошо. Ева, дитя мое, ну что ты ничего не ешь, клюешь как птичка! Думаешь, отец забыл, что послезавтра твой день рождения? Старая дева! Ты не старая дева, ты просто старшая дочь Натана Руффа, понятно? Двадцать девять лет, старая дева… Тридцать один? Ты что, лучше знаешь, чем твой отец? Ладно, пусть будет тридцать один. Даже если бы сорок один, все равно ты не будешь старой девой, потому что через две недели можешь выйти замуж. И хватит уже! Помоги маме, дитя мое. Надо радоваться каждому дню! А мол лебт мон ойф дер велт![15] Евуня, деточка, подай графинчик с водкой. Мы все вместе, тепло, нам есть что кушать. Но не достаточно иметь что кушать, важно, чтобы это была хорошая еда. А у нас замечательная еда. Сара, любимая, я знал, на ком жениться! Рут, дочь моя, подай мне соль! Моше, не вставай из-за стола, не ходи к окну. Собака лает? Пусть себе лает, на то она и собака, чтобы лаять. Мы живем среди добрых людей, а не каких-то там мерзавцев и бандитов. Я даже говорить вам не хочу, что мне рассказал Радомский о том, что случилось в одной деревне. Будем радоваться, что у нас спокойно, что мы здоровы, что нам есть что кушать, что мы любим друг друга, а люди нас уважают. Сегодня шабат, завтра воскресенье. У христиан только одно воскресенье, а бедный благочестивый еврей должен иметь два воскресенья на неделе. Натан Руфф сегодня отмечает субботу, забыл про дела. Ладно, так положено. Но Гурский, Мацура, Псёрек и этот отщепенец Ицек Шляйхерт, покарай его Господь, – торгуют! Завтра воскресенье. Гурский, Мадура, Псёрек – празднуют. Хорошо. Ицек Шляйхерт продает со двора, потому что он и не еврей, и не гой. Но у Натана Руффа уже второй день магазин закрыт. Сегодня празднует – но что он должен делать завтра? Должен мыслить. Но можно ли измыслить деньги? Очень трудно, потому что другие тоже мыслят. И тоже хотят что-то измыслить. Ой, Боже, Боже. Но я не жалуюсь, могло ведь быть еще хуже, что я говорю, совсем плохо могло быть. Я мог вообще не родиться, мог быть калекой, растяпой, неудачником, мог иметь горе, болезни! Разве я голодаю? Разве моей жене и детям нечего носить и нечего кушать? Разве мой сын Моисей не ходит в гимназию, разве он не лучший ученик в классе? Моше, дитя мое, кто тебе так подбил глаз? Фу, не плачь, ничего у тебя не болит! Вот видишь, ничего не болит! Кто? Какой Рембчинский? Рембчинский, он – шляхтич? Никакой он не шляхтич, самый обыкновенный разбойник! Чтоб ему так глаз подбили! Что, ему никто не подобьет, потому что он самый сильный в классе? Моше, какой ты еще глупый! Нет самых сильных. Всегда приходит такой, что еще сильнее. Да, ты прав, только Господь Бог самый сильный. Иди, побегай, побегай или посмотри, какая большая рыба к шабату плавает в лохани, вся покрытая золотыми чешуйками, вся, от головы до хвоста. Иди, побегай себе, иди. Папа вздремнет немного, потому что всю ночь ехал поездом из города Сосновец…
Старый еврей умолкает, потом ни с того ни с сего начинает напевать, потом снова говорит что-то, но голос теперь звучит глухо, как если бы он где-то спрятался или сидит на дне колодца. Слова делаются совсем непонятными, размываются, расплываются в шуме дыхания. Омульский напрягает слух, старается уловить какой-то звук, кашель, шорох, хоть какой-нибудь знак, который показал бы, что этот человек еще жив. Теперь он не испытывает к умирающему еврею никакой неприязни, надо сказать, что ему сейчас вообще не до чувств, его лишь интересует чужая жизнь. А скорее – жизнь вообще, потому что Омульский боится смерти. Разве он сомневался когда-нибудь, что человек смертен? А может, ему просто кажется, что смерть – это что-то заразное, как грипп или тиф, и потому, когда она рядом, надо держаться настороже? Из-за ширмы слышны странные звуки, будто кто-то стучит по дереву, потом наступает долгая тишина. Зато появляются и нарастают звуки в коридоре: гул пылесоса или какого-то механизма, звуки радио, которые просочились неизвестно откуда и тут же смолкли, звук открывающихся и закрывающихся дверей, разговоры, шаги, далекие и близкие, удаляющиеся и возвращающиеся.
– Пан доцент был уже?
– Нет еще.
– Тогда я на минутку.
Омульский подумал, что кто-то хочет его навестить, может, инженер Валенга или ротмистр Холуба, – и вдруг увидел стоящего напротив него, в ногах кровати, священника. Гость был в белом халате, наброшенном на стихарь, лицо у него разрумянилось, как будто он бежал, казалось, он едва заметно улыбается. Омульский, для которого так важны были вера, Церковь и литургия, столько раз в жизни ходивший к исповеди и к причастию, сейчас испугался и начал мысленно повторять одно и то же: ох, значит, это происходит со мной, да, ну ничего, ничего, ничего, – но, наверное, показал глазами или губами, что не возражает, а может быть, ему даже удалось улыбнуться, потому что священник приступил к исполнению обряда, относившегося к его здешним обязанностям. Продолжалось это, впрочем, недолго – вероятно, священник спешил. Его силуэт сдвинулся вправо и исчез из поля зрения, а Омульский почувствовал себя лучше, испытал облегчение и даже как будто радость. Старый еврей умолк, погрузился в пустоту и темноту вместе со своим странным, смешным и страшным миром и чужим Богом, – а Омульскому белый светлый священник подал руку, даруя во имя Божие истинный покой и прощение.
Теперь Омульский знает, что он стар и болен, что у него почти все уже позади, а то, что ему еще осталось, – в чьих это может быть руках, если не Божиих? Разве Бог, если Он всемогущ, не может применить к Омульскому право помилования и даже сотворить чудо и продлить ему жизнь, а значит – чуточку отдалить смерть?
ГУТМАН, ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ УРОК НЕМЕЦКОГО ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ
Перевод С. Равва
В рассказе о Гутмане все правда, даже его фамилия. Я легко мог бы ее изменить и придумать другую, например, Кляйнман или Гроссман, может, было бы забавней, но зачем? То, о чем я рассказываю, происходило полвека назад в одном не очень большом провинциальном городе. Там имелось все необходимое: учреждения, школы, костелы, вокзал, театр, суд; через город протекала река, его окружали поля, луга и леса. И это – не литературный вымысел. Город был совершенно реальным и – как бы лучше сказать? – вместе со своими жителями, взрослыми и нами, абсолютно самодостаточным, чтобы существовать тогда и продолжать жить в воспоминаниях. Да и зачем что-то менять в той, так хорошо сохранившейся в моей памяти действительности?
Мы с Гутманом учились вместе три года, с первого по третий гимназический класс, а потом он перешел в классическую гимназию, а я – в естественно-математическую. Он был хилый, болезненный и такой маленький, что в кабинете врача, куда нас загоняли два раза в год, осенью и перед летними каникулами, чтобы взвесить, измерить, простучать грудную клетку и проверить глаза, указатель ростомера из-за редкого использования заклинивало в двух местах: на высоте моего роста и тотчас же (ведь наши фамилии соседствовали в журнале) на полметра ниже, когда определяли рост Гутмана. Здоровье у него, как я сказал, было слабое. В школу, особенно весной и осенью, он ходил через пень-колоду, а когда появлялся после двух недель отсутствия, у него были потрескавшиеся губы, глаза блестели, а кожа на лице и на руках выглядела истончившейся, словно с нее только что сняли повязку. Но, как всегда, он был аккуратно одет, чистенький, пахнущий смесью парфюмерии и лекарств: одеколона, туалетного мыла, сиропа от кашля – и как будто бинтами.
Гутман никогда не участвовал в наших потасовках, впрочем, ребята его и не задирали – он не давал повода. От нападок его уберегала тщедушность. Да и кому могли быть интересны его хлипкие мышцы? Победа, не требующая усилий, как известно, не сулит славы. Те немногие, кто к нему иногда цеплялся из-за нелюбви к заморышам, не находили поддержки. У нас еще не было в моде издеваться над слабыми. К Гутману, в общем, хорошо относились; но его не трогали и еще по одной причине: он был единственным, кто в начале года, а иногда и в других ситуациях, на вопрос старосты о вероисповедании мог ответить: «Иудейское». В классе на мгновение наступала тишина, мы почему-то удивлялись, нам становилось как-то неловко, стыдно, но и охватывала гордость – всё вместе – из-за того, что среди нас есть один иудей. В нашем классе, наполовину католическом, наполовину протестантском, Гутман был явлением странным, как сбившаяся с пути перелетная птица.
Учился он, ну, если и не прекрасно, то очень хорошо, его отец не знал с ним хлопот. На уроках сидел тихо, не вертелся, не глазел по сторонам, слушал внимательно и в любой момент был готов ответить на вопрос учителя. Иногда только, особенно после болезни, бывал задумчив, но, едва называли его фамилию, мгновенно вскакивал и толково отвечал. Время от времени (правда, крайне редко), когда мысли Гутмана блуждали очень уж далеко, он отвечал невпопад, не по теме, в классе начинали смеяться, но Гутман тут же спохватывался, исправлялся, и учитель ставил ему высокую оценку. Гутман обладал качеством, которого большинство из нас были лишены: какой-то внутренней потребностью всё знать и очень хорошо учиться.
От физкультуры, то есть уроков физического воспитания, Гутман был раз и навсегда освобожден, но в начале каждого учебного года учитель физкультуры требовал от него медицинскую справку, которую Гутман вручал ему по всем правилам, в конверте. Учитель вдумчиво читал справку, говорил, что Гутман освобожден только от трудных упражнений, но не от присутствия на уроке, и заставлял его приходить и вместе с нами маршировать с песней, шагать на носках, на пятках, наклоняться вперед-назад, выполнять упражнения на растяжку и на равновесие. Потом, когда мы тренировались на брусьях и козле, прыгали через барьеры, играли в баскетбол или гандбол, Гутман сидел себе на скамейке, мог заниматься, читать или наблюдать за нами. В конце урока он клал книжку на скамейку и принимал участие в последнем упражнении: марше с песней. Выстроившись парами, мы обходили зал или спортплощадку размеренным шагом или с легкими подскоками и пели:
Бушует буря вокруг нас,
Не склоним головы.
И нам не страшен бури час,
Сердца наши сильны.
И пусть поют сердца,
Хоть рвутся паруса
[16]
.
Учитель физкультуры был членом «Сокола»[17] и, кажется, не любил нашего школьного доктора, приверженца Пилсудского, а может, наоборот, не помню. Да это и не важно. На школьные экскурсии Гутман не ездил, не принимал участия и в наших прогулках, не ловил с нами рыбу, не ходил за грибами, хотя иногда, воскресным утром (только когда стояла очень хорошая погода), его можно было встретить с отцом и матерью на вокзале. Они отправлялись в какой-то недалекий поход. Отец Гутмана в спортивном костюме и туристических ботинках, на спине рюкзак, в руке палка. Мать в платье а-ля Гретхен, с плетеной соломенной корзинкой в руках. Маленький Гутман снаряженный, как отец, только все у него было меньшего размера: самый маленький, какой только можно купить в спортивном магазине, рюкзачок, малюсенькие туристические ботинки, маленькая палка. Светло-голубая, как у отца, рубашка с отложным белым воротничком, полотняный пиджак. Он был уменьшенной копией отца, адвоката Гутмана. Когда я однажды спросил своего отца, в чем заключается работа Гутмана-старшего, тот ответил: грубо говоря, в том, чтобы постоянно доказывать судьям, что даже самый отъявленный преступник не такой уж плохой человек, как пытается их убедить прокурор. Мой одноклассник Гутман тоже собирался стать адвокатом. Когда в конце второго гимназического года наш классный руководитель для статистики, как он сказал, записывал, кто после третьего класса хочет перейти в гуманитарную, а кто в естественно-математическую гимназию, Гутман встал и не задумываясь ответил, что пойдет в гуманитарную, поскольку там изучают греческий и латынь, без чего нельзя потом поступить в университет на юридический факультет.