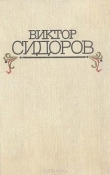Текст книги "Тени"
Автор книги: Корнель Филипович
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
– Понял? Эти, из «Маккаби», пригласили наших к Ментелю. И видно, подсыпали им в пиво такого порошка, от которого воля слабеет.
– Воля слабеет? – переспросил я и почувствовал, как подо мной подогнулись колени. Взять хоть меня: и так с волей не очень, а если ее еще ослабить? Страшно подумать! И я в красках представил себе, что это будет!
– И потом такому человеку ничего уже не захочется. Мышцы обмякнут, ноги станут ватными… – опять на ухо шепнул он.
Я оглянулся на типа со шрамом. Он стоял прямой как струна, с торчавшей в зубах папироской, и щурил свои прозрачные, ясные глаза так, что они превратились в две узкие щелочки; смотрел он на футбольное поле. Я все еще до конца не верил в то, что услышал, но вспомнил, как смотрел раз кино, в котором человек с черной повязкой на глазу вынул из жилетного кармашка бумажный пакетик и подсыпал одному боксеру порошок в лимонад, и тот боксер потом передвигался по рингу как пьяный, загребая заплетающимися ногами, глаза у него были пустые, а лицо – мокрое от пота, и он пропускал удар за ударом, пока в конце концов не свалился, и долго дергался на полу, силясь подняться, затем встал на четвереньки, но опять упал и больше уже не шевелился. Двое подхватили его и унесли с ринга, а судья объявил победу его противника.
Трибуны вдруг взорвались криками и свистом:
– Позор! Позор!
– Судью на мыло! Судью на мыло!
На поле что-то такое произошло, что я проворонил.
Судья, маленький человечек с круглой лысиной на макушке, свистел, указывая на кого-то, и яростно жестикулировал. До конца матча оставалось две минуты. Мы теряли последние шансы. Судью плотным кольцом окружали наши игроки, которые подпрыгивали и орали, показывали на фанерный циферблат, грозили кулаками футболистам «Маккаби».
– Этот шабесгой[12], видать, тоже получил добрых пару злотых от евреев за свое судейство, – сказал кто-то за моей спиной. В этот момент раздался длинный свисток судьи, означавший конец футбольного матча. Все было кончено. Стыд и обида переполнили мое сердце. Мне казалось, что чья-то рука, обхватив, сдавливает мне горло. Я увидел, как со всех сторон, с трибун и стоячих мест, на поле выбегают люди.
Непонятно откуда, словно бы из-под земли, раздался могучий, пронзительный и протяжный рев, прокатившийся по полю огромным шаром:
– Бе-еееей!!!
Этот рев, исходивший из глоток множества людей, звучал так, будто кричал, широко разевая пасть, один человек, но великаньих размеров. Я немного удивился, когда обнаружил, что крик исходит также и из моих слабых легких. И вдруг осознал, что сам я куда-то несусь, на бегу подхватываю подсохшую землю, кучками лежащую по краям кротовых ходов, и бросаюсь этими комьями. Футболисты «Маккаби» мчались впереди нас; они не успели одеться, только похватали свою одежду из раздевалки и теперь улепетывали.
Стадион, обнесенный низким штакетником, через который легко было перескочить, переходил в луг, тянувшийся до самого парка, а парк был уже окраиной города. Беглецы хотели как можно скорей достичь парка и оказаться среди высоких деревьев и густых зарослей, а мы старались им в этом помешать. Однако удалялись они очень быстро. Со стороны, должно быть, это выглядело так, будто они гнались за кем-то, кого уже не было видно, а мы гнались за ними. Бежали по лугу, растянувшись длинной и все удлинявшейся змеей, поскольку многие из нас задохнулись от бега и начали отставать.
Сзади, из-за наших спин, снова послышался крик:
– Бей их!
А еще издалека доносилось скандирование:
– В Па-лес-ти-ну! В Па-лес-ти-ну!
Толпа распалась на две группы. Первыми, ближе всех к преследуемым, бежали те, у кого ноги были крепче, но набралось нас таких немного, человек двадцать. Остальные гурьбой трюхали сзади. Тут я увидел, как у одного футболиста из «Маккаби» слетела на землю шапка, но он за ней не вернулся, а помчался дальше. Я еще подумал: «Чего это он не подбирает свою шапку?» Шапка валялась на земле до тех пор, пока мы не добежали до нее; один из нас наподдал ее ногой.
Мы были уже где-то посредине луга – первые заросли находились недалеко – и почти нагнали убегавших. Все чаще раздавались крики, над головами прокатывался протяжный клич: «Бе-е-ей! Убивай!» И тут до меня донесся голос: он был мне хорошо знаком, а поскольку сильно отличался от повседневных звуков, какие слышишь как фон, то, казалось, проникал повсюду, далеко разносясь окрест, и всегда находил меня. На тропинке стоял мой отец и громко хлопал в ладоши.
Я страшно разозлился из-за того, что отец меня зовет, но одновременно был доволен таким поворотом дела – честно говоря, я уже подустал. Конечно, я опасался, что, если послушаюсь отца, меня посчитают трусом, но, с другой стороны, утешал себя тем, что, скорее всего, это не будет воспринято как бегство с поля боя – ведь меня позвал мой отец. «А-а, да что там, скажу ребятам, что в семье кто-то заболел и мое присутствие дома было просто необходимо».
Размышляя так, я все еще бежал вместе с другими, но постепенно стал от них отставать. Мне хорошо были слышны крики и топот, но доходили они как бы со стороны; я отделился от толпы и по пустому лугу бежал к отцу. Он стоял неподвижно, скрестив руки на груди, и смотрел на меня.
Отец был в коричневом костюме, я уже отчетливо видел его загорелое лицо и седые волосы. Он возвращался с далекой прогулки, которую совершал обычно в эту пору дня; во время прогулки часто останавливался, смотрел, по-моему бессмысленно, на реку, оглядывал деревья и растения. Мне отец казался очень старым: он много знал, но и многого совершенно не понимал. Я мысли не допускал, чтобы он разбирался в том, что происходило на футбольном поле, больше того – что его вообще это интересовало.
Когда я был уже совсем близко, отец повернулся, опустил руки, а затем, заложив их за спину, медленно пошел в сторону города. Я оглянулся: убегавшие уже достигли первых деревьев парка – преследователи их не догнали. Отказались от погони, рассыпались по лугу, некоторые повернули обратно. Двое парней ногами перекидывали друг другу шапку, будто играли в футбол; потом оставили ее лежать на траве.
Я сказал:
– Евреи наколотили восемь голов в наши ворота. Мы проиграли со счетом восемь ноль, – добавил я, чтобы отец как можно лучше понял, о чем речь, и уразумел масштабы нашего поражения.
– Видно, их игроки лучше, – бесцветным голосом сказал отец.
– Да нет же, нет, – горячо запротестовал я, – наши лучше. У нас в команде отличные футболисты! К примеру, братья Пыркош давно бы уже могли играть в гурковской «Силе», если б гнались за длинной деньгой, но они сказали, что как истинные поляки останутся в «Пясте», и не дали себя перекупить. То же самое с нашим голкипером Лободзинским: ему достаточно было слово сказать, и его бы взяли запасным вратарем в один очень хороший клуб, а он не захотел. Молодец, своих не предает! И остальные в нашей команде не хуже. Это мы должны были выиграть у «Маккаби» восемь ноль. Но продули, потому что евреи хитрые и коварные. Они перед матчем пригласили наших к Ментелю – выпить пива, а в пиво им подмешали порошок, от которого становишься безвольным…
Отец повернул голову и взглянул на меня; я тоже посмотрел на отца – мне хотелось узнать, какое впечатление на него произвел мой рассказ. Но взгляд у моего отца был каким-то невидящим, наверно, он думал совсем о другом или не поверил в то, что я говорил. Просто смотрел на меня, будто начиная что-то понимать или припоминать. Я снова с жаром заговорил, поскольку то, что сообщил ему минуту назад, меня самого возбуждало до крайности:
– Понимаешь, такого порошка сыпанули, после которого ничего не хочется, ноги заплетаются, все мышцы становятся ватными и человеку уже ни до чего, просто хочется лечь и уснуть и не играть ни в какой футбол.
Отец мой ни слова не проронил, только отвернул голову и, глядя куда-то вдаль, широко зашагал вперед. Я опустил глаза и смотрел на ноги, стараясь ступать с ним вровень, но это было трудно. Я ускорил шаг, потом побежал вприпрыжку и только так смог поспевать за отцом.
Поскольку отец продолжал молчать, я не унимался:
– Да я сам сначала не хотел верить, пока не вспомнил фильм, в котором одному боксеру подсыпали в пиво такого же порошка, и как он потом выглядел на ринге. А всем известно, какие евреи коварные и злые, наверняка они это сделали, чтоб у нас выиграть.
Отец вдруг остановился у старого дуба, росшего на краю тропинки. Стоял и оглядывал со всех сторон толстый ствол, покрытый шершавой корой, ковырял кору пальцем, потом долго смотрел вверх сквозь раскидистую крону. Я не понимал, с чего вдруг отцу вздумалось здесь задержаться. Дерево мне было хорошо знакомо – в прошлом году мы попытались вдвоем обхватить его ствол, но, как я ни старался, как ни тянул изо всех сил руки, недоставало еще каких-нибудь десяти сантиметров, чтоб наши пальцы могли сцепиться.
Может, отец хочет, чтоб мы снова попробовали обнять ствол? Но мне сейчас не до таких глупостей, меня занимают куда более важные вещи! Впрочем, отец вскоре двинулся дальше, и снова мы довольно долго шли молча. Меня даже стало несколько тревожить его затянувшееся молчание. Я быстро перебрал в мыслях весь вчерашний день и сегодняшний тоже, но так и не вспомнил ничего такого, за что отец мог бы на меня рассердиться. И опять заговорил о футбольном матче:
– Мне один знакомый сказал, что они подкупили судью. Дали ему денег, чтоб им подсуживал. И он постоянно прерывал матч своими свистками: то объявлял нам предупреждения, то назначал штрафные. Если б не его такое судейство, было бы как минимум на три гола меньше. А в конце, когда оставалось несколько минут и мы могли бы еще поиграть, устроил какую-то катавасию на поле, никто не мог понять, в чем дело, и тут матч кончился. Но он тоже получил свое…
Произнеся это, я в очередной раз остро пережил наше несправедливое поражение, и новая волна злости и мстительности прилила к сердцу. Отец снова промолчал. Ускорил шаг и вроде как стал слегка подпрыгивать, будто ноги у него были на пружинах. Я отстал на два-три шага и засмотрелся туда, где текла речка, при каждом повороте образуя у берега маленькие тихие заводи. Во мне боролись противоречивые чувства: ненависть к евреям и пока слабый, но все усиливающийся интерес к рыбкам, которые об эту пору, под вечер, подплывали к самой поверхности воды и застывали там недвижимо – их можно было отчетливо рассмотреть.
А еще в одном месте, возле огромного валуна, была нора ласки; достаточно было подождать пару минут, чтобы из норки показалась веселая мордочка и хитрые черные глазки. Но я был слишком обеспокоен молчанием отца: он упорно шел вперед, не оглядываясь на меня, хотя я сильно отстал; руки у него по-прежнему были заложены за спину. Я тоже ускорил шаг и, поравнявшись с ним, выпалил нечто такое, что частенько слышал от взрослых; слова эти я произнес со смаком, поскольку нашел новый повод злиться на евреев – начал их подозревать в том, что это они поссорили меня с отцом.
– Евреи ведь совсем другие люди, не как мы. Лживые, злые, хитрые, противные. Пусть убираются из Польши, возвращаются туда, откуда пришли. Без них у нас будет спокойнее.
Сказав это, я быстро взглянул на отца, но моя речь не произвела на него никакого впечатления. Он только сделал слабый жест рукой, но, наверно, просто отмахнулся от мухи, прилетевшей с пастбища. И опять не проронил ни слова. Мне вдруг пришло в голову: а что, если он заболел? Но я тут же отбросил эту мысль – мой отец никогда не болел.
На какое-то время я перестал думать о матче, и вся эта заварушка с «Маккаби» начала в моей голове затуманиваться, отдаляться. Мы подходили к любопытному месту – деревянной плотине и шлюзу, от которого отходил мельничный желоб с быстро бегущей водой. Это место я очень любил и всегда проводил здесь много времени, подолгу рассматривая шлюз, замшелые доски, заржавленные зубчатые шестерни. Я шагнул было в сторону плотины, но почувствовал, что меня что-то удерживает. Хотя отец не разговаривал со мной и ничего не собирался мне запрещать, я ощущал, что связан с ним тонкой, но очень крепкой нитью. И сил разорвать эту нить у меня сейчас не было. Я попятился, не побежал к плотине, а продолжил идти рядом с отцом. На душе у меня было тоскливо и неприятно, я чувствовал, что попал в какую-то странную историю.
Вскоре мы уже шли среди редко разбросанных высоких деревьев парка, потом мимо каменных особнячков с железными оградами и запертыми калитками, на которых висели жестяные почтовые ящики; затем свернули на улицу, где стоял наш дом.
Отец пошел медленнее, поскольку улица круто забирала в горку. Я тоже устал. Издалека был уже виден наш дом, легко узнаваемый среди других, как лицо старого знакомого. С горки навстречу нам шел мужчина с дочкой. Мой отец поклонился ему и улыбнулся. При этом он опустил руки, но как только мы разминулись с ними, снова заложил их за спину, и лицо его опять помрачнело.
Улица возле нашего дома не кончалась, продолжалась дальше, все более сужаясь, – и дома на ней становились приземистее, – пока совсем не пропадала среди деревьев. Над верхушками деревьев виднелись далекие склоны холмов. Мы были уже почти у дома, а отец не сказал мне еще ни слова. Это меня сильно тяготило. Хоть мы и шли все медленнее, до наших ворот оставалось всего ничего.
Вдруг мой отец остановился и сказал:
– Самые отвратительные вещи в истории начинались с избиения евреев.
Я очень обрадовался – наконец-то отец со мной заговорил! Случившееся на футбольном поле между «Пястом» и «Маккаби» вдруг показалось чем-то бессмысленным, да я в тот момент об этом даже не думал – важнее всего теперь было поддержать разговор с отцом, и я спросил:
– В истории вообще, то есть всемирной, или в нашей, польской?
Отец взглянул на меня и произнес:
– И польской, и вообще.
МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Перевод Е. Губиной
Июль в жизни Омульского выдался очень неудачным. Все началось с того, что первого же числа уехал Хорват, а тремя днями позже в мир иной отправился сосед Омульского, Рожковский. Хорват, уезжая, предупредил, что пробудет у сына месяц, а вот Рожковскому, промучившемуся два дня в больнице, с того света уже не суждено было вернуться. Омульский приходил навестить соседа, но не был допущен в палату и видел его только через дверь из коридора. Рожковский, маленький и скукожившийся, лежал в прозрачной кислородной палатке, отделявшей его от всего вокруг. Он еще был осязаем, но принадлежал уже не этому миру, будто пребывал в преддверии вечности.
Из больницы Омульский вернулся в прескверном настроении, ночью ему снилось, что сам он лежит в прозрачной палатке из целлофана и задыхается, потому что сломался аппарат, через который поступает кислород. Он мучился в полудреме, осознавал, что это сон, но все же не мог отделаться от ощущения, что с каждым новым вдохом запас воздуха уменьшается. Кое-как ему удалось сползти с кровати и дотянуться до звонка около двери. Дежурная сестра принесла капли, после которых Омульскому стало лучше, и около четырех утра он заснул. В ту ночь в больнице скончался Рожковский.
После похорон Омульский вернулся в свою опустевшую комнату и какое-то время сидел без движения, глядя на кровать соседа. Все вещи Рожковского уже забрали. Исчезла его Божья Матерь Ченстоховская, висевшая на стене, одеяло, подушка и постельное белье, остался только матрас в пятнах. Омульский не любил Рожковского – слишком разные у них были характеры, но, что ни говори, они прожили вместе четыре года и что-то их, несомненно, связывало. Сейчас, когда Рожковского уже не было, Омульский вдруг почувствовал, что ему чего-то не хватает, и задумался, откуда же взялось это чувство. Может, даже если теряешь то, чего не любил, все равно становишься беднее? Раздался стук в дверь. Не дожидаясь ответа, в комнату вошла сестра-хозяйка с новым комплектом постельного белья. Омульский смотрел, как она переворачивала матрас, стелила свежую простыню, потом взбивала подушку, колотя по ней с большим шумом и злостью, будто отыгрывалась за какие-то обиды. Закончив возиться с постелью, женщина поправила перед зеркальцем прическу, посмотрела на Омульского и сказала:
– И чего вы так сидите?
– Сижу… а что мне делать?
– С завтрашнего дня у вас новый сосед, будет веселее.
– Да? А кто такой?
– Не знаю. Вроде бы не из простых. Когда-то был очень богат.
Это сообщение Омульский с виду воспринял равнодушно, но, как только сестра-хозяйка вышла, принялся энергично наводить порядок. Особенно много времени и внимания он уделил шкафу, который, как и все общие вещи, был поводом для постоянного раздражения и взаимных претензий. Там, в самом низу в глубине, Омульский хранил книги и газеты, занимая таким образом и часть соседского места. Рожковский интеллектуальных потребностей не испытывал, никаких книг у него не было, и посему он вынужден был признать превосходство Омульского, а тем самым и его право на дополнительное пространство в шкафу. Сейчас Омульский не преминул это подчеркнуть и даже расширил свои привилегии, заняв дополнительную полку. В скором времени он ожидал несколько интересных книг, обещанных букинистом. Еще он привел в порядок место для посуды, протер клеенку на столе и вынес в мусор какие-то коробки и пакеты, оставленные на этом свете Рожковским. Потом умылся и побрился, чтобы не заниматься этим завтра утром. В тот же день Омульский попытался выведать дополнительную информацию о человеке, которого послала ему судьба, но выяснил только, что фамилия его Шимонович, родом он из-за Буга и пребывание здесь будет оплачивать то ли из собственных средств, то ли из семейных сбережений, так как пенсию не получает. После ужина Омульский отправился в костел, но пробыл там недолго, намереваясь пораньше лечь спать. Ведь ему предстоял непростой день: когда тебе семьдесят пять и ты уже ближе к концу своего пути, чем к началу, то совсем не все равно, с кем придется иметь дело последние несколько лет. Омульский долго не мог заснуть, пытаясь представить, о чем он будет говорить с новеньким, даже заготовил на всякий случай – в зависимости от того, какого возраста окажется новоиспеченный сосед, – несколько фразочек типа: «О, да вы еще будете мне за куревом бегать!» или «Годков нам не столько, сколько в метрике, а столько, на сколько мы себя воспринимаем…». Если Шимонович окажется интеллектуалом, то можно будет выразиться по-другому, более подобающим образом: «Не заглядывайте в свои документы – важен только биологический возраст». Омульский также обдумал несколько тем для разговоров, в которых чувствовал бы себя уверенно. Он решил не скрывать своих политических убеждений и вообще своего мировоззрения, но действовать не спеша, тактично и с осторожностью, чтобы в самом начале не вызвать у соседа подозрений или предубежденности. Для дискуссий, Бог даст, еще будет время. С таким оптимистическим настроем Омульский засыпал в тот день. Страдая бессонницей, он и сегодня уснул не сразу: как обычно, сначала несколько раз проваливался в полудрему, своего рода полузабытье, впрочем очень приятное, из которого выныривал, а очнувшись, думал о том о сем и, наконец, незаметно для себя, погрузился в глубокий и спокойный сон.
Пробуждение, однако, было ужасно. Спал он крепко, потому не слышал, как кто-то вошел. По-видимому, эти двое находились в комнате уже некоторое время. Они сидели на кровати Рожковского: пожилой держал в руке какую-то бумагу, скорее всего анкету, а молодой заглядывал ему через плечо. Но разговаривали они о чем-то своём, стараясь не шуметь:
– Скажи Розе, чтобы вообще ничего мне не присылала, пока сам не напишу.
– Может, хотя бы меду?
– Никакого меду, Боже ее упаси. Я не люблю мед. К тому же мед дорогой, а я не стану есть – придется кому-то отдавать, ну и зачем?
– Тетя Люся говорила, что ты очень любишь селедку…
– Да, люблю, и даже очень, но как ее пошлешь?
– А что такого? Ворброт ведь часто ездит на машине, может завезти. Тоже мне проблема – банка селедки!
Но важно было не то, о чем они разговаривали, хотя и это имело значение, а то, кем они были! Делая вид, что спит, Омульский наблюдал за мужчинами, слегка приподняв веки. Иногда он закрывал глаза, чтобы не выдать себя. Но успел прекрасно рассмотреть обоих: ведь они сидели в трех метрах от него. И прежде всего Омульский разглядел их носы! Но нет, это были не носы, а нечто безобразное – горбатые, торчащие вперед и загнутые вниз, словно клювы хищных птиц. Омульский, который успел повидать много носов и всегда уделял им особое внимание, с ужасом вынужден был признать, что ни с чем подобным до сих пор в жизни не сталкивался. Однако он все еще не верил самому себе; и чтобы окончательно убедиться, что увиденное – не ночной кошмар, в очередной раз зажмурился и долго лежал, погрузившись в темноту, потом не спеша начал открывать глаза: носы были реальны, если можно так выразиться, они жили, уснащая два человеческих лица, покачивались, поворачивались друг к другу и отворачивались, рисуя дуги в воздухе. Их обладатели были похожи как две капли воды – с одинаковыми низкими лбами, удивленно, как у клоунов, приподнятыми бровями и черными выпучеными глазами. У старшего, которого тот, что помоложе, называл дядей, были густые, с проседью, жесткие волосы, напоминающие волосяную набивку матрасов; у молодого – точно такие же, только черные.
Омульский не умел долго притворяться; и так рано или поздно предстояло, как говорится, взглянуть в лицо правде. Он кашлянул и открыл глаза.
– Простите, пожалуйста, мы вас разбудили, – громко сказал старик, раскатисто произнося букву «р» в словах «простите» и «разбудили». Оба привстали, и он добавил: – Позвольте представиться, Евстахий Шимонович, а это мой племянник Кшиштоф, математик.
С большим усилием Омульскому удалось пробормотать:
– Приятно познакомиться. Прошу, располагайтесь. Не буду вам мешать, пойду в уборную.
Было произнесено еще несколько любезностей, но конечно же ни один из заготовленных Омульским вариантов разговора не нашел применения в такой неожиданной ситуации. Он встал, и в пижаме, стирка и глажка которой обошлись ему в двенадцать пятьдесят, отправился в умывальню, захватив с собой полотенце, мыло и бритвенные принадлежности, хотя брился вчера вечером. Далее он все проделывал очень медленно, словно пребывая в трансе.
Желая как можно меньше общаться с новым соседом, в последующие дни Омульский приходил только на завтрак, обед и ужин, а все остальное время проводил в городе, в парке или в дальнем, скрытом за большой пальмой закутке комнаты отдыха, где, впрочем, вместо того чтобы читать, вынужден был постоянно коситься в сторону двери. Утром, когда Шимонович уже сидел за столом и брился (вставал он очень рано), Омульский делал вид, что спит. Лежа с закрытыми глазами, он слышал хруст сбриваемой жесткой щетины – звук, от которого покрывался гусиной кожей и который в конце концов заставлял его подняться с постели. Тогда Шимонович прерывал бритье, здоровался и спрашивал, как ему спалось. Омульскому приходилось отвечать, но в тот же момент у него появлялось чувство, что, если бы под рукой был топор, он рубанул бы это чудовище по голове, по тому месту, где сквозь редкие волосы просвечивала противная, розовато-белая, как тушка птицы, лысина. Конечно же, даже будь у Омульского топор, он все равно бы не ударил, но в любом случае в своем воображении был на такое способен. И это может быть свидетельством силы его переживаний. Захватив бритвенные принадлежности, Омульский шел в туалет, чтобы там продолжать размышления о личности соседа. За обедом, чтобы находиться как можно дальше от него, Омульский выбирал меньшее зло и подсаживался к некоему Холубе, бывшему ротмистру кавалерии и стороннику Пилсудского[13], с которым уже как два года, после нескольких острых полемик, перестал поддерживать отношения. Такая перемена стала за столом локальной сенсацией, а сам Холуба объяснил это потребностью в национальной консолидации, поскольку сам был ярым патриотом и, кроме того, человеком очень общительным. К сожалению, после ужина и даже после долгого сидения в комнате отдыха, после газет, карт, шахмат и телевизора – надо было идти спать, и вот тогда-то для Омульского начинались поистине часы пыток. Так или иначе, соседи вынуждены были встречаться в общей комнате. Омульский выбирал в библиотеке самые толстые книги, надеясь, что они оградят его от болтовни Шимоновича. Какая наивность! Новый сосед ничем не напоминал предыдущего, Рожковского, который мог молчать часами. Шимонович был ужасно бесцеремонным и болтал без умолку. Ему нисколько не мешало, что Омульский его не слушает – он говорил сам с собой и о чем угодно: о сломанной дверной ручке, гвозде, торчащем из стула, погоде, голубях. Обо всем, что взбредет в голову. А когда замолкал – включал радио. Маленькую черную коробочку, из которой доносились скрипучие, совсем непохожие на музыку звуки. Еще и приговаривал: «О, это из „Нибелунгов“, часть вторая, сейчас будет: бум! бум! бум-та-та-та-та! А сейчас: тира-рира-рира ра – и снова бум, бум, бум, бум. Но я предпочитаю Бетховена и Гайдна. Ну-ка, поищем, из Вены часто передают. О, есть, „Лондонская симфония“ – ах, какая прекрасная. Вы только послушайте: там-там-тарам, там, там, там, там, там, тира-ра…»
Кошмар! Однако Омульский сумел придумать, как отключаться от музыки и неиссякаемого потока слов Шимоновича. Он прижимался одним ухом к подушке, а другое прикрывал рукой. Благодаря этой двойной блокаде ужасные звуки радио и болтовня соседа становились почти неслышными, и уж кое-как удавалось их вынести, особенно если думать о чем-то своем. Самыми тяжелыми были первые два дня, когда необходимо было обсудить детали, касающиеся совместного проживания. Омульский не представлял себе, что сможет вынести общество Шимоновича дольше недели, и с тем большим нетерпением ждал возвращения Хорвата. Это был единственный человек, с которым он свободно общался и которому мог предложить что-то конкретное: например, поменяться комнатой с его соседом. Поэтому, как говорится, Омульский набрал в рот воды, молчал и ждал Хорвата, а пока хитрил и старался не попадаться новому сожителю на глаза. В первый же вечер Шимонович пожелал получить в свое распоряжение половину шкафа, чтобы иметь возможность распаковать два больших чемодана. Когда Рожковский был жив, Омульский, как известно, кроме своей половины шкафа использовал еще и всю нижнюю полку, где хранил книги и газеты. Его привилегированное положение сохранялось до последнего дня жизни Рожковского, неужели сейчас придется от этого отказаться? Но из тактических соображений пришлось уступить. Омульский достал свои книги и газеты и положил их на шкаф. Шимонович, беззастенчиво наблюдавший за его действиями, в какой-то момент произнес:
– И вы еще политикой интересуетесь? Я-то уже давно забросил…
Омульский пробурчал что-то себе под нос. Ясное дело: даже если бы Шимонович придерживался других политических взглядов, но был бы не тем, кем был, Омульский вступил бы с ним в дискуссию и попытался переубедить. В данном же случае приходилось молчать. Сейчас Омульский старался просто не думать о Шимоновиче. Он отгонял любую мысль о нем, чтобы не мучиться. (Как-то даже поймал себя на том, что рукой отмахивается от этих назойливых размышлений, словно от роя комаров. «Черт возьми! Только бы меня не приняли за сумасшедшего!» – подумал он и с тех пор очень за собой следил.) Омульский замкнулся, ушел в себя, не отзывался и только и считал дни до возвращения Хорвата, который, как назло, задерживался. Должен был приехать в последний день июля, самое позднее – первого августа, но и даже второго так и не появился. Омульский очень беспокоился по этому поводу, хотя, как ни странно, надежда на скорую встречу крепчала. Ведь было бы хуже, если б сейчас была только середина июля, – а на дворе уже август, то есть Хорват вот-вот должен приехать! И наконец Хорват приехал.
Четвертого августа рано утром Омульский, как обычно, делал вид, что спит, а Шимонович, качаясь из стороны в сторону, уже поднимался с колен после долгой, чересчур долгой и нарочитой для истинного религиозного чувства молитвы (а может, он просто дремал?) и, видимо, собирался приступить к бритью. Раздался стук, и в приоткрытых дверях показалась голова Хорвата. Загорелый, в голубой расстегнутой на груди рубашке он выглядел на десять лет моложе. Омульский сел на кровати и произнес:
– Позвольте вам представить, мой друг, министр Тадеуш Хорват.
Хорват посмотрел на Шимоновича и воскликнул:
– Секундочку, только ничего не говорите! Пан Шимонович из Хорылки, не так ли?
– Да, да, из бывшей Хорылки… Сейчас это Горилка.
– Значит, у меня еще хорошая память! Я у вас два раза охотился на уток: осенью, кажется, в двадцать пятом, перед покушением на Пилсудского, вместе с генералом Юзефом Халлером[14], потом еще раз с Корским и Болтучем в тридцать первом. Мы тогда у вас гору уток настреляли.
– Не беда. Уж лучше так, чем если бы они угодили в лапы красным…
Они обнялись и расцеловались в обе щеки. Омульский встал, достал из шкафа мыло и бритвенные принадлежности и пошел в умывальню. Он долго стоял там с полотенцем на плече и смотрел в окно на зелень парка. Садовник подметал дорожки, между деревьями поблескивали стекла парников. В небе за самолетом тянулась длинная белая линия, словно рисуемая мелом на доске. Омульский ни о чем не думал. И потом, когда во время бритья рассматривал вблизи собственное лицо, не находил никаких тем для размышлений. Он чувствовал себя опустошенным, одураченным, униженным. Брился и намывался Омульский долго и тщательно, растянув время пребывания в уборной вплоть до самого звонка на завтрак. Через пару минут после этого он услышал свою фамилию в коридоре, и в умывальню вошел Хорват.
– Что с вами? Мы уж думали, вам стало плохо!
Омульский медленно складывал приборы для бритья, старательно вытирал станок и лезвие.
– Этот Шимонович…
– Что? Нет, пошел завтракать…
– Скажите, пожалуйста, он что, того?
– В каком смысле «того»?
– Ну, ветхозаветный…
– Что вы такое несете, какой ветхозаветный?
– То есть – еврей?
– Чтоб вам быть таким арийцем, как он!
– Пан Тадеуш!
– Как знать, как знать, вот если получше покопаться… Ладно, шутки в сторону… А что касается пана Шимоновича, то он двоюродный брат епископа Стефановича. Их матери были родными сестрами.
– Стефановича? Того, из Львова?
– Да, того самого.
Хорват вошел в клозет и оттуда крикнул:
– Ну, встретимся за завтраком…
– Я не буду завтракать, иду на рентген, – соврал Омульский.
– Что-то серьезное?
– Надеюсь, нет. Встретимся за обедом, я бы хотел с вами поговорить.