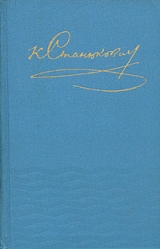
Текст книги "Том 5. Повести и рассказы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
– Очень мне нужен ваш табак, – отвечал обыкновенно Васька, делая обиженную физиономию… – Я и сам имею запас, слава богу… Мне вашего не надо.
– То-то, оставь только меня без папирос! – значительно произносил адмирал.
Пока в гардемаринской небольшой каюте, в которой помещалось девять человек, шли толки о том, каким чтением доймет сегодня адмирал и не огорошит ли он приказанием перевести какую-нибудь английскую статейку, – гардемарин Ивков перебирал плоды своей музы, поспевавшей адмирала, и, выбрав из многочисленных стихотворений два более или менее цензурных, решил, согласно обещанию, показать их сегодня адмиралу. «Пусть не думает, что я испугался. Пусть прочтет».
Адмирал не уходил в каюту, а разгуливал себе по правой (почетной) стороне шканец, к крайнему неудовольствию рыжего мичмана Щеглова, вступившего на вахту с восьми часов, – того самого коварного мичмана, который до последнего времени был чичероне и переводчиком у Владимира Андреевича Снежкова и поступил так бессовестно после обеда с англичанкой, потерпевшей кораблекрушение.
Тут же на мостике стоял и командир «Резвого», капитан второго ранга Николай Афанасьевич Вершинин, представительный и высокий брюнет лет сорока, с красивым и румяным, добродушным и несколько истасканным лицом, посматривая на адмирала с тою скрытой неприязнью, какую почти всегда питают командиры судов к флагманам, сидящим у них на судах. А этот флагман был еще такой беспокойный!
Выждав несколько минут в ожидании, не будет ли на нынешний день каких-нибудь особенных приказаний, Николай Афанасьевич наконец спустился вниз, к себе в каюту, и, приказав своему вестовому подавать-чай, опустился на диван с видом человека, не особенно довольного своей судьбой, и разлегся в ленивой позе.
Это был хороший моряк, знающий свое дело, смелый и находчивый в критические минуты, но ленивый, беспечный и «слабый» капитан, не пользовавшийся большим авторитетом у матросов и офицеров и несколько распустивший последних. Он не заботился о корвете, предоставив все бремя работ старшему офицеру, и командовал судном что называется спустя рукава. Наверху он показывался редко и большую часть времени лежал у себя на диване с книгой в руках, и только когда в море свежело и начинался шторм, Вершинин сбрасывал свою лень и по целым часам выстаивал на мостике, спокойный, зоркий и внимательный. Проходила опасность, и он снова скрывался к себе в каюту или заходил в кают-компанию поболтать с офицерами. Большой жуир, он очень любил долгие стоянки в портах, особенно в таких, где можно было найти много развлечений и – главное – хорошеньких женщин, – и в таких портах все время проводил на берегу, почти не заглядывая на корвет, зная, что там неотлучно находится старший офицер Михаил Петрович. На берегу Вершинин кутил, и об его грандиозных кутежах и похождениях ходили целые легенды, не всегда соответствовавшие достоинству командира русского военного судна. Зато целый цветник хорошеньких женщин разных национальностей оплакивал отъезд такого веселого и щедрого русского капитана и в Шербурге, и в Лисабоне, и в Рио-Жанейро, и в Каптауне, и в Батавии, и в Сингапуре, и в Гонконге. Довольны были заходами в порты и долгими стоянками, конечно, и офицеры, а высшее морское начальство удовлетворялось рапортами Вершинина, объяснявшего свои заходы и долгие стоянки то безотложностью починок, то необходимостью дать «освежиться», как выражаются моряки, команде после бурного перехода. И потому в рапортах Вершинина переходы всегда сопровождались штормами.
Веселый, мягкий и добродушный сибарит, Вершинин не был особенно разборчив в средствах для удовлетворения потребностей своей широкой барской натуры, и так как жалованья ему не хватало, то он с легкомыслием слабого, неустойчивого человека подписывал сомнительные счета поставщиков и не брезговал разными «экономиями».
Нечего и говорить, что с прибытием адмирала, да еще такого беспокойного, как Корнев, окончились «веселые дни Аранхуэца». Приходилось Николаю Афанасьевичу подтянуться, держать ухо востро и не смотреть на каждый порт, как на Капую. Приходилось более заниматься службой, быть деятельным капитаном и выслушивать адмиральские выговоры.
И адмирал и капитан, как две совершенно разные натуры, далеко не симпатизировали друг другу… Только общая им обоим «морская жилка» несколько примиряла их. Тем не менее адмирал не раз уже подумывал, как бы под благовидным предлогом «сплавить» Вершинина, а Николай Афанасьевич, в свою очередь, нередко мечтал о той счастливой минуте, когда беспокойный адмирал пересядет на одно из других судов эскадры и хоть на некоторое время даст вздохнуть.
VIII
Не прошло и четверти часа, как капитан благодушествовал за чаем, закусывая бутербродами с тонкими ломтиками ветчины, как в капитанскую каюту влетел вахтенный унтер-офицер и доложил:
– Вашескобродие! Адмирал приказали в дрейфу ложиться!
«И чаю не даст напиться как следует! И с чего это ему вздумалось вдруг ложиться в дрейф?» – недоумевал Вершинин и, недовольный, что его оторвали от чая, торопливо вышел наверх, застегивая на ходу нижние пуговицы белоснежного жилета, и поднялся на мостик.
– Зачем это в дрейф? – тихо спросил он мичмана Щеглова.
– Не знаю, Николай Афанасьич.
На крюйс-брам-стеньге уже развевались позывные «Голубчика», и вслед за тем взвились свернутые маленькие комочки и, поднятые до верха мачты ловким движением руки сигнальщика, развернулись пестрыми флагами, обозначавшими сигнал: «лечь в дрейф».
В ту же секунду вахтенный мичман крикнул: «Свистать всех наверх!» Через минуту вся команда была наверху, и старший офицер взбегал на мостик.
И как только сигнал был спущен, на корвете и на клипере одновременно началось исполнение маневра: убраны лишние паруса, фор-марселя поставлены против ветра, а грот-марселя по ветру, и минут через восемь оба судна остановились, почти неподвижные, покачиваясь на океанской зыби, в недалеком расстоянии друг от друга.
Адмирал стоял на полуюте, посматривая в бинокль на «Голубчик». Невдалеке от адмирала находился флаг-капитан Аркадий Дмитриевич, как всегда – чистенький, прилизанный и прифранченный, в своей адъютантской форме, но душившийся после Сан-Франциско уже не опопонаксом, а пачули, которые пока не вызывали еще неудовольствия адмирала. У мачты, около сигнальных книг, разложенных на люке, и вблизи двух сигнальщиков, бывших у сигнальных флагов, стоял, не спуская быстрых бегающих глаз с адмирала, его флаг-офицер, мичман Вербицкий, шустрый и бойкий молодой человек, отлично приспособившийся к характеру беспокойного адмирала к всегда горевший, казалось, необыкновенным усердием. Его неглупое, озабоченное и серьезное в эту минуту лицо замерло в том служебно-восторженном выражении, которое словно бы говорило, что флаг-офицер готов распластаться ради службы и своего адмирала.
И адмирал благоволил к Вербицкому, – что не мешало, конечно, разносить своего флаг-офицера чаще, чем кого-нибудь другого, благо он был всегда под рукой, – относился к нему с чисто отеческой нежностью и не предвидел, конечно, какой черной неблагодарностью отплатит ему этот шустрый молодой человек впоследствии.
– Аркадий Дмитрич! Прикажите поднять сигнал, что мичман Петров с «Голубчика» переводится на «Резвый».
– Где, ваше превосходительство, состоится перевод – в Нагасаки?
– Кто вам сказал, что в Нагасаки? – резко крикнул адмирал, раздраженный этим, по его мнению, дурацким вопросом, и уставил на «придворного суслика» свои круглые глаза, выражение которых, казалось, говорило: «И какой же ты, братец, дурак!»
– Я полагал, ваше превосходительство…
– А вы не полагайте-с!.. Перевод состоится здесь же, сейчас… Пусть Петров переберется через полчаса…
– Слушаю, ваше превосходительство, – отвечал флаг-капитан, изумленный этим неслыханным переводом с одного судна на другое среди океана.
«Положительно сумасшедший!» – решил «придворный суслик» и медленно, слегка изгибаясь туловищем, направился к флаг-офицеру передавать адмиральское приказание.
Эта тихая походка, совсем непохожая на ту, быструю и торопливую, почти бегом, какой обыкновенно ходят моряки, исполняя служебные поручения, мгновенно озлила беспокойною адмирала и, так сказать, переполнила чашу его нерасположения к флаг-капитану. Вся его вылощенная, прилизанная худощавая фигура показалась ему донельзя оскорбляющей его морской глаз и понятие о бравом моряке.
– Этакая…
Он, однако, благоразумно воздержался от произнесения весьма нелестного эпитета женского рода и крикнул, точно ужаленный:
– Аркадий Дмитрич! На военных судах не ползут, как черепахи-с, а бегают-с!..
Флаг-капитан рванулся, точно лошадь, получившая шенкеля.
Распоряжение адмирала удивило и капитана, и всех офицеров, не плававших раньше с ним.
И Николай Афанасьевич, оторванный от чая и бутербродов, сердито недоумевал: к чему это на «Резвый» назначают еще офицера, когда их и так довольно.
Старший офицер скоро разрешил его недоумение.
– От нас кого-нибудь переведут… Он, верно, не решил еще – кого… Смотрите – думает! – проговорил Михаил Петрович, оглядываясь на адмирала.
Действительно, адмирал ходил по юту в каком-то раздумье.
Наконец, видимо, решивши вопрос, он подозвал капитана и сказал:
– Лейтенант Николаев переводится на «Голубчик»… Потрудитесь приказать ему через полчаса собрать все свои вещи и быть готовым уехать на баркасе, который придет с «Голубчика».
– Есть! – отвечал капитан.
– Да пока мы лежим в дрейфе, пусть команда выкупается в океане! – прибавил адмирал. – Вербицкий! Сделайте сигнал: команде «Голубчика» купаться!
Когда маленький лейтенант с черными усами узнал о своем переводе, он, несмотря на всю свою философию и уверения, что привык к адмиральским разносам, был весьма неприятно изумлен и мысленно изругал адмирала, совсем не сообразуясь с правилами морской дисциплины.
Еще бы! Вместо приятной надежды на Сидней и Мельбурн со всеми их удовольствиями – иди в Новую Каледонию… Ах, глазастый черт! А главное, ведь он второй год плавает на «Резвом». Привык и к доброму графу Монте-Кристо, как называли на «Резвом» подчас капитана Николая Афанасьевича, и к славному старшему офицеру, и к сослуживцам, и к каюте, и к Ворсуньке, своему вестовому… И вдруг… Но сердись не сердись, а надо поскорей собираться.
И моряк, которого судьба была так круто изменена беспокойным адмиралом, побежал вниз, в свою каюту, в которой обжился и где все было так удобно прилажено и убрано, и стал с помощью своего вестового Ворсуньки укладываться с тою быстротой и стремительностью, с какими собирают свои пожитки люди, застигнутые пожаром. Сапоги летели к японской вазе, мундир – к сапожным щеткам, и многочисленные фотографии хорошенькой пухлой блондинки (не то невесты, не то кузины – это был секрет лейтенанта) – к грязному белью… Разбирать было нечего. Поневоле приходилось профанировать святые чувства («прости, Нюточка!»)… Всего полчаса времени («ах, проклятый брызгас!»). Надо еще покончить кое-какие делишки: получить у ревизора жалованье за месяц и остаток порционных, отдать старшему артиллеристу сорок долларов долгу и получить – хотя и сомнительно, что сейчас получишь, – десять долларов с одного гардемарина… Надо, наконец, проститься с товарищами.
– Вали, вали, Ворсунька!..
– Боязная штучка, ваше благородие, – говорил вестовой, не зная, куда деть изящный веер из перьев, которым Нюточке предстояло обмахиваться в кронштадтском собрании.
– Заверни в бумагу или… куда, в самом деле, положить?.. Клади в треуголку…
– Как бы не повредить штучку… Штучка нежная, ваше благородие.
– Так заверни, Ворсунька, в одеяло… Жаль мне, брат, что я с тобой расстаюсь…
– И мне жалко, ваше благородие… Славу богу, жили с вами хорошо. Обиды от вас не видал…
– И ты мне служил хорошо… Вот возьми себе этот пиджак… и сапоги старые бери… Ах, Ванька-антихрист! Ах, чертова перечница!
– Премного благодарны, ваше благородие! – проговорил вестовой и подумал: «Ишь как он отчесывает адмирала!»
– Счастливец вы, Василий Васильевич, – проговорил Снежков, останавливаясь у порога каюты.
– Покорно благодарю, хорошо счастье! Вы вот все пойдете в Австралию, а я…
– Так зато, подумайте: ведь не будете адмирала видеть… За одно это я охотно пожертвую всякими Австралиями… Ей-богу…
– Вам надо, Владимир Андреич, от нервов лечиться…
– Вам вот смешно… Уж я бром принимаю, а как он заорет…
– Febris gastrica?
– То-то и есть… Я бы с восторгом с вами «перепустился» [8]8
Переменился. (Прим. автора.)
[Закрыть].
– Суньтесь-ка к адмиралу… Попросите его…
– Разве это возможно! – вздохнул Снежков.
– То-то невозможно… И кто решится ему об этом сказать… Наш Монте-Кристо у него не в фаворе… Что, Ворсунька, готово?..
– Сию минуту, ваше благородие…
– Ну, простимся, Владимир Андреич… Жаль мне расставаться с нашей кают-компанией.
Оба лейтенанта обнялись и трижды поцеловались.
Переведенный лейтенант побежал проститься с остальными.
Пока шли сборы, команда купалась.
В море был опущен большой парус, укрепленный к борту веревками со всех четырех углов паруса. В этом громадном мешке шумно и весело плескались голые мускулистые тела с побуревшими от загара лицами, шеями и руками. Выплывать из-за этого мешка было строго воспрещено, чтоб не попасть в чудовищную глотку акулы.
Матросы были очень довольны этим нечаянным купаньем. Куда оно лучше и приятнее, чем эти ежедневные обливания из брандспойта. И среди скученных тел шли веселые шутки, раздавался смех… Все только находили, что очень тепла вода и нет от нее озноба, как в русских реках и озерах. Кто-то сообщил, что купаться выдумал адмирал, и его за это хвалили. Нечего говорить, заботлив он о матросе. Господ донимает, муштру им задает, а матроса жалеет. И прост, – видно, что не брезгует простым человеком…
– Выходи, ребята! Шабаш купаться! – прокричал боцман, получив приказание с вахты.
И матросы один за другим поднимались по выкинутому трапу и, ступив на палубу, словно утки, отряхивались от воды и бежали на бак одеваться.
Адмирал уж начинал обнаруживать нетерпение: он то и дело посматривал на часы и взглядывал, не спускают ли на клипере баркаса. Ужасно копаются… Долго ли мичману собраться?.. Не для того ли он и сделал это перемещение офицеров, чтобы приучить господ офицеров быть всегда готовыми?.. Мало ли какие случайности бывают в море, особенно в военное время… Пусть привыкают… Пусть знают, что и океан не может служить препятствием…
– Михаил Петрович! – обратился он, переходя с полуюта на мостик, к старшему офицеру.
– Что прикажете, Иван Андреич?
– Нынче у мичманов целые сундуки вещей, что ли? Отчего Петров не едет, а… как вы думаете?
– Еще не прошло получаса, Иван Андреич.
– Когда главнокомандующий приказал мне в Крымскую войну ехать на Дунай, я через двадцать минут уже сидел в телеге, а вы мне: полчаса… Мичману перебраться с судна на судно и… полчаса?..
– Да вы сами назначили этот срок, ваше превосходительство!
– Ну, назначил, а он, как бравый офицер… Ну если бы во время сражения… понимаете… тоже полчаса?
Адмирал не отличался особенным красноречием, и речи его не всегда бывали связны… Вдобавок, во время возбуждения он слегка заикался…
– Во время сражения не надо брать с собой багажа, Иван Андреич…
– Какой у мичмана багаж… Вы, Михаил Петрович, вздор говорите-с…
И адмирал круто повернулся от старшего офицера, к которому очень благоволил, как к отличному моряку…
Уж он в нетерпении стал хрустеть пальцами, сжимая обе руки, как от борта «Голубчика» отвалил баркас и под парусами, то скрываясь в большой океанской волне, то вскакивая на нее, несся к корвету.
Лицо адмирала прояснилось. Баркас шел лихо, и паруса стояли отлично.
«И из-за чего это он каждый день кипятится? Из-за чего никому не дает покоя? – размышлял Николай Афанасьевич, принужденный оставаться наверху, вместо того чтобы кейфовать внизу. – Кажется, и карьера блестящая – человек на виду, всего достиг, чего только можно в его годы, командуй спокойно эскадрой, а то нет… всюду сует свой нос, неизвестно для чего переводит в океане офицеров, ссорится с высшим начальством, допекает гардемаринов… Чего ему неймется!»
Так размышлял сибарит Николай Афанасьевич и нетерпеливо ждал: скоро ли окончится вся эта суматоха и он напьется чаю, как следует порядочному человеку.
Баркас пристал к борту, и мичман Петров далеко не с радостной физиономией представился капитану.
– Очень рад служить вместе! – приветливо и добродушно промолвил капитан.
– А вы, господин Петров, отлично шли на баркасе… Здравствуйте… – Адмирал протянул руку. – Только зачем вы так долго собирались?.. Не хотели, что ли, на «Резвый»? – пошутил адмирал.
«Очень даже не хотел!» – говорило кислое лицо мичмана.
– Я, ваше превосходительство, кажется, скоро собрался…
– А мне кажется, что долго-с, – резко проговорил адмирал.
Мичман смутился.
– Надеюсь, вы будете так же хорошо служить на «Резвом», как на «Голубчике»… Мне вас хорошо аттестовал ваш командир… Будем, значит, приятелями! – поспешил подбодрить смутившегося мичмана адмирал, только что его оборвавший… – Можете идти.
Когда маленький лейтенант явился откланяться адмиралу, он сказал:
– Прошу не думать, что я перевожу вас по каким-нибудь причинам. Никаких. Считаю вас хорошим офицером… Вам будет небесполезно поплавать на таком образцовом военном судне, как «Голубчик»… С богом, Василий Васильич…
И адмирал крепко пожал его руку.
Через четверть часа оба судна снялись с дрейфа и, поставив все паруса, снова понеслись по десяти узлов в час.
Подвахтенным просвистали вниз, и капитан наконец спустился к себе в каюту и мог основательно заняться чаем.
Ушел к себе и адмирал и через час послал Ваську пригласить к себе господ гардемаринов и кондукторов.
Увы, не «промело»!
Они думали, что «прометет», что адмирал после сегодняшнего «дрейфа с сюрпризами» забудет о своем приглашении-приказе (случалось, он забывал, и они, конечно, еще более забывали), и, следовательно, злосчастным гардемаринам можно избавиться от собеседования, а тут этот Васька со своей нахальной мордой и с красной жокейской фуражкой в руках… Улыбается, подлец, и с наглой развязностью, фамильярным тоном говорит:
– Не угодно ли, господа, пожаловать к адмиралу. Слезно просит-с. Ждет не дождется!
Надо идти.
Припомнили, кому быть сегодня «жертвами», то есть сидеть по бокам адмирала («жертвами» бывали все по очереди) и чаще других подвергаться экзамену, решили не давать пощады адмиральским папиросам и, приведя свои костюмы и прически в более или менее приличный вид, двинулись из каюты.
Сбитой кучкой, не особенно торопясь, прошли они шканцы, имея «жертв» в авангарде, и за минуту еще жизнерадостные и веселые лица молодых людей имели теперь несколько удрученный вид школьников, шествующих к грозному учителю.
Только лицо Ивкова дышало отважно-решительным выражением, и он ощупывал в боковом кармане своего люстринового сюртука несколько листиков с обличительными стихотворениями и почему-то воображал себя то в роли маркиза Полы перед Филиппом, то в положении посла князя Курбского перед Иваном Грозным.
IX
– Очень рад вас видеть… эээ… очень рад. Прошу садиться, господа! – говорил, по обыкновению слегка растягивая, словно приискивая слова, приветливым тоном адмирал, когда несколько молодых людей, в возрасте от шестнадцати до двадцати лет, вошли гурьбой в адмиральскую каюту.
Судя по неестественно серьезным и несколько напряженным выражениям почти всех этих юных, свежих, жизнерадостных загорелых лиц, безбородых и безусых или с едва пробивающимися бородками и усиками, гости, с своей стороны, далеко не испытывали особенной радости видеть любезного хозяина и что-то долго топтались, складывая свои фуражки на бортовой диван, у входа в каюту.
– Да что вы толчетесь там? Садитесь, прошу вас! – крикнул адмирал с нетерпеливой ноткой в голосе.
Молодые люди не заставили, конечно, более повторять приглашения, они бросились со всех ног, словно испуганный косячок жеребят, и торопливо уселись вокруг круглого стола, на котором лежало несколько книг и журналов и стояла привлекательная большая коробка зеленого цвета с папиросами. Очередные «жертвы» заняли места по обе стороны адмирала.
Воцарилась мертвая тишина.
Адмирал обводил ласковым взглядом своих «молодых друзей» и, казалось, несколько недоумевал: отчего они не чувствуют себя так же хорошо и приятно, как чувствовал он себя сам в это прелестное утра. И это ему не нравилось.
Действительно, все эти юнцы, обыкновенно веселые и шумливые, какими только могут быть молодые люди на заре жизни, полные надежд, теперь сидели притихшие, с самым смиренным видом, напоминая собой шустрых и проказливых мышей, внезапно очутившихся перед страшным котом.
Положим, он добродушно и, по-видимому, без всякого злого умысла глядит своими большими, блестящими черными глазами, но все-таки… кто его знает?..
Только Ивков, в качестве всеми признанного либерала, да его большой приятель, добродушнейший и милейший штурманский кондуктор Подоконников, который, проглотив с восторгом в Сан-Франциско «Отцов и детей», отчаянно корчил Базарова, стал признавать одни естественные науки и, внезапно приняв решение поступить после плаванья в медико-хирургическую академию, надоедал доктору просьбами прочесть ему несколько лекций по физиологии и анатомии, которые тот, разумеется, основательно позабыл, – только оба эти молодые люди старались принять самый непринужденный и независимый вид (дескать, мы не очень-то боимся глазастого черта) и по временам бросали на своих менее мужественно настроенных товарищей сдержанно-иронические взгляды, которые, казалось, говорили:
«Чего вы трусите? Совсем это недостойно свободных граждан!»
«Презренные рабы жестокого тирана!» – мысленно вдруг проговорил Ивков, находившийся, очевидно, в несколько приподнятом настроении человека, собирающегося читать плоды своей гражданской музы самому обличаемому адмиралу и готового, если придется, пострадать за свой «суровый и свободный стих».
Эта эффектная фраза, внезапно пришедшая Ивкову в голову под влиянием недавно прочитанных стихов Виктора Гюго, хоть и кольнула его художественное чутье своею фальшью – особенно в виду коробки с папиросами на столе гостеприимного «жестокого тирана», которого – невольно припомнил Ивков – к тому же и матросы любили, – тем не менее соблазнила семнадцатилетнего поэта, как пикантное начало нового цивического произведения.
И, увлеченный им, он уже мысленно слагал следующие строки, не лишенные, по его не совсем скромному мнению, некоторой значительности:
Презренные рабы жестокого тирана,
О заячьи сердца, лишь знающие страх,
Очнитесь поскорей и жалкого титана,
Как древле Перуна, повергните во прах.
Создавая эти строки, Ивков в поэтическом экстазе, по обыкновению, морщил лоб и, сам того не замечая, строил необыкновенные гримасы, свидетельствовавшие о некоторой мучительности поэтических родов.
И «жестокий тиран», заметивший страдания Ивкова, участливо и необыкновенно ласково спросил:
– Что с вами, Ивков?.. Вы нездоровы?.. У вас такой вид, будто желудок не в порядке, а?.. Идите скорей к доктору…
Все поэтическое настроение сразу пропало у Ивкова, и он ответил, стараясь скрыть свое стыдливое чувство обиженного поэта под сдержанной сухостью тона:
– Я совершенно здоров, ваше превосходительство.
И уж более не продолжал слагать стихов в присутствии адмирала.
А Подоконников, в своем неудержимом стремлении походить на Базарова во что бы то ни стало и не признавать ничего, кроме естественных наук, пошел еще далее, и не в области мысли, а в сфере действий. Находя, что сидеть, как все сидят, не вполне прилично Базарову, он слишком откинулся назад на стуле и чересчур высоко закинул ногу на ногу, приняв не совсем естественную и вовсе неудобную, но зато демонстративную позу человека, окончательно решившего, что после него будет расти лопух, а потому теперь ему на все «наплевать», и был очень доволен, что нисколько не стесняется и в присутствии адмирала походить на Базарова.
Но – увы! – внутреннее торжество юного Базарова длилось всего несколько мгновений, так что никто из товарищей не успел заметить и ахнуть от такого бесстрашия Подоконникова.
Случайный взгляд адмирала, скользнувший по фигуре молодого человека не без некоторого соболезнования к стеснённости его положения, смутил робкую душу юного штурмана, заставив немедленно опустить «задранную» ногу, принять более удобную позу и в то же время покраснеть до самых корней своих рыжих волос от смущения и досады за свой страх перед этим «отсталым отцом» и за свое, как он думал, «позорное малодушие».
О, какой он трус и как ему далеко еще до Базарова! Необходимо изучить естественные науки! И какой, однако, свинья этот доктор Арсений Иванович! Он, видимо, не хочет познакомить его ни с физиологией, ни с анатомией, ссылаясь на занятия, а между тем решительно ничего не делает по целым дням и только играет в шахматы или рассказывает глупейшие анекдоты.
– Что же вы не курите, господа? Курите, пожалуйста… Папиросы к вашим услугам, – с обычным своим радушием предлагал хозяин.
И с этими словами он взял коробку, чтобы любезно передать ее гостям, как вдруг потряс ею в руке, заглянул внутрь и гневно крикнул:
– Васька!
Окрик этот был так металличен и пронзителен и так напоминал адмирала наверху во время разносов, что все невольно вздрогнули. У «жертв» от этого крика чуть не лопнули барабанные перепонки, как они утверждали впоследствии.
– Васька! Скотина!
Через секунду-другую влетел Васька, и теперь уже не в ситцевой рубахе и не в туфлях на босые ноги, а в обычном своем щегольском виде адмиральского камердинера, который он принимал после подъема флага, долго и тщательно занимаясь своим туалетом и поражая своим франтовством писарей и вестовых.
Он был в черном люстриновом сюртуке, перешитом из адмиральского, в белой манишке с высокими воротничками, в голубом галстуке, в котором блестела аметистовая булавка в виде сердечка, при часах с толстой серебряной цепочкой, украшенной несколькими брелоками, и в скрипучих ботинках. Его кудластые, с пробором посредине волосы лоснились и пахли от обильно положенной помады.
Он благоразумно остановился в нескольких шагах от адмирала, на случай неожиданной вспышки, и недвижно замер, подавшись вперед корпусом и не без лакейской грации изогнув несколько руки с красными пальцами, виднеющимися из-под широких манжет с блестящими запонками. В его плутовском лице с ярко-румяными щеками и с сверкавшими из-за полуоткрытых толстых губ зубами и в его наглых и лукавых глазах стояло притворное выражение преувеличенного испуга и недоумения.
– Это что? – спросил адмирал, взглядывая на Ваську и потрясая коробкой.
– Папиросы-с! – умышленно наивным тоном отвечал Васька, делая глупую физиономию.
– Болван! Смотри! – проговорил адмирал и швырнул на пол коробку, из которой посыпался десяток папирос.
– Виноват, недосмотрел.
– А ты досматривай, если я приказываю… Подай сейчас полную коробку!
– Есть!
И когда Васька исчез, адмирал, уже снова повеселевший, усмехнулся и, обращаясь к своим гостям, проговорил:
– Экая каналья! Хотел оставить вас без папирос сегодня!.. Да вы постойте, Подоконников, не закуривайте… Васька сию минуту принесет…
– Я, ваше превосходительство, закурю сигару, если позволите, – заметил молодой человек, решивший, что он, как и Базаров, должен курить только сигары.
– И охота вам курить такую дрянь, как ваши чирутки, когда вам предлагают хорошие папиросы…
– Я вообще предпочитаю сигары, ваше превосходительство! – храбро настаивал Подоконников.
– Предпочитаете? А когда это вы, любезный друг, успели научиться предпочитать сигары? Я так по выходе из корпуса, когда был таким же молодым, как вы, ничего не умел предпочитать… Случалось, бывало, мичманом сидеть на экваторе, – и махорку курил… А уж вы сигары предпочитаете? Эй, Васька! Подай сюда ящик с сигарами… У меня, по крайней мере, хорошие сигары… Впрочем, ведь вы все равно не знаете в них никакого толка… Право, курите лучше папиросы… Советую вам, Подоконников…
Адмирал так настойчиво советовал, что сконфуженный молодой человек поспешил закурить папиросу, чем, видимо, удовлетворил адмирала, имевшего слабость почти требовать, чтобы все разделяли его вкусы.
Закурили почти все гости, наслаждаясь затяжками.
– А ведь не правда ли, любезный друг, что папиросы лучше всяких сигар? – снова обратился он к юному штурману, уже было обрадовавшемуся, что перестал быть предметом адмиральского внимания…
– По-моему, ваше превосходительство, и сигары…
– Да какого черта вы понимаете в сигарах, Подоконников! – перебил, раздражаясь, адмирал, несколько сбитый с толку таким совершенно непонятным пристрастием этого юнца к сигарам. – «Сигары, сигары»! Надо, любезный друг, знать вещи, о которых говоришь… Вот послужите, поплаваете, выучитесь курить хорошие сигары, тогда и говорите. А то курит мерзость и предпочитает сигары… Скажите пожалуйста!.. Так о чем мы последний раз читали, господа? – круто переменил разговор адмирал и взял со стола том «Истории XVIII столетия» Шлоссера.
– О Франции… Когда Наполеон был консулом, ваше превосходительство! – произнесла одна из «жертв» низким баском.
К благополучию этого неказистого, приземистого молодого человека, «дяди Черномора», как звали его за маленький рост, с сонным взглядом и малообещающим выражением широкого и лобастого лица, который не очень-то легко воспринимал науки и хлопал на чтениях глазами, адмирал не любопытствовал узнать, о чем именно читали.
Он снова обвел взглядом присутствующих и, по-видимому, недовольный общим вялым и унылым настроением, сам начал терять хорошее расположение духа. В самом деле, он собирает этих «мальчишек» и тратит на них время, чтобы развить их и приохотить к занятиям, чтобы вселить в них дух бравых моряков, а они… не ценят этого и сидят как в воду опущенные!
И вместо того, чтобы начать чтение, адмирал совершенно неожиданно проговорил:
– А я вам должен сказать, мои друзья, что вы ведь невежи…
«Друзья» невольно подтянулись на своих местах.
– Да-с, невежи… Разве воспитанные люди заставляют себя ждать, как вы полагаете?
Никто, разумеется, никак «не полагал» насчет этого, а все только подумали, что глазастого черта вдруг «укусила муха» и что сам он тоже далеко не воспитанный человек.
– Так, я вам скажу-с, поступают только…
Видимо, сдержавшись от употребления существительного, характеризующего с большею ясностью невежливых людей, адмирал на секунду запнулся и продолжал:
– Только люди, совсем не знающие приличий… Помните это и впредь не ведите себя по-свински, – выпалил адмирал, на этот раз уже не лишивший своей речи образного сравнения, и подернул одним плечом. – Отчего вы не шли и заставили меня посылать за вами, когда я сказал Ивкову, чтобы вы собрались к десяти часам? Ивков, надеюсь, передал вам мое приказание?







