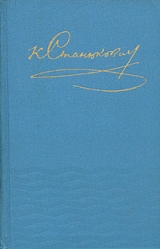
Текст книги "Том 5. Повести и рассказы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
С этими мыслями он незаметно задремал.
Его в последнее время часто клонило к дремоте.
XXXVIII
Тихий стук в двери разбудил его.
– Войдите! – проговорил он, с трудом поднимаясь с кресла и напрасно стараясь принять бодрый вид.
Колени его подгибались, и ноги стояли нетвердо.
Вошла Нина.
– Какой счастливый ветер занес вас ко мне, Нина? – радостно приветствовал «граф», делая несколько шагов навстречу к племяннице.
Он поцеловал Нину и, усадив на диван, тотчас же стал рассказывать о том, что Антоша только что получил место – он, конечно, объяснил, какое важное для начала, – и ему назначили, восемнадцатилетнему мальчику, пятьдесят рублей жалованья.
– Вот какой он, Антоша… О, он далеко пойдет… Это необыкновенно талантливый мальчик… И какое золотое сердце!
«Граф» передал Нине сцену за обедом и прибавил:
– Непременно требует, чтоб я был его пансионером и чтоб никто больше не заботился обо мне… Вы понимаете, Нина, я не смею отказать ему! – радостно говорил «граф».
– Еще бы… Иначе вы обидели бы его, дядя.
– То-то и есть. А разве я захочу обидеть моего мальчика? Вот почему с первого ноября вы уже прекратите мне выдачу пенсии из вашего казначейства. Теперь мы богаты и счастливы благодаря милой фее. Спасибо вам, Нина!
– Но разве, дядя, и мне нельзя о вас заботиться? Ведь эти деньги вам давно назначены. Позвольте по-прежнему посылать вам.
Но «граф» протестовал. Никак нельзя. Антоша не позволит. И то четыре года они пользовались пенсией. Теперь Нина может быть доброй феей кого-нибудь другого, мало ли горемык? Ведь Антоша получил пятьдесят рублей на первое время, через год он получит семьдесят пять, а когда сделают мастером, он будет получать сто пятьдесят рублей в месяц.
Нина глядела на это исхудавшее бледное лицо дяди, озаренное счастливой улыбкой, на эту впалую грудь, и ей почему-то казалось, что он слишком фамильярно обращается с будущим.
– Ну, как хотите, дядя… Я рада за вас и за Антошу… Вот только вы что-то похудели немножко с тех пор, как я видела вас в последний раз… Здоровы ли вы?..
– Ничего себе, скриплю… Вот слабость стал чувствовать в последнее время, но, надеюсь, это пройдет… Года все-таки свое берут, ну и жизнь-то моя прежняя была не особенно правильная, совсем даже неправильная, Нина.
– Быть может, хотите посоветоваться с доктором, дядя? Я к вам привезу специалиста.
– Спасибо, Ниночка, спасибо… У меня есть одна знакомая докторша, славная барыня. Я с ней советуюсь и, по ее совету, ходил к специалисту. Он говорит то же, что и докторша: надо беречься. Я и сделался трусом… Забочусь о своей персоне, Нина, точно принц крови… Теперь, видите ли, мне очень жить хочется… Хоть бы лет пять еще протянуть! – проговорил, улыбаясь, «граф». – Ну, а вы как поживаете, Нина? Здоровы, надеюсь?
– Здорова.
– А об остальном нечего и спрашивать… Живется хорошо, конечно?
Нина встрепенулась, точно раненая птица. В выражении ее лица и глаз было что-то бесконечно грустное.
– Нехорошо, дядя! – проронила она.
– Нехорошо? Отчего нехорошо? Что с вами, голубушка? – с нежным любовным участием спрашивал «граф», пораженный печальным видом племянницы. – Вы молоды, хороши, имеете средства, добры и отзывчивы, живете не праздно, как другие… У вас образованный молодой муж, светило науки, который, конечно, любит вас и разделяет ваши взгляды…
Нина несколько мгновений молчала, и вдруг слезы тихо закапали из ее глаз.
– Нина! Простите… Я своими дурацкими вопросами только расстроил вас, – извинялся «граф», целуя маленькую бледную руку Нины. – Я принесу воды… успокойтесь.
И «граф» поднялся с кресла.
– Не надо; сидите, дядя… Это сейчас пройдет. Я нарочно приехала, чтобы рассказать вам все… все… Вы ничего не знаете… Я прежде о себе не рассказывала и редко у вас бывала… Я ведь совсем одинока, милый дядя! – говорила молодая женщина, когда несколько успокоилась.
– Одиноки? А муж? – невольно воскликнул «граф».
Он видел его раз или два.
Влюбленная и счастливая, вышедшая замуж против воли отца за молодого профессора, далеко не родовитого происхождения, что главным образом и смущало его превосходительство, Нина два года тому назад, вскоре после свадьбы, приезжала с мужем к дяде.
Он не понравился тогда «графу», этот молодой, красивый и уже известный ученый. Он показался слишком уж кокетливым и в манерах и в костюме, слишком решительным в приговорах и влюбленным в себя. Несмотря на чрезвычайную любезность профессора, от него веяло холодом.
– Я расхожусь с мужем! – ответила Нина. И после паузы спросила: – Вы удивлены, дядя?
– Нисколько, Нина… Я всего насмотрелся на своем веку и мало чему удивляюсь… Признаюсь, ваш муж мне не нравился… Так, первое впечатление старого бродяги… Но вы, Нина, кажется, его любили?
– Любила, но не знала его. Тогда он казался другим.
«Обыкновенная история» * , – подумал «граф» и проговорил:
– Бедная! Такая молодая – и такое разочарование!
– И не одно! – грустно проронила Нина…
«А впереди еще сколько!» – пронеслось в голове у «графа».
– Что же, он не любит вас?
– Он никого не любит, кроме себя, и женился, рассчитывая на приданое… Я это хорошо знаю теперь, к несчастью слишком хорошо, дядя… А тогда я увлеклась им… Среди мужчин, которых я встречала в нашем обществе, он так выдавался… Вы ведь хорошо знаете это общество?
– Знавал, Нина…
– Я хотела уйти из него… Я чувствовала, что так жить, как я жила, невозможно… Меня угнетала эта бесцельная, праздная жизнь… эти балы… эта безумная роскошь небольшого кружка в то время, когда у десятков тысяч нет куска хлеба… К тому же и дома… Отец…
Нина на секунду остановилась, точно ей было тяжело досказать то, что причиняло ей страдание. Оно в эту минуту выражалось в чертах ее лица, во всей ее приникшей фигурке.
– Я не смею осуждать отца, – произнесла она наконец упавшим голосом, – я все-таки люблю папу, и мне жаль его, но я… я потеряла к нему уважение. Ведь это ужасно, дядя. Не правда ли?.. Не уважать отца?..
«Граф» угрюмо молчал, опустив голову.
Что мог и смел он сказать дочери человека, которого давно считал подлецом. Чем мог он утешить Нину?
И в первый раз, кажется, во всю его жизнь в нем пробудилось чувство сострадания и жалости к брату. Несмотря на все свое богатство и важное положение, он несчастлив. У брата нет такого преданного, любящего создания, какое есть у него, у бывшего отверженца.
– Я с радостью приняла предложение, – продолжала молодая женщина, – я любила этого человека, я ждала новой, деятельной жизни, новых людей и вместо того нашла почти то же, что и в нашем светском обществе. Та же погоня за карьерой, за деньгами… То же равнодушие к вопросам, не имеющим отношения к их специальности, те же интриги… И это ученые! Профессора!.. Мой муж оказался таким же… Разница в наших характерах, взглядах, мнениях обнаружилась скоро, и наконец дошло до того, что я просила развода.
– Он дает его?
– Охотно. Тем более что ведь женитьба не принесла ему ничего… Отец не дал мне приданого… Он только сделал тряпки и выдает мне по двести рублей в месяц… А муж рассчитывал не на это и недавно настаивал, чтобы я ехала к отцу и просила его дать мне хоть половину обещанного состояния теперь же… Это было уже слишком!
– Из современных ранних молодых людей! – протянул «граф». – И, верно, он все это объяснял по науке?
– Вроде этого. О, говорит-то он красноречиво и любит говорить… Но мне его речи кажутся бездушными… Прежде, когда он был женихом, он не то говорил, что теперь… И с какой страстью! И какую разумную жизнь обещал… Все это была одна ложь. И как подумаешь, что этот человек профессор, поучает других, а сам… О, как все это отвратительно, дядя!
– Хорошо еще, что вы не поздно узнали этого ученого и, смею думать, совсем разлюбили его. Не правда ли, Нина? – осторожно спросил «граф».
– Он мне чужой совсем. Я к нему равнодушна! – решительно проговорила молодая женщина.
– Вот это отлично. Нет по крайней мере лишних страданий.
– Они были, дядя. Ведь я его любила!
Несколько минут продолжалось молчание.
Высказав все, что мучило ее, Нина казалась покойнее.
– Что ж вы намерены теперь делать, Нина? Где будете жить? У своих?
– Папа был у меня и настоятельно звал к себе, и мама тоже… Бедные! Они любят меня и в отчаянии, что у них такая неудачная дочь. И сделала mesalliance [19]19
Неравный брак (франц.).
[Закрыть], и разводится… Но, как мне ни тяжело было огорчать их, я отказалась. Опять вернуться к этой жизни!? Боже сохрани!.. Мне опротивел Петербург.
«Граф» с благоговением смотрел на молодую женщину. Сколько характера и энергии в этом создании!
– Вы, значит, уезжаете?
– На днях уезжаю, дядя… До отъезда я еще буду у вас…
– Спасибо, спасибо, милая… Вы не перестаете баловать меня… Надеюсь, и весточку о себе когда-нибудь дадите?.. Вы куда уезжаете?
– Далеко, дядя, в Самарскую губернию.
– К кому?
– К тете Тане, к маминой сестре. Она славная, добрая и простая такая, совсем не похожа на наших дам. Зовет к себе в деревню… Она постоянно там живет после смерти своего мужа и скучает… Она обещает найти мне дело в деревне, если только я не соскучусь по балам и у меня хватит терпения быть полезной другим… Пишет, между прочим, что у них в уезде совсем нет школ и что надо их устроить. Поживу там и, если понравится, быть может и останусь там… Сюда буду приезжать, чтобы навестить своих, взглянуть на вас, дядя, как вы живете со своим другом… А средства на устройство школ у меня будут. Папа оставляет мне мои двести рублей в месяц. Видите ли, какая богачка! – заключила Нина.
– Чудная вы! – умиленно воскликнул «граф».
И вслед за этим как-то особенно почтительно поцеловал руку Нины. Она горячо обняла старика и проговорила:
– Если я уж не совсем пустая, то я и вам обязана, дядя. Вы мне на многое открыли глаза.
– Своему доброму сердцу обязаны, и никому более!
Нина еще просидела несколько времени у «графа».
Она строила планы будущей жизни, говорила, что ее манит деревня и что там она надеется совсем забыть о своих неудачах личной жизни, и вдруг воскликнула, как бы озаренная внезапной мыслью:
– А знаете что, дядя?
– Что, Нина?
– Что бы и вам приехать в деревню? Тетя, наверное, будет рада. Там вы скоро поправитесь и не будете чувствовать ни усталости, ни слабости. Хотите? Я напишу вам из деревни, и вы приезжайте.
– А мой Антоша?
Нина виновато улыбнулась, взглядывая на мертвенно-бледное лицо с заострившимся носом и обтянутыми щеками, и стала собираться, бесконечно жалея дядю.
XXXIX
Пришла весна.
«Граф» худел и слабел с каждым днем в течение зимы и теперь с трудом мог делать несколько шагов по комнате. Большую часть времени он сидел в кресле или лежал на постели.
Но он и думать не хотел, что дело его проиграно окончательно и что смерть уже витает над его изголовьем. Он, напротив, питал какую-то упорную надежду, что поправится, как только наступят теплые вешние дни, а там и лето… Антошка обещал нанять на Петровском Острове маленькую дачу… Там, на чистом воздухе, он окончательно выздоровеет.
Даже зеркало, отражавшее лицо мертвеца, не колебало этой уверенности. Не смущали его и исхудалые ноги, и руки, и выдающиеся на плоской груди ребра…
И он добросовестно глотал какие-то пилюли, принимал микстуру и насильно, без всякого аппетита, пил молоко и ел бульон и мясо.
Еще бы! Ему теперь так хотелось жить, этому горемычному бродяге, бесконечно счастливому в это последнее время, когда они жили с Антошкой на свои кровные денежки. И как же Антошка баловал его: и вино ему покупал, и недурные сигары, и на газету для него подписался, и по вечерам, возвратившись из завода, читал ему или рассказывал про заводские дела и новости.
Как же не хотеть жить, когда на каждом шагу видишь трогательную преданность близкого существа и сам бесконечно любишь его и радуешься его успехам. А Антошка решительно преуспевал. За какую-то его выдумку («граф» при самом подробном объяснении автора «выдумки» не мог понять, в чем дело) ему выдали недавно триста рублей награды, и сам директор завода призывал Антошку и хвалил его…
И нередко «граф», замечая, что Антошка грустен, говорил ему, стараясь придать своему глухому голосу веселый тон:
– Ты что, голубчик, нос опустил?.. Думаешь, я умирать собираюсь. Дудки, братец! Опольевы живучи… Вот только тепло придет… Ты увидишь…
– И вовсе не думаю, Александр Иваныч… Еще как поправитесь… Вот как теплое воскресенье придет, поедем дачу нанимать… Деньги у нас, слава богу, есть…
И Антошка употреблял чрезвычайные усилия, чтобы казаться веселым и не разрыдаться, слушая эти полные надежды слова.
Ему сказали доктора, что дни «графа» сочтены, да он и сам видел это, и горю его не было границ. Нередко он выбегал из комнаты на лестницу и плакал, как ребенок. Нередко во время работы на заводе он утирал навертывавшиеся слезы – ведь «граф» был у него единственный человек, которого он любил. И вдруг потерять его тогда, когда жизнь их обоих так хорошо устроилась!
И Елизавета Марковна, и другой доктор советовали перевести больного в больницу, но Антошка и слышать об этом не хотел, зная, что «граф» ни за что не согласится. И кто же будет по ночам около него?..
Каждое утро Антошка уходил со страхом, что вернется домой и не застанет в живых «графа», и каждое утро просил хозяйку дать знать на завод, если Александру Ивановичу будет плохо.
Несмотря на протесты «графа», в последние дни у него в комнате дежурила сиделка. Антошка настоял на этом, убедив «графа», что это необходимо. По крайней мере она будет аккуратно следить за приемами лекарства.
«Граф» в конце концов покорно согласился и заметил:
– Пусть будет по-твоему, а как потеплеет, мы, брат, сиделку спровадим… И то я тебе дорого стою… Слишком уж ты балуешь меня, Антоша… Роскошествуешь ты очень…
– Что вы, Александр Иваныч… И вовсе у нас немного выходит…
– Небось вижу… Вино-то одно чего стоит… Ну да, голубчик, скоро я тебя освобожу от этих расходов… Поправлюсь, и войдем в бюджет…
Антошка отворачивался, чтобы скрыть слезы.
В этот вечер, когда Антошка вернулся с завода, «граф» объявил, что чувствует себя гораздо лучше, и вместе с Антошкой пил чай, сидя в кресле. Он был особенно разговорчив и весел.
Напрасно Антошка останавливал его, объясняя, что ему вредно много говорить, «граф» не слушал и возбужденно, порывисто заговорил:
– Да что ты, братец, точно меня умирающим считаешь?.. Я жить хочу и буду жить… Слышишь, Антоша!.. Милый, дорогой мой… Довольно я мыкался, терпел унижения, делал подлости, пьянствовал… побирался… Я встретил тебя, такого же горемыку, бедного, брошенного… и твоя любовь привязала меня к жизни и пробудила во мне человека.
Он задыхался и все-таки продолжал, точно торопясь высказаться, глядя с бесконечною нежностью на Антошку:
– И теперь, когда я горжусь тобою, твоими успехами, когда я так привязался к тебе, моему умному, славному мальчику, и вдруг умереть… Нет… Я этого не желаю… Ты что же плачешь, мой милый… Зачем ты так смотришь?.. Или в самом деле…
Выражение ужаса вдруг исказило черты «графа». Он шевелил губами, и звука не было. Он как-то жалобно замычал и бесконечно грустными глазами, точно моля о помощи, глядел на Антошку.
– Это ничего… пройдет… доктор говорил… ей-богу, ничего, Александр Иваныч, – безумно выбрасывал слова Антошка и припал к холодеющей руке «графа», орошая ее слезами.
– Сейчас бегу за доктором, Александр Иваныч.
«Граф» отрицательно помахал головой, не сводя тускнеющего взгляда с Антошки.
– Ну, так пошлю…
И Антошка выбежал, чтобы распорядиться.
Когда он вернулся в комнату, «граф» уж не дышал.
Через три дня за скромным гробом шли на Смоленское кладбище три человека: Антошка, бывшая квартирная хозяйка и прачка Анисья Ивановна, и Нина. Она приехала в Петербург, получив от Антошки телеграмму о смерти дяди.
Других родных он не известил.
Никто не говорил речей на могиле «графа». Только Антошка безутешно рыдал, и плакали Анисья Ивановна и Нина.
Возвращаясь с кладбища работать на завод, Антошка еще сильнее почувствовал свое сиротство. Но, сознавая себя одиноким, он знал, что благодаря покойнику он бодро и стойко выдержит битву жизни… Она уже улыбалась ему, еще недавно несчастному нищенке.
В то же лето на могиле «графа» красовался красивый железный памятник, весь сделанный руками Антошки.
Вестовой Егоров *
I
В эти предпраздничные дни в большой, красиво убранной квартире контр-адмирала Лещова шла такая же усердная чистка, какая происходила и во всех домах столицы.
Из всей прислуги адмирала особенно неистовствовал по приведению адмиральского кабинета в порядок пожилой, небольшого роста, плотный и коренастый человек, в куцей измызганной черной тужурке, в стоптанных парусинных башмаках, какие носят в плаваниях матросы, с широким, далеко неказистым, несколько суровым лицом, на красноватом фоне которого алел небольшой нос, похожий на луковицу, а из-под густых черных бровей блестела пара темных зорких глаз, умных и необыкновенно добродушных. Слегка искривленные ноги и здоровенные жилистые руки пополняли неказистость этой, на вид неуклюжей, сутуловатой фигуры.
Столь непрезентабельный для такой роскошной квартиры слуга, возбуждавший иронические улыбки в франтоватом молодом лакее, в горничной и кухарке, был Михайло Егоров, отставной матрос, служивший у Лещова безотлучно пятнадцать лет. Сперва он был у него вестовым, а после отставки остался при нем в качестве камердинера и доверенного лица, на испытанную честность которого можно было вполне положиться. Егоров совершил со своим барином немало дальних и внутренних плаваний, и все имущество барина было на руках Егорова. Оба они за это долгое время до того привыкли один к другому, до того Егоров был верным человеком, заботившимся о своем командире и о его интересах с какою-то чисто собачьей преданностью, что, несмотря на обоюдные недостатки, хорошо изученные друг в друге, они не могли расстаться, хотя и нередко грозились этим оба в минуты раздражения.
Не расстались они даже и тогда, когда адмирал, по словам Егорова, «на старости лет ополоумел» и, несмотря на самые едкие предостережения своего вестового, выслушанные адмиралом с сконфуженным видом, женился два года тому назад на молодой, хорошенькой и очень бойкой блондинке, которую Егоров сразу же невзлюбил и прозвал почему-то «белой сорокой».
Он тогда же просил адмирала «увольнить» его.
– Жили мы с вами, Лександра Иваныч, слава богу, одни, а теперь мне оставаться никак невозможно! – говорил Егоров своим мягким баском, поглядывая не без сожаления на смуглое, заросшее бородой, некрасивое и радостное лицо своего «ополоумевшего» адмирала.
– Это почему?..
– Сами, кажется, можете понять… Теперь у вас другие порядки пойдут с адмиральшей-то… Адмиральша потребует, чтобы вы взяли форменного камардина, а не то, чтобы держать такого, как я. Известно, молодой супруги надо слушаться, – прибавил не без иронической нотки в голосе Егоров.
– Ты, скотина, язык-то свой прикуси!..
– Прикуси не прикуси, а я верно говорю…
Адмирал, несколько смущенный, выругал Егорова на морском диалекте и приказал остаться.
– При мне будешь по-прежнему… Слышишь?
– Слушаю, ваше превосходительство…
– Только смотри… Не вздумай грубить барыне…
– Чего мне грубить?.. Я до барыни и касаться не буду… У их свои слуги будут… А я при вас…
Во всем угождавший своей молодой жене, в которую был влюблен по уши, адмирал, однако, решительно отстоял своего старого вестового, далеко не изящный вид которого и громкий грубоватый голос несколько шокировал изящную адмиральшу. Адмирал обещал, что Егоров не станет показываться ни в гостиной, ни в столовой, – для этого можно нанять приличного лакея, – а будет исключительно служить ему и ходить с ним в плавания. Он ведь так привык к Егорову.
На этот компромисс адмиральша пошла, и довольный адмирал с прежней терпеливостью выслушивал ворчливые замечания, которые позволял себе Егоров, особенно в плавании, когда белая сорока жила на даче, и главным образом после побывок на берегу, откуда Егоров возвращался по большей части «урезавши муху».
Эти замечания в последнее время касались преимущественно женитьбы адмирала. Молодая жена, тратившая много денег и заставлявшая адмирала сильно ограничивать свои расходы в плавании, возбуждала в Егорове негодование. Кроме того, и поведение адмиральши ему не нравилось, и он, не без некоторого основания, предполагал, что белая сорока обманывает адмирала, злоупотребляя его доверчивостью и «путается» с мичманами.
И нередко, вернувшись с берега, Егоров появлялся в адмиральской каюте и, прислонившись к двери, говорил заплетающимся языком:
– А еще адмирал… Адмирал, а звания поддержать не можем… Прежде, бывало, офицеров честь честью, призовем обедать… угостим… Каждый день, как следовает, по очереди три или четыре офицера у нас кушали, а нонече – шабаш!.. Одни кушаем… И денег у нас нет… Тю-тю денежки… Айда на берег… А по какой такой причине?.. Дозвольте вас спросить, Лександра Иваныч? Как вы об этом полагаете, ваше превосходительство?
– Егоров! Ты пьян, каналья!.. Иди спать…
– И пойду…
Но вместо того чтобы уйти, Егоров оставался в каюте и продолжал:
– А все-таки я вам, Лександра Иваныч, всю правду скажу… Очинно мне жалко тебя, моего голубчика… И сертучишко-то старенький… и сапоги в заплатках, и припасу у нас никакого… А кто виноват?.. Сами, Лександра Иваныч, виноваты… Не послушались Егорова… Небось Егоров, даром что из матросов, а с понятием… С большим понятием!.. Жили мы с вами холостыми, то ли дело?.. Слава тебе господи! И деньги у нас завсегда были, и всякого припасу вдосталь, и звание свое поддерживали… «Егоров! Шимпанского!» – «Есть!» И несу, что вгодно… А теперь, как глупость-то сделал…
– Егоров! Пошел вон! Искровяню рожу!
Но эта угроза не только не пугала Егорова, а, напротив, приводила его даже в несколько восторженное состояние.
– Что ж, искровяните. Сделайте ваше одолжение… Со всем моим удовольствием! Я ведь любя говорю… Слава богу, пятнадцать лет служу вам честно… А все-таки вижу: хоша вы и адмирал, а рассудку в вас мало… Ну… хорошо… положим, бес взыграл на старости лет… Так женись, братец ты мой, на какой-нибудь степенной сахарной вдове в теле и с понятием, а то…
Обыкновенно Егоров не доканчивал, потому что взбешенный адмирал срывался с дивана и, схватив вестового за шиворот, ввергал Егорова в его крошечную каютку и запирал ее на ключ.
«Непременно прогоню эту пьяную скотину!» – решал адмирал в пылу гнева. Но гнев проходил, и эта «пьяная скотина» снова являлась в глазах адмирала близким, преданным человеком, а воспоминание нашептывало, как эта «пьяная скотина», жертвуя собой, спасла во время крушения своего командира.
И адмирал прощал Егорову его дерзкие речи во хмелю и ворчанья в трезвом виде, как и Егоров, в свою очередь, прощал адмиралу его ругань и кулачную расправу во время вспышек гнева.
И оба любили друг друга.
II
Егоров – вообще аккуратный и исправный, по морской привычке, человек – довел кабинет и маленькую спальню адмирала до умопомрачающей чистоты. Все в этих комнатах блестело и сверкало. Нигде ни соринки, нигде ни пылинки. Все окна были вымыты и протерты суконками. Подоконники сияли своей белизной, и дверные ручки и замки просто горели. Ковры были выбиты. Все адмиральское платье было вынесено на двор, проветрено, выбито и, вычищенное, аккуратно повешено в шкапу. На случай, если адмирал поедет во дворец к заутрене, Егоров надел на мундир ордена и привинтил звезды. Нужно ли прибавлять, что несколько пар адмиральских сапог так блестели, что хоть смотрись в них, как в зеркало.
До остальных комнат, до «ейных», как не без некоторого презрения Егоров называл другие комнаты, находившиеся под наблюдением адмиральши, он не касался и только при виде беспорядка в них презрительно скашивал губы и поводил плечами. Убиравшие эти комнаты лакей и горничная не пользовались его расположением. Он их считал лодырями, и притом напускающими на себя «форцу», и относился к ним недружелюбно, как и к кухарке, и к барыне. Молодую хорошенькую адмиральшу он втайне просто ненавидел и только дивился «дурости» адмирала, который ничего не видит и, вместо того чтобы оттаскать эту вертлявую белую сороку за косы, лебезит перед ней, словно ошалелый кот, и не переломает ребер молодому господину из «вольных» [20]20
Так матросы называют статских. (Прим. автора.)
[Закрыть], который, шельма, повадился ходить каждый день и выбирает время, когда адмирала нет дома.
– Совсем глупый мой адмирал, – часто думал вслух Егоров и искренне жалел своего адмирала.
Вообще и адмиральша и вся прислуга были в глазах Егорова одной шайкой, обманывавшей и обкрадывавшей адмирала. Все они были одни люди, а он с адмиралом – другие, ничего не имеющие с теми общего. Ах, если б адмирал прогнал их всех вместе с женой, а то доведут они его до беды!
Однако Егоров никогда не заикался об этом адмиралу. У самого глаза, мол, есть, а кляузы заводить он не намерен.
И Егоров, зная, что и адмиральша далеко не расположена к нему и сейчас бы прогнала его из дому, если б не адмирал, – старался не показываться ей на глаза и при редких встречах держал себя с угрюмой почтительностью знающего дисциплину матроса. А в отношениях с прислугой напускал на себя суровость, избегал с ней разговаривать и водил дружбу только с кучером. Его одного он удостаивал своими воспоминаниями о дальних плаваниях и рассказами о разных диковинах вроде «акул-рыбы» или черномазых людей, которые всякую пакость жрут и ходят как мать родила, и у приятеля своего в кучерской протрезвлялся, когда, случалось, приходил домой пьяный и не желал идти к себе в маленькую комнатку, находившуюся вблизи спальни адмирала.
В свою очередь и Егоров пользовался среди прислуги репутацией «грубого и необразованного матроса», с которым не стоит и связываться – облает. За обедом на кухне его дарили ироническими усмешками, на которые Егоров не обращал обыкновенно ни малейшего внимания. И в редких только случаях, если франтоватый лакей, в угоду горничной, задевал Егорова, он совершенно спокойно выпаливал такое морское ругательство, что деликатная горничная и дебелая «кухарка за повара», жившая, как утверждала, только у генералов, в страхе взвизгивали и убегали из кухни.
III
Предвкушая удовольствие получить на светло Христово воскресение от адмирала обычные пять рублей и по этому случаю «взять все рифы», то есть напиться вдребезги в компании с кумом, мастеровым из адмиралтейства, Егоров накануне под вечер сидел в своей крошечной, чисто прибранной комнатке, где у образа теплилась лампадка, и исправлял кое-какие погрешности своего праздничного туалета, в котором он собирался честь честью идти к заутрене, – как в двери раздался стук.
– Что надо? Входи.
– Барыня вас требует! – объявил молодой лакей.
– А где твоя барыня?
– В столовой, и ваш барин там! – подчеркнул лакей.
Егоров, по старой морской привычке, рысцой понесся в столовую.
Там сидела адмиральша в капоте, несколько томная и уставшая от хозяйственных хлопот, и около нее адмирал.
– Вы свободны, Егоров?
– Точно так, ваше превосходительство! – гаркнул Егоров и кинул взгляд на адмирала, словно бы спрашивая его: «свободен ли он?»
– Ах, не кричите так громко! Он тебе, Александр, не нужен? Я Антона посылаю к портнихе…
– Нет.
– Так, пожалуйста, Егоров, сходите за окороком, за куличами и за пасхой и привезите поскорей все это сюда… Можете оттуда взять извозчика…
И адмиральша не без некоторой брезгливости протянула свою маленькую ручку и, словно бы боясь прикоснуться к большой и жилистой руке Егорова, осторожно опустила на его широкую ладонь деньги и квитанции с написанными на них адресами.
– Слушаю, ваше превосходительство!
И, зажав в своей руке все, что ему передала адмиральша, он вышел из столовой.
В коридоре его нагнал адмирал и заботливо сказал:
– Смотри, Егоров, не запоздай… Не заходи никуда…
– Куда же заходить, Лександра Иваныч, окромя туда, куда приказано?.. Будьте покойны. Духом слетаю…
И Егоров действительно «духом» слетал из Сергиевской на Конюшенную за куличами и за пасхой, оттуда на Литейную за двумя окороками и фаршированным поросенком и уже рядил извозчика, чтоб везти домой все эти припасы, как его хлопнул по плечу «кум мастеровой» и весело воскликнул:
– Михаилу Нилычу, наше вам.
– Здорово, кум…
Тары-бары, разговорились, и так как на улице разговаривать было не совсем удобно, то кум предложил зайти в заведение.
– Выпьем по случаю кануна, Нилыч, по сорокоушке и айда – по своим делам. Ты к своему адмиралу, а я к своей хозяйке… К заутрене пойдем… Завтра ведь какой праздник!..
Кум так резонно говорил, что Егоров, нисколько не подозревая опасности, какой подвергается и его слабость к спиртным напиткам, и все эти порученные ему припасы, с удовольствием принял предложение, и оба приятеля, бережно забрав кульки и картонки, вошли в заведение, чтобы наскоро раздавить по сорокоушке.
– А то мне надо, кум, торопиться, – говорил Егоров, процеживая водку с медленностью настоящего пьяницы.
– То-то я и говорю… И мне нужно, кум.
IV
Был одиннадцатый час вечера, а Егоров еще не возвращался. Адмиральша сперва вздыхала, потом злилась и наконец пришла в отчаяние. Ведь это ужасно! К ней обещали приехать разгавливаться некоторые близкие знакомые и… и до сих пор ничего нет!
Нечего и говорить, что более всего досталось адмиралу.
– Вон ваш преданный и верный человек… Нечего сказать, хорош! Первый раз я решилась дать ему поручение…
– Да ты не волнуйся, Катенька!.. Он все принесет! – успокаивал жену адмирал, давно уже и сам волновавшийся, так как знал, что если Егоров не удержится и выпьет, то беда.
– Как тут не волноваться?.. Это ведь бог знает что такое… И ты еще держишь при себе такого пьяницу… Неужели и после этого ты не прогонишь его?..
– Но, Катенька…
– Ах, что вы все: Катенька да Катенька!.. Это наконец, просто глупо! – воскликнула Катенька с раздражением и заперлась в спальне.
Адмирал взбешенный ходил по кабинету, мысленно осыпая Егорова самою отборною бранью, какую он позволял себе только в море.
Уж он хотел было идти к жене и предложить ехать немедленно в лавки и все купить, как в кабинет вбежала жена и крикнула голосом, полным раздражения:
– Подите… полюбуйтесь, что привез ваш преданный человек! Идите!
Адмирал покорно и с виноватым видом пошел вслед за женой в столовую, и – о ужас! – вместо двух пасох были какие-то приплюснутые лепешки. По счастию, окорока, поросенок и куличи были целы.
– Ах, мерзавец! – проговорил только адмирал.
– Как же мы будем без пасхи! – охала адмиральша.
Адмирал тотчас же велел лакею ехать за пасхами и крикнул:
– Позвать сюда Егорова!..
Через минуту-другую в столовую вошел Егоров. Он довольно твердо держался на ногах, хотя и был сильно пьян.
– Христос воскресе, Лександра Иваныч… Виноват, ваше превосходительство… Это точно, помял пасхи… потому кума встрел… – говорил Егоров заплетающимся языком.







