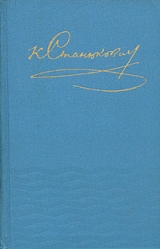
Текст книги "Том 5. Повести и рассказы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
А теперь эти мысли бродили в ее голове, находили отклик в добром сердце девушки, и ей непременно хотелось помочь и этому несчастному дяде и этому мальчику.
Как ни было ей тяжело осуждать отца, но она осудила его в душе за то, что он так жестоко отнесся к родному брату, и она припомнила те ужасные слова отца, которые он говорил по поводу письма, полученного месяц назад от дяди, в котором он молил о помощи для мальчика. И тогда она почувствовала правдивость этого письма. И тогда она подумала, что отец не прав, считая своего брата лжецом… И тогда она находила жестоким поведение отца и, полная стыда за него, послала свои двадцать пять рублей. А теперь, после того как услыхала эту трогательную историю двух бездомных, горемычных существ, молодая девушка невольно еще строже судила отца, и слова его казались ей теперь бессердечными.
О, как бы хотелось ей помирить отца с дядей… Откуда такое озлобление? Ужели отец недоступен жалости и не может отнестись к нему тепло и сердечно, ободрить его, помочь ему?..
Но при мысли об этом ей становилось жутко, и невольные сомнения закрадывались в ее голову. Отец непреклонен и, что раз решил, не меняет. И смеет ли она учить отца? И станет ли он ее слушать?
Но если отец не исполняет то, что велят и долг и любовь, – она должна исполнить. Она не допустит, чтобы родной брат отца нищенствовал, собирая милостыню на улицах, и чтобы от него отняли этого мальчика, которого он так любит. Это безжалостно, возмутительно!
Возбужденная и радостная, что и у нее, скучающей и неудовлетворенной тою жизнью, которую заставляли eе вести, нашлось вдруг дело, что и она может быть полезной двум существам, молодая девушка вышла из своей комнаты и прошла в кабинет к матери.
Нина рассказала ей то, что слышала от Антошки, и проговорила:
– Мама! Ведь необходимо помочь дяде и этому мальчику!
Госпожа Опольева, женщина добродушная, но благоговевшая перед мужем, хотя и согласилась с дочерью, что этот «несчастный дядя» заслуживает помощи и что он всегда возбуждал в ней жалость, но прибавила:
– А что скажет отец, Нина?
– Но разве, мама, мы-то сами не можем помочь помимо папы его родному брату?.. И наконец, ведь он вовсе не такой дурной… Напротив, эта история с мальчиком… эти заботы о нем…
– Но почему дядя обратился к тебе, Нина?.. Он тебя совсем не знает… Видел маленькой девочкой…
Нина призналась матери, что раньше послала дяде от имени отца деньги и теперь послала.
– Видишь, ты какая! – растроганно произнесла мать и нежно потрепала дочь по щеке своей белой, пухлой рукой в кольцах. – А если папа узнает об этом? Ведь он будет недоволен… Ты ведь знаешь его мнение о дяде?
– И пусть узнает… Я тогда сама расскажу папе, что он ошибается… И папа, быть может, убедится и… помирится с дядей.
Опольева сделала отрицательный жест.
– Этого никогда не будет! – произнесла она грустным тоном.
– Но если ты, мама, его попросишь…
– Я уж пробовала…
– Но за что же такая ненависть?.. Что же, наконец, сделал такое дядя, что от него все отшатнулись и довели его до нищенства? – воскликнула Нина. – Расскажи мне, мама…
Мать рассказала известную читателю историю «графа».
– Что ж тут такого ужасного, мама?.. Разве дядя не мог исправиться? И разве многие молодые люди не то же делают?.. И, однако, их не изгоняют из общества… Помнишь, еще недавно какую историю рассказывали о графе Бежецком… Он сделал вещи похуже, чем бедный дядя, и тем не менее его везде принимают… И папа и ты с ним любезны. Он остался в полку…
– Положим, с дядей сурово обошлись… не спорю, – заметила мать, – но все-таки так опуститься, сделаться пьяницей, нищим…
– Но кто же в этом виноват? Разве родные поддержали его тогда? Напротив, все, как ты говоришь, его оставили и сами же обвиняют его. Ах, мама, мама, как это несправедливо и безжалостно! – воскликнула молодая девушка. – Нет, мама, голубчик, милая, добрая, ты уж позволь мне помогать дяде… я буду давать ему в месяц свои двадцать пять рублей… И свои непременно… Мне на булавки и остальных двадцати пяти за глаза довольно… И не нужно папе говорить… Пусть дядя будет думать, что это он посылает… Не правда ли?..
– Ну что ж, делай как хочешь, добрая моя девочка, возьми и от меня маленькую лепту… пошли ему еще десять рублей… Я буду давать каждый месяц.
– Спасибо за дядю и за мальчика, мамочка… Теперь они по крайней мере не будут нищенствовать… А за этого мальчика я буду просить тетю Мери… Я после завтрака к ней поеду… Можно?
– Поезжай… только вряд ли ее застанешь после завтрака… Ведь Marie, ты знаешь, всегда занята… Время у нее распределено…
– Я теперь поеду…
– А завтракать?..
– Бог с ним, с завтраком… Потом позавтракаю…
– Так прикажи закладывать карету…
– Нет, я лучше в санях, мамочка…
И с этими словами Нина вышла из кабинета матери и попросила Дуняшу приказать запрячь сани.
Через полчаса она уже ехала к княгине Моравской. Дорогой у нее явилась мысль после визита к Моравской поехать к дяде. То-то он обрадуется! Непременно надо навестить его. Мама, наверное, не рассердится! А отец не будет знать об этом!
– Дома княгиня?
– Дома, пожалуйте!
Молодая девушка быстро поднялась по лестнице.
Лакей встретил ее у дверей почтительным поклоном и, проводив до гостиной, пошел докладывать княгине.
XXIV
Княгиня Марья Николаевна с четверть часа тому назад вернулась с прогулки, по обыкновению свежая, цветущая и румяная, в том спокойном, уверенном и довольном расположении духа, которое бывает у счастливо уравновешенного человека, сознающего, что все, что он делает, хорошо и плодотворно и что сам он безупречен.
Сегодня во время прогулки именно такие мысли занимали княгиню, и она с горделивым чувством подумала, что она живет не так, как другие женщины. В самом деле, большую часть женщин ее круга занимают выезды, наряды, сплетни, флирт и разные сердечные увлечения, доводящие многих до забвения всяких приличий, – а она вся поглощена деятельностью. Скольким людям она благотворит, сколько несчастных благодаря ей сделались счастливее, сколько детей призреваются в приютах… А все эти благотворительные концерты, спектакли и базары, устраиваемые благодаря ее энергии и настойчивости, как много дают они средств на добрые дела!..
Благодаря ее деятельности она не скучает, не нервничает, как эти светские дамы… Жизнь ее полна смысла, и она несет «крест свой» без всякого ропота… Да и бог с ним, с этим семейным счастьем… Она обходится и без него, и не надо ей какой-то любви, о которой так хлопочут многие женщины. Она и в молодости никого не любила и вышла замуж за старика по рассудку, так уж теперь…
С жестокостью женщины, никогда не увлекавшейся и всегда исполнявшей свой долг с неумолимой строгостью, княгиня не отказала себе в маленьком удовольствии осудить тех, кто распускает себя, мысленно назвать их презрительной кличкой и брезгливо пожать плечами…
И сама она внутренне гордилась своею безупречностью, не подозревая, конечно, что эта безупречность в значительной мере зависела от ее уравновешенной, честолюбивой и холодной натуры, и с самодовольным чувством думала, что она примерная во всех отношениях женщина благодаря твердым принципам, основанным на религиозном фундаменте.
С таким заключением она вернулась домой, сделавши свой узаконенный моцион, рекомендованный ей доктором, чтобы не полнеть.
Письмо «графа», которое княгиня только что прочла, несколько смутило молодую женщину и, главное, нарушило ее спокойное расположение духа и поколебало ее уверенность в том, что все, что она делает, хорошо и полезно.
Давно-давно не читала княгиня таких писем, хотя получала их много.
Это было страстное, умоляющее и вместе с тем негодующее письмо возмущенного и несчастного человека, полное ядовитых сарказмов насчет желания кузины спасать людей при помощи полиции и делать не добро, а зло. Искренностью и горем дышали эти строки, в которых «граф» объяснял, что такое для него этот мальчик, возродивший его к жизни, его, одинокого и всеми брошенного. Неужели милые родственники, не желающие его знать, хотят отнять единственное преданное ему существо. «Это было бы бессовестно и бездушно, княгиня, – писал „граф“. – Если вы это сделаете, значит, вы сами никогда и никого не любили, кроме себя, и ваша благотворительность ничего не стоит, она для вас – удовлетворение тщеславия, и больше ничего. Ужели у вас хватит жестокости нанести последний удар тому человеку, который – помните? – когда-то был вашим искренним почитателем. Впрочем, и тогда вы были всегда слишком холодны и рассудительны, и если теперь эти качества получили полное развитие, то от вас ждать пощады нечего… Вы, конечно, думаете, что я, отверженный, буду виновником гибели мальчика… У вас ведь, у сытых, богатых людей, и особенно у благотворителей… такая мораль… Вы воображаете, что ваши приюты спасают… О как вы ошибаетесь и как вы слепы, если б только могли это понять… Простите за резкость письма, но поймите, если не можете чувствовать, что вы хотите сделать… Повремените по крайней мере. Соберите справки, узнайте обо мне, посылайте своих благотворителей справляться о мальчике, и если сведения эти будут неблагоприятны, тогда… тогда берите его в приют, из которого Антошка, конечно, убежит и благодаря вам действительно попадет, как вы выражаетесь, в „когти порока“… Нет, вы этого не сделаете, кузина… Не сделаете».
Прошла минута-другая, а княгиня все еще держала письмо в руках. Она хотела бы отнестись к этому дерзкому письму с презрением и чувствовала, что не может… Она хотела уверить себя, что это пишет «пропавший человек», пьяница, негодяй и что на этот «пьяный бред» не стоит обращать внимания, – и тем не менее чувствовала, что этот «бред» задевает ее и что он дышит правдой…
И ее красивое, спокойное, уверенное в себе лицо омрачилось тенью. Вместо того, чтобы разорвать письмо, она положила его на письменный стол и задумалась…
В эту минуту постучали в двери.
– Войдите!
– Нина Константиновна Опольева! – доложил лакей.
– Просите сюда! – проговорила княгиня.
Она поднялась и пошла встретить молодую девушку.
Княгиня очень благоволила к своей молодой родственнице. Она считала Нину серьезной девушкой, а не обыкновенной светской пустельгой, которая только ищет женихов и занимается кокетством.
– Какой счастливый ветер занес тебя, Нина? – говорила княгиня, целуя молодую девушку. – У вас все здоровы: мама, отец?
– Все здоровы, тетя Мери… А к вам я, тетя, с просьбой, с большой просьбой.
– Да ты присядь прежде, Нина…
Нина опустилась на маленький диванчик.
– Ну, теперь рассказывай, в чем дело…
Волнуясь и спеша, молодая девушка стала просить княгиню не определять Антошку в приют.
– Если б вы знали, тетя, как любят они друг друга: бедный дядя и этот мальчик!.. Он сейчас у меня был и рассказывал, что дядя был опасно болен, чуть не умер, простудился, когда вышел в легком пальто собирать милостыню… А этого своего приемыша ни за что не пускал… Его одел, а о себе не подумал… Вообще тут все необыкновенно, тетя, и доказывает, что дядя вовсе не такой дурной человек… Напротив…
– И твой папа так теперь думает?
– Нет, тетя… Папа предубежден против дяди…
– А ты, Нина, увлекаешься… Я тоже получила сейчас письмо от кузена… и очень дерзкое и наглое… И он требует, чтоб я не определяла его приемыша в приют… И какой тон… Какие выражения!..
– Но, тетя, он так несчастен… Полиция грозит отнять мальчика…
– Да, я просила об этом, чтобы его спасти… Он произвел на меня очень хорошее впечатление, этот мальчик. В приюте ему было бы лучше! – настаивала княгиня.
– Он убежит из приюта… Он не хочет туда!
– И твой дядя пишет, что убежит… Вот делай после этого добро людям… Хлопочи о них! – с сердцем промолвила княгиня. – Что может выйти из этого мальчика? Нищий, пьяница, вор.
– О нет, тетя, нет… О нем и о дяде будут заботиться… Дядя больше не станет просить милостыни… Нет! – энергично протестовала Нина, вся вспыхивая.
– Ты хочешь помогать ему?
– Да, тетя.
– Напрасно, моя милая… Надо помогать с разбором… Твои деньги пойдут на пьянство… Твой дядя совсем погибший человек…
– Не думаю, тетя…
– А я уверена… Уж если помочь ему, то иначе…
– Как, тетя?
– А вот как: поместить его в богадельню. Я берусь это устроить. Это было бы лучше всего!
И княгиня вся засияла от этой неожиданно осенившей ее голову мысли. В самом деле, чего же лучше!
– Но если дядя не захочет, тетя, в богадельню? – промолвила Нина и невольно улыбнулась этому неудержимому желанию княгини благодетельствовать людям, не спросивши у них, хотят ли они этого.
– Ну и дурак, если не захочет, – категорически отрезала княгиня. – Ему, значит, нравится жизнь, которую он ведет.
– Нет, милая тетя, уж вы исполните просьбу… Оставьте дяде мальчика… Не откажите, голубчик тетя! – упрашивала Нина.
– Ну, хорошо… Я уступаю… Не хотят люди добра – как хотят, а я умываю руки! – проговорила, наконец, княгиня.
– И напишите поскорей кому там нужно, а то полиция возьмет мальчика.
– Я сейчас протелефонирую.
И княгиня подошла к телефону, вызвала кого следует и просила отменить распоряжения.
– Ну, теперь одним нищим на свете будет больше… поздравляю. Ты довольна этим, Нина? – проговорила княгиня.
Но тон ее голоса звучал весело. Она, казалось, сама была рада, что исполнила просьбу и оставила Антошку при «графе».
– А мне кажется, что теперь двумя менее несчастными людьми будет более! – заметила Нина, улыбаясь своими большими кроткими глазами.
– Ты, Нина, еще очень молода и потому смотришь в розовые очки… Дай бог, чтоб бедный кузен исправился благодаря мальчику, хотя я мало верю в исправление таких людей… Согласна, что это в самом деле трогательная история… Письмо его хоть и дерзкое, а кажется искренним и, признаюсь, произвело и на меня впечатление…
– Вот видите, тетя… Что он пишет?
– Он более бранится… Ну, довольно об этом. Что кончено, то кончено… Расскажи о себе. Я тебя давно не видала… Что ты делаешь? Надеюсь, ты с нами позавтракаешь? Я тебя не отпущу, слышишь? Довольна ты своей жизнью?
Молодая девушка призналась, что та жизнь, которую она ведет, ее не удовлетворяет.
– Ну еще бы!.. Есть чем удовлетворяться! Эти ваши скучнейшие балы, эти ваши глупые фиксы и глупые кавалеры… Надеюсь, не влюбилась еще ни в одного из этих господ?
– Нет, тетя…
– И слава богу… Я всегда считала тебя умной девочкой… А что ты читаешь? Не одни романы, конечно?
– Нет, тетя… Я и журналы читаю…
– Тебе бы надо, Нина, делом заняться…
– Каким? Научите, тетя…
– Сделайся членом нашего общества «Помогай ближнему!», и, если захочешь, дело найдется…
– Я охотно готова бы работать… Но только…
Она не договорила, несколько смущенная.
– Что же тебя останавливает?
– Папа не особенно любит все эти благотворительные общества…
Княгиня вспыхнула.
– Твой отец – извини, а уж я прямо скажу – совсем сделался в последнее время чиновником и не понимает никакого живого дела… Мы с ним не раз ссорились из-за этого… По его мнению, только то хорошо, что вышло из канцелярий, а свободная частная деятельность ему не по сердцу… Он и меня считает вроде сумасшедшей… я знаю… Но я с ним поговорю о тебе и надеюсь, что он позволит тебе работать под моим наблюдением… Хочешь?..
– С большим удовольствием!
– Очень рада… Ты по крайней мере будешь полезна ближним… А теперь ты что?.. Барышня с хорошим приданым, за которой охотятся женихи… Нечего сказать, приятное положение… И знаешь, что я тебе скажу, Нина?..
– Что тетя?..
– Не торопись выходить замуж.
– Я и не тороплюсь.
– Тебе двадцать лет… Подожди еще лет пять…
– Охотно буду ждать, тетя! – рассмеялась Нина.
– И главное, Нина, не выходи замуж по расчету, и особенно за старика… Избави тебя бог от этого! – как-то значительно и серьезно проговорила княгиня. – Ну, а теперь пойдем завтракать, – круто оборвала она разговор, когда вошедший лакей доложил, что завтрак подан.
XXV
– Куда, прикажете, барышня, домой? – спросил кучер после того, как швейцар Моравских усадил Нину в санки и застегнул полость.
– Нет, Иван… Поезжайте к Бердову мосту. Вы знаете, где Бердов мост?..
– Как не знать, барышня.
Кучер натянул вожжи, и резвая вороная «Светланка» понесла санки крупною быстрою рысью.
Кучер любил «хорошо прокатить» барышню, которую он, как и вся вообще прислуга в доме Опольевых, отличал за ее простоту и ласковое, приветливое обращение, показывавшее, что барышня не гнушается простым человеком. Это не то что «сам генерал», всегда ровный, никогда не возвышавший голоса и в то же время с каким-то снисходительным презрением смотревший на прислугу. Никогда ни с кем ни одного лишнего слова, кроме приказаний, точных и коротких. Никогда ни малейшей фамильярности и никакой шутки, даже с камердинером, который жил у него шесть лет. И недаром все трепетали Опольева, зная, что за малейшую неаккуратность и за неточное исполнение его приказаний виновный будет немедленно рассчитан и без всяких объяснений.
Иван пустил «Светланку» вовсю. Снежная пыль обдавала закутанную Нину, и ветер резал ее лицо. Она любила скорую езду.
– Тише, тише, Иван… Кого-нибудь задавите!..
– Что вы, барышня!.. Не извольте беспокоиться…
Однако он попридержал лошадь, и только в малолюдной Офицерской снова пустил «Светланку» полным ходом.
Не доезжая Бердова моста, кучер круто осадил лошадь у ворот большого дома, указанного Ниной.
Она вышла из саней и нерешительно дернула за звонок у ворот.
Наконец явился дворник.
– Где здесь живет господин Опольев? – спросила Нина.
– На заднем дворе, у прачки, третий этаж… номер пятьдесят! – грубовато ответил дворник.
– Да ты проводи-то барышню… Не видишь, кто с тобой говорит! – сердито окрикнул кучер, находивший, что дворник отнесся не с надлежащим почтением к барышне, да еще приехавшей на собственной лошади.
– Я… что ж… Я провожу… Пожалуйте, барышня! – проговорил дворник уже более любезно.
«Ишь ведь дядю нищего своего пошла проведать», – сочувственно подумал кучер, который уж узнал сегодня на кухне, кто такой брат их генерала.
Не без некоторой брезгливости поднялась Нина по темной вонючей лестнице с мокрыми ступеньками и покрытыми сыростью стенами. Из многих квартир с открытыми дверями шел скверный запах кухни и смрада. По лестнице шмыгнули какие-то подозрительные мужские фигуры, скверно одетые, с испитыми физиономиями, и удивленно озирали нарядно одетую барышню. И Нине становилось жутко.
– Вот здесь, пожалуйте.
И дворник дернул звонок.
За дверями послышалось шлепанье туфель, и Анисья Ивановна в кофте и юбке, с засученными рукавами, показалась в дверях.
– Вам кого? – удивленно спросила она.
– Александр Иванович Опольев здесь живет?
– Здесь… здесь… Пожалуйте, барышня! – приветливо встретила Нину квартирная хозяйка, догадавшись по описанию Антошки, что эта та самая племянница, которая помогла «графу».
– Можно к нему войти? – робко спросила Нина и невольно поморщилась, вдыхая отвратительный спертый воздух маленькой квартирки.
– Очень даже можно… Александр Иваныч сегодня первый раз встали и сидят… Не угодно ли? Входите… Вот их комната…
Нина постучала.
– Войдите! – раздался из комнаты низкий сипловатый басок «графа».
Молодая девушка вошла и остановилась на мгновение, смущенная и взволнованная, пораженная и нищенской обстановкой маленькой комнатки, и видом этого бледного, смертельно бледного, осунувшегося лица, изрытого морщинами, с черными, глубоко сидящими глазами, все еще красивого и выразительного. Шапка кудрявых, седоватых волос, покрывавших большую голову «графа», придавала ему вид художника. С первого же взгляда Нину поразило необычайное сходство его с отцом, но только «граф» казался совсем стариком, хотя и был моложе. Одет он был в свой знаменитый дырявый халат…
– С кем имею честь?.. – с изысканною вежливостью начал было удивленный «граф», с трудом приподнимаясь с кровати и стараясь держаться прямо, но не докончил фразы и, пристально вглядевшись в Нину, воскликнул:
– Нина… Нина Константиновна… Неужели это вы?
– Я самая, дядя! – проговорила закрасневшаяся девушка, торопливо подходя к «графу» и протягивая ему руку.
– Не ожидал! – едва вымолвил он и горячо припал к ее руке.
Нина поцеловала его в голову…
– Не ожидал! – повторил он, стараясь скрыть свое волнение. – Спасибо вам, милая девушка… Спасибо… Садитесь…
И «граф» хотел было подвинуть табурет.
– Не беспокойтесь, дядя… пожалуйста, сидите…
И, присев на табурет, она продолжала, все еще смущенная и взволнованная:
– Я непременно хотела побывать у вас, узнать о вашем здоровье и сообщить приятную весть и вам и Антоше, – обернулась она к Антошке, ласково ему улыбнувшись. – Я только что от княгини Моравской… Антошу от вас не возьмут… Княгиня телефонировала градоначальнику…
Антошка весело улыбался.
– И за это спасибо вам, Нина Константиновна…
– Просто – Нина, дядя…
– Ну извольте, Нина… И за все, за все, что вы сделали…
– Полноте, дядя… Стоит ли говорить… много ли я сделала?.. Я ничего не сделала того, что бы следовало, – как-то значительно и словно бы виновато проронила молодая девушка, бросая робкий взгляд, полный участья, на «графа». – Я ведь раньше решительно ничего не знала о вас, а теперь как узнала от Антоши, какой вы хороший…
– Ну, ему верить нельзя… Он удивительно болтливый и, главное, увлекающийся мальчишка… Видите ли. Нина, детство его было очень печальное, и когда его пригрели, он уж и раскис, являя редкое качество: чувство благодарности… Так княгиня смилостивилась?.. Отказалась от мысли силою облагодетельствовать Антошку и, конечно, полагает, что он пропадет?.. Но вы, Нина, я уверен, этого не думаете и понимаете, что я постараюсь, чтоб он не был похож на меня! – прибавил он с горькой улыбкой.
– Разумеется, не думаю, дядя…
– И не ошибетесь… верьте…
И, словно бы спохватившись и вспоминая, что и он когда-то был светским человеком, «граф» поспешил осведомиться о здоровье ее родителей.
– Благодарю вас, здоровы…
Она хотела было прибавить: «Вам кланяются», но удержалась от этой лжи и прибавила:
– Я ведь к вам, дядя, приехала экспромтом… Ни папа, ни мама не знают…
– Тем более порадовали… Ведь вы первая из родственников решились посетить меня… Первая и, вероятно, последняя…
– Я, дядя, если позволите, и еще приеду.
– Позволю?.. Я буду бесконечно рад вас видеть, но… как бы вам-то не досталось, милая племянница… Ваш отец не очень-то обрадуется, если узнает, а я… я не хочу, чтобы из-за меня вам сказали хоть одно неприятное слово! – прибавил граф на превосходнейшем французском языке.
– Не бойтесь… Не достанется… И я надеюсь, что и папа примирится с вами… поймет, как он перед вами… виноват!..
– Виноват?.. Напрасно вы думаете, что он виноват… У брата своя точка зрения… Он человек известных правил… вот и все…
Нина просидела полчаса и была просто очарована и изяществом «графа», и его остроумными замечаниями, и его манерами, полными достоинства.
Наконец она поднялась и, крепко пожимая руку «графа», горячо проговорила:
– Я очень, очень рада, дядя, что познакомилась с вами…
И прибавила по-французски с робкою застенчивостью:
– И надеюсь, дядя, что вы позволите мне быть исключением из родственников… и… и… быть вам полезной, – чуть слышно прибавила она. – Видите ли… у меня есть свободные и совсем ненужные деньги… Не обидьте, дядя, меня отказом и позвольте ежемесячно присылать вам безделицу… тридцать пять рублей… Больше я, к сожалению, не могу…
«Граф» не находил слов.
– И кроме того… вам, дядя, необходимо переменить квартиру и… сделать кое-что… Вы больны, вам нужен уют… теплое платье… На днях я пришлю деньги… Они мне совсем не нужны… право… двести рублей… Вы перемените обстановку… Вам необходима чистая комната… Не правда ли… И вы возьмете от любящей вас племянницы… Ведь да, да?..
– Милая! Добрая!.. – проговорил дрогнувшим голосом «граф».
– До свиданья, дядя… Будьте здоровы…
Она крепко пожала руку «графа» и сказала Антошке:
– Проводи меня, Антоша… Прощайте, Анисья Ивановна…
Антошка проводил молодую девушку до саней. Когда он ее подсаживал, то заметил, что глаза ее полны слез.
– Прощайте, барышня… Дай вам бог всего хорошего! – горячо проговорил он.
– До свиданья… Берегите дядю… Если ему будет хуже, дайте мне знать…
Необыкновенно веселый и радостный вернулся Антошка к «графу» и думал встретить и его такого же веселого. Но каково же было его удивление, когда, войдя в комнату, он увидел «графа», сидящего на кровати с закрытым руками лицом. Плечи его вздрагивали, словно бы он плакал.
И «граф» действительно плакал, потрясенный и тронутый сердечным участием, которого он так долго не видал. Неужели это не сон и впереди новая жизнь без этого опостылевшего попрошайничества?
XXVI
Молодая девушка возвращалась домой растроганная и взволнованная, одушевленная горячим желанием во что бы то ни стало устроить несчастного дядю. Он положительно ее очаровал, этот нищий и пропойца, как брезгливо называл ее отец родного брата. Необходимо – и как можно скорее – перевести его из этой крошечной, полутемной комнаты в лучшую, надо дать возможность ему одеться сколько-нибудь прилично, завести белье, теплую одежду… вообще успокоить его хоть на склоне жизни…
Она заметила и этот дырявый халат неопределенного цвета, бывший на нем, и эти туфли, которые не надела бы ее горничная, и это отвратительное, порыжелое пальто, тоненькое, заштопанное, висевшее на гвоздике.
И в таком одеянии родной брат ее отца выходил на улицу просить милостыню!
О папа, папа!
Бедный дядя! Как должен страдать он, всеми брошенный, всеми презираемый. Как зяб он, едва прикрытый, в то время когда его близкие родные ездили в роскошных шубах или сидели в уютных, теплых комнатах. И никто не вспомнил о нем, никто не пожалел его!
– Отчего такая жестокость? – спрашивала себя потрясенная девушка.
А между тем как он был тронут малейшим вниманием и сколько в нем доброты, сколько нежности к спасенному им мальчику. Сам нищий, заботится о таком же нищем. А отец говорил, что он изолгавшийся, пропавший человек!
– Господи! Отчего отец так озлоблен против него?
Нина – эта тепличная барышня, оберегаемая от всякого прикосновения с действительной жизнью – первый раз в течение своей двадцатилетней жизни увидала, как живут бедные люди. Ей, не имевшей понятия о том, в каких действительно ужасных подвалах и трущобах гнездится бедный люд, и это сравнительно еще сносное помещение «графа», о котором не смели бы мечтать более несчастные люди, – казалось чем-то ужасным, чем-то невозможным.
И перед ней словно бы внезапно приподнялась завеса нового мира – мира нищеты и страданий, о котором прежде она ничего не знала и никогда не думала сколько-нибудь сознательно.
Она, положим, и раньше слыхала, что существуют на свете нищие люди, но они представлялись ей какими-то порочными отверженцами, какими-то страшными людьми, сделавшимися такими по собственной вине.
По крайней мере так говорил о них отец, и она ему верила.
Слышала она от отца и другие своеобразные суждения вообще о народе.
Его превосходительство неизменно и с присущим ему апломбом говорил – и в последнее время все чаще и настойчивее, – что русский народ вконец развращен и испорчен: он ленив и беспечен, живет как свинья, пьянствует и совсем распущен благодаря тому, что после освобождения с ним сентиментальничали, вместо того чтоб поставить над ним строгую непосредственную власть. Необходимо народ держать в ежовых рукавицах и не стесняться учить его по-старинному – розгой. Такая строгость, разумеется разумная, необходима в собственных его же интересах – иначе прежние патриархальные качества русского мужика исчезнут окончательно. Подобная опека вполне отвечает и государственным задачам и самобытным русским устоям.
– Разнуздайте этого зверя или дайте ему попробовать европейской цивилизации, и вы увидите, что будет…
Его превосходительство не досказывал, что будет, но его гладко выбритое лицо чиновного авгура становилось таинственным, и он как-то угрожающе разводил выхоленными руками с крепкими ногтями, предоставляя слушателю догадываться, что может произойти…
Такие положения сделались любимым коньком Опольева после того, как он, умудренный, вероятно, житейским опытом, круто переменил прежние свои взгляды, когда составлял красноречивые записки по поручению прежнего начальства совсем в другом духе о том же самом народе.
Теперь же он любил выставлять на вид новые свои воззрения, к которым пришел, как говорил он, путем горького разочарования в приложимости к русской жизни многих, казалось бы, и полезных реформ. Насколько было возможно, он старался провести свои новые мнения путем бойких записок, снабженных многочисленными историческими, экономическими и даже богословскими данными.
Он называл себя здравомыслящим консерватором и находил, что решительный консерватизм будто бы вполне соответствует духу времени и в то же время не бесполезен для увенчания блестящей карьеры.
Однако он заблуждался насчет своих честолюбивых надежд. Его решительные проекты погребены были в министерском архиве, и его не призывали осуществлять их.
Других мнений не приходилось слышать молодой девушке в отчем доме, и когда отец высказывал их, бывало, за обедом какому-нибудь приглашенному гостю, то гость не противоречил, а соглашался с его превосходительством.
Но и такие разговоры из области государственной политики происходили редко в присутствии молодой девушки. Они обыкновенно велись в кабинете. Ей же приходилось только слушать во время визитов разные светские и административные сплетни и не особенно остроумные beaux mots [15]15
остроты (франц.).
[Закрыть], сообщавшиеся матери, шаблонно-светскую, непосредственно к ней обращенную бессодержательную болтовню порядочных молодых людей или пошловатые любезности ухаживателей, которые не прочь были предложить ей руку и сердце и взять ее хорошее приданое. В дамском обществе, среди кузин и приятельниц, ей приходилось слушать одни и те же разговоры о нарядах, о Михайловском театре, о флирте того-то с той-то и самые злые сплетни насчет замужних женщин, увлечения которых обсуждались даже молодыми девицами.
И молодая девушка жила в этом обособленном кружке, полном своих интересов, интриг и искательств, точно в каком-то заколдованном замке, до которого не доносилась широкая волна жизни. Все, что происходило там, за пределами волшебного замка, ей было так же неведомо, как неведома внутренность Африки.
Не помогло ей нисколько в этом отношении и шестилетнее пребывание в учебном заведении. И там все вопросы, более или менее интересующие обыкновенных смертных, предусмотрительно обходились, как совершенно бесполезные для будущих светских дам, которым решительно не нужно знать: действительно ли земля кругла и отчего крестьяне не имеют ни бриошей * к чаю, ни жареной курицы за обедом. Наука там имела какой-то элегантно-веселый характер анекдотов и более или менее достоверных фактов без каких бы то ни было обобщений. В воображении юниц весь божий мир представлялся ареной для приятного препровождения генеральских дочерей, особенно если у родителей или у мужа есть хорошие средства, а для остальных скучным прозябанием с плохими костюмами и плохим выговором французского языка. В теоретическом представлении народ являлся каким-то таинственным сборищем бородатых и грязных пахарей, обязанность которых трудиться в поте лица своего и собирать в житницы. В конкретном виде народ представлялся горничными, лакеями, кучерами и швейцарами, назначение которых не оставляло места для каких-либо сомнений. Несколько странной породой людей казались воспитанницам учителя. Их можно было обожать и в то же время нельзя было пригласить в дом и выйти за них замуж. Их надобно было уважать и слушаться и слегка презирать за дурной костюм и немодную прическу.







