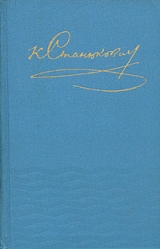
Текст книги "Том 5. Повести и рассказы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц)
II. Утро
I
Горизонт на востоке разгорался все ярче и ярче в лучезарном блеске громадного зарева, сверкая золотом и багрянцем. Небо там горело в переливах и сочетаниях самых волшебных ярких цветов, подернутое выше, над горизонтом, нежной золотисто-розовой дымкой. А на противоположной его стороне еще трепетал в агонии предрассветный сумрак, и еле мигали едва заметные редкие звезды.
Наконец солнце обнажилось от своих пурпурных одежд и медленно, будто нехотя, выплыло из-под горизонта, жгучее и ослепительное. И мгновенно все вокруг осветилось, ожило, точно пробудившись от сна, и сбросило с себя таинственность ночи, приняв прозрачную ясность и определенность.
На далекое, видимое глазом, пространство синел океан, окаймленный со всех сторон голубыми рамками высокого бирюзового купола, по которому кое-где носились маленькие белоснежные перистые облачка прихотливых узоров. Они нагоняли друг друга, соединялись, вновь расходились и исчезали, словно тая в воздушном эфире. По-прежнему веселый и ласковый, океан почти бесшумно, с тихим однообразным рокотом катил свои могучие волны с серебристыми верхушками, слегка и бережно покачивая маленький корвет. Океан почти пуст, куда ни взгляни. Только справа белеют, резко выделяясь в прозрачном воздухе, паруса трехмачтового судна, судя по рангоуту – «купца», идущего одним курсом с «Соколом», который заметно нагоняет своего попутчика и, вероятно, скоро, по выражению моряков, «покажет ему свои пятки». Высоко рея в воздухе, быстро проносится «фрегат», направляясь наперерез к далекому берегу Америки; неожиданно спустится на волны стайка белоснежных альбатросов, покачается на воде, схватит добычу и, расправив свои громадные крылья, взовьется наверх и исчезнет из глаз; где-нибудь вблизи шумно пустит фонтан разыгравшийся кит, и снова безмолвно и пустынно на безбрежной дали океана.
Это чудное, радостное утро, дышащее бодрящей свежестью, весело заглянуло и на корвет и залило его блеском света. И все – людские фигуры, мачты, паруса, снасти, – что в таинственном мраке казалось чем-то смутным, неопределенно-фантастическим и большим, приняло теперь резкую отчетливость форм и очертаний, словно избавившись от волшебных чар дивной тропической ночи. И смолкли сказки, и отлетели грезы у людей, которых утро застало бодрствующими.
Надувшиеся паруса сразу побелели, приняв свои настоящие размеры, и паутина снастей, отделявшихся одна от другой, резко вырисовывалась по бокам мачт с их марсами и салингами. Закрепленные по-походному по обоим бортам орудия, черные и внушительные на своих станках, выделялись на общем фоне палубы, почти сплошь покрытой спящими людьми. На юте, в подвешенных койках, спали офицеры, а от шканцев и до бака, занимая середину судна, лежали на разостланных тюфяках, в самых разнообразных позах, спящие подвахтенные матросы, обвеваемые нежным дыханием пассата. Храп раздается по всему корвету. Поклевывавшие носами вахтенные матросы подбодрились, стоя у своих снастей или дежуря на марсах, и многие приветствовали восход солнца крестным знамением. Не без зависти поглядывая на спящих товарищей, они осторожно, чтобы не наступить на кого-нибудь, по очереди пробирались на бак – выкурить трубочку махорки у кадки с водой и перекинуться словом-другим о своих матросских делишках. Заложив назад свои жилистые, здоровенные, просмоленные руки, вид которых внушает почтительное уважение матросам-«первогодкам», боцман Андреев, Артемий Кузьмич, как зовут его матросы, низенький, крепкий, скуластый человек лет под пятьдесят с черными, заседевшими баками и красным обветрившимся лицом, ходит взад и вперед по баку с обычным своим суровым начальственным видом, твердо и цепко ступая по палубе своими мускулистыми босыми ногами, и словно уже предвкушает близость утренней чистки и «убирки» судна, во время которой – благо капитан спит – он даст полную волю своей ругательной импровизации, а подчас и рукам, если подвернется какой-нибудь из молодых матросов, который, по мнению боцмана, еще требует «выучки»; превозмогая невольно охватывающую дремоту, только что вступивший на вахту с 4 часов утра, второй лейтенант жмурит сонные глаза, равнодушный к чудному утру и окружающей прелести. Ну ее к богу! Он бы с восторгом поспал еще часок-другой. И лейтенант, заспанный, еще не совсем, казалось, очнувшийся, тоже завистливо посматривает на ют, где счастливцы-товарищи безмятежно спят и будут еще спать до подъема флага.
Проходит склянка, и сонное состояние исчезает. Лейтенант всем существом наслаждается прелестью раннего утра и полной грудью вдыхает насыщенный озоном воздух. Вместе с тем он проникается и важностью лежащих на нем обязанностей вахтенного начальника и, подняв голову, зорко и внимательно оглядывает паруса. Грот-марсель не дотянут до места, и лиселя с правой чуть-чуть «полощат». Срам! Что подумали бы о нем капитан и старший офицер, если б увидали такое безобразие? «И хорош Невзоров, нечего сказать, а еще считается настоящим „морским волком“! Сдал вахту и не заметил, что у него неисправности!» – не без злорадства подумал второй лейтенант, тоже имевший претензию (и небезосновательную) на звание лихого морского офицера. Спустившись с мостика, он прошел на бак, чтоб осмотреть, хорошо ли стоят паруса на фок-мачте и кливера на носу.
На баке его встретил вахтенный юный гардемарин, сонный и румяный, а боцман, уже заметивший, что брам-рея плохо обрасоплена, и потому угол брамселя «играет», и что фор-стеньга-стаксель «мотается зря», сконфуженно нахмурился, когда вахтенный начальник, остановившись и расставив фертом ноги, задрал назад голову.
– Господин Наумов, полюбуйтесь: фор-брам-рея не по ветру… Фор-стеньга-стаксель не вытянут… А ты чего смотришь, Андреев? А еще боцман! – меняя тон, проговорил вахтенный офицер, строго обращаясь к боцману.
– В темноте не видать было, ваше благородие.
– В темноте не видать! Уж давно светло, – ворчливо проговорил лейтенант, сознавая в душе, что и он целую склянку «проморгал» эти неисправности, и, уходя, приказал гардемарину обрасопить, как следует, брам-рею и натянуть стаксель.
И, поднявшись на мостик, лейтенант вполголоса, чтобы своим звучным, крикливым тенорком не разбудить людей, скомандовал выправить лиселя с правой и вытянуть до места грот-марса-шкот. И когда все было исправлено и дотянуто до места, он с чувством удовлетворения взглянул на паруса, выслушал доклад сигнальщика, что лаг показал семь с половиной узлов хода, и, оживившийся, не чувствуя более желания соснуть, бодро заходил по мостику, посматривая по временам в бинокль на «купца», короткий и пузатый корпус которого заставлял предполагать в нем голландца. И действительно, когда корвет почти нагнал его, на «купце» взвился голландский флаг и тотчас же был опущен. То же самое сделали и на «Соколе», ответив на обычную вежливость при встречах судов.
Солнце быстро поднималось кверху. На баке пробили две склянки – пять часов, когда обыкновенно встает команда. И с последним ударом колокола боцман уже был у мостика и, прикладывая растопыренную свою руку к околышу надетой на затылок фуражки, спрашивал:
– Прикажете будить команду, ваше благородие?
– Буди.
Получив разрешение, Андреев вышел на середину корвета и, просвистав в дудку долгим, протяжным свистом, гаркнул во всю силу своего зычного голоса:
– Вставать! Койки убирать! Живо!
– Эка, подлец, как орет! – проворчал во сне кто-то из офицеров, спящих на юте, и, позвав сигнальщика, велел кликнуть своего вестового, чтобы перебраться в каюту и там досыпать. Примеру этому последовали и остальные офицеры, расположившиеся на юте, зная очень хорошо, что во время утренней уборки «медная глотка» боцмана в состоянии разбудить мертвого.
Между тем разбуженные боцманским окриком матросы просыпались, будили соседей и, протирая глаза, зевая и крестясь, быстро вставали и, складывая подушку, простыни и одеяло в парусинные койки, сворачивали их аккуратными кульками, перевязывая крест-накрест черными веревочными лентами. Прошло не более пяти минут, и вся палуба была свободна. Раздалась команда класть койки, и матросы, рассыпавшись, словно белые муравьи, по бортам, укладывали свои красиво свернутые кульки в бортовые гнезда, в то время как несколько человек выравнивали их; скоро они красовались по обоим бортам, белые как снег и выровненные на удивленье, лаская самый требовательный «морской глаз».
После десятка минут скорого матросского умывания и прически, вся команда, в своих рабочих, не особенно чистых рубахах, становится во фронт и, обнажив головы, подхватывает слова утренней молитвы, начатой матросом-запевалой, обладавшим превосходным баритоном. И это молитвенное пение ста семидесяти человек звучит как-то торжественно среди океана, при блеске этого чудного тропического утра, далеко-далеко от родины, на палубе корвета, который кажется совсем крошечной скорлупкой на этой беспредельной водяной пустыне, спокойной и ласковой здесь, но грозной и подчас бешеной в других местах, где с ее яростью уже познакомился корвет и снова не раз испытает ее, миновав благодатные тропики. И, словно чувствуя это, матросы, особливо старые, побывавшие в морских переделках, с особенным чувством поют молитву, серьезные и сосредоточенные, осеняя свои загорелые лица истовыми и широкими крестными знамениями, как будто оправдывая поговорку: «кто в море не бывал, тот богу не маливался».
Звуки молитвы замерли, и матросы разошлись, чтобы позавтракать размазней с сухарями и напиться чаю, после чего на корвете началась та ежедневная педантическая уборка и тщательная чистка, которая является на военных судах предметом особой заботливости и каким-то священным культом. Под аккомпанемент поощрительных словечек боцманов и унтер-офицеров, матросы, вооруженные камнями, скребками, голиками и песком, с засученными рукавами и поднятыми до колен штанами, рассеялись по палубе и начали ее тереть песком и скоблить камнем, мести швабрами и голиками, окачивая затем водой из брандспойтов и из парусинных ведер, которые то и дело опускали за борт. Другие в то же время мыли борты, предварительно их намылив, и затем вытирали щетками. Везде, и наверху, и в жилой палубе, и еще ниже: в машинном отделении и трюмах, мыли, чистили, скребли и скоблили. Всюду обильно лилась вода и гуляли швабры. Когда наконец корвет был вымыт как следует, во всех своих закоулках, приступили к так называемой на матросском жаргоне «убирке» и, надо признаться, убирали корвет едва ли не старательнее и усерднее, чем убирают какую-нибудь молодую красавицу-даму, отправляющуюся на бал и мечтающую затмить всех своих соперниц. Прибирали и подвешивали бухты снастей, наводили глянец на орудия и на медь на поручнях, люках, компасе, кнехтах, словом, не оставляя в покое ни одного предмета, который только было можно вычистить. Повсюду в ловких матросских руках, желтых от толченого кирпича, мелькали суконки, тряпки, пемза, и повсюду раздавался осипший от брани, но все еще зычный густой бас боцмана Андреева. Впрочем, справедливость требует заметить, что боцман Андреев, вообще человек очень добрый и больше напускавший на себя строгость, ругался главным образом для соблюдения своего достоинства. Нельзя же – боцман! И какой же был бы он боцман в старые времена, если б не ругался так, как только могут ругаться боцмана, щеголявшие перед матросами неистощимостью фантазии и неожиданностью эпитетов!
Старший офицер, высокий, длинный и худощавый человек, лет около сорока, с серьезным и флегматическим на вид лицом, поднялся одновременно с командой и давно уже бродит по корвету, не спеша ступая своими длинными ногами, и появляется то тут, то там, зорко и молчаливо наблюдая за чисткой и уборкой судна, отдавая приказания боцману о дневных работах или подшкиперу насчет починки старых парусов и старого такелажа.
По званию своему старшего офицера, помощник и правая рука капитана, он несет свою трудную, полную постоянных забот, службу с каким-то суровым спокойствием рыцаря долга, никогда не жалуясь, не кипятясь без толку, всегда молчаливый и лаконический. Педант, как почти все старшие офицеры, самолюбивый и до крайности щепетильный во всем, что касалось корвета, он заботился о нем, о его чистоте, порядке и великолепии, словно мать о ребенке. Он серьезно сокрушался, если на «Соколе» ставили или крепили паруса секундами двумя-тремя позже, чем на другом военном судне, словом – ему хотелось, чтобы «Сокол» во всем был первым. Он был требователен по службе и настойчив, но не «скрипел», как говорят матросы про начальников, любящих донимать простого человека «жалкими» словами, и матросы, звавшие старшего офицера между собой «журавлем», находили, что он, хоть и любит строгость, но ничего себе, «справедливый журавль» и зря человека не обидит. Однако побаивались его – такой уж серьезный и внушительный вид был у Степана Степановича, несмотря на то, что он никогда не прибегал к телесным наказаниям и редко, очень редко дрался.
Уже восьмой час. Корвет совсем прибран. Старший офицер обошел его, заглянув во все закоулки, и все нашел в полном порядке. Все сияло блеском и чистотой. Даже бык, последний из четырех быков, взятых в Порто-Гранде, стоял в своем стойле вычищенный, с лоснящейся шерстью, и спокойно жевал сено, не ожидая, конечно, что на днях его убьют. Клетки с курами и утками и самодельный хлев, в котором хрюкали две свиньи, – все это будущие жертвы для капитанского и кают-компанейского стола, – были заботливо убраны, и живущие в них даже обкачены, по матросскому усердию, водой. Не мешает, мол, и им помыться! Только на юте Степан Степанович слегка нахмурился, заметив на безукоризненно белой палубе маленькое, едва заметное пятнышко, и, подозвав ютового унтер-офицера, проговорил, указывая на пятно своим длинным и костлявым пальцем:
– Это что?
– Пятно, ваше благородие, – отвечал сконфуженно унтер-офицер, – не отходит.
– Выскоблить. Должно отойти! – заметил старший офицер и поднялся на мостик.
Матросы, уже переодетые в чистые рубахи, толпятся на баке у кадки с водой – этом главном центре матросского клуба – и, в ожидании подъема флага и начала разных дневных работ и учений, следующих по расписанию, оживленно беседуют между собой. Нередко слышится смех. Лица у всех довольные и веселые. Видно, что люди не забиты и не загнаны.
– И долго нам так плыть, братцы, по-хорошему, как у Христа за пазухой? – спрашивал низенький белокурый молодой матросик, с большими серыми глазами на необыкновенно добродушном и симпатичном лице, свежем и румяном, усеянном веснушками, – в первый раз, прямо от сохи, попавший в «дальнюю», как называют матросы кругосветные плавания.
– А ты как об этом полагаешь? Небось, хорошо так-то плавать? Да только шалишь, брат. Таких благодатных местов у господа немного! – заметил кто-то в ответ.
– Ден двадцать! – авторитетно заговорил «Егорыч», плотный и приземистый пожилой баковой, лихой матрос с медной серьгой в ухе, пользовавшийся общим уважением команды, обращаясь к «первогодку» и своему земляку, которому покровительствовал.
И, сделав несколько затяжек из своей маленькой трубочки, продолжал:
– А там, братец ты мой, спустимся совсем книзу, а оттеда, значит, повернем в Индейский окиян. Ну, там… известно, другое дело. Там настояще узнаешь, каково матросское звание и каков есть окиян. Не приведи бог какие там «штурмы» бывают! – прибавил Егорыч, ходивший уже во второй раз в дальнее плавание.
– Страшно? – с наивным простодушием спросил молодой матросик.
– Всего увидишь. А что страшно, так не надо бояться, и не будет страшно. Бойся не бойся, а все равно никуда не уйдешь с «конверта». Кругом вода! – промолвил Егорыч с улыбкой, указывая своей шершавой, просмоленной жилистой рукой на океан.
– Ддда, отсюда не убежишь, брат! – рассмеялся один из присутствующих.
– К акулам разве… Живо сожрет, подлая… Даве утром шнырила, шельма, около борта… Страсть какая большая.
– А ходили мы тогда, братцы, – продолжал Егорыч, обращаясь ко всем, – на клипере «Голубчике», слыхали про «Голубчика»? Так как зашли мы в Индейский окиян, этак ден через пять, нас прихватила штурма, а опосля ураган, и думали: всем нам шабаш, придется господу богу отдавать душу… Уж чистые рубахи собирались одевать, чтобы на тот свет, значит, как следовает явиться. Однако господь вызволил… Один только марсовой утонул – царство ему небесное! Ну, да и капитан был у нас отчаянный – может, слыхали Алексея Алексеевича Ящурова, в адмиралы теперь вышел? Форменный, прямо сказать, был капитан. И дело свое знал и с матросом был добер на редкость, вроде нашего командира. Одно слово – душевный человек… Видно, господь нас тогда пожалел за евойную доброту к матросам… А то совсем собрались было тонуть, братцы… Даже и капитан наш, уж на что бесстрашный, и тот призадумался…
Егорыч замолчал и, выбив золу из трубки, сунул ее в карман штанов и хотел уходить, как несколько голосов остановили его:
– Да ты куда, Егорыч?.. Ты сказывай, как, мол, вы штурмовали…
– Объясни толком, как это вас бог спас, а то раззадорил только.
Но особенно, по-видимому, был заинтересован молодой матросик. Взволнованным голосом, в котором слышались молящие нотки, он проговорил:
– Нет уж, уважь, Егорыч… Расскажи…
– Да что рассказывать-то? Известно, всего в море бывает… На то и матросы, – промолвил, как бы не желая рассказывать, Егорыч.
Однако остался и, откашлявшись, начал рассказ.
Все притихли.
II
– Шли этто мы в те поры на «Голубчике» с мыса Надежного [2]2
Мыс Доброй Надежды.
[Закрыть]на Яву остров, там город такой есть, Батавия, и с первых же ден, как вышли мы с мыса, стало, братцы мои, свежеть, и что дальше, то больше… Ну, мы, как следовает, марсели в четыре рифа, дуем себе с попутным ветром… «Голубчик» был крепкий… Поскрипывает только, бежит себе с горы на гору да раскачивается… Люки, известно дело, задраены наглухо… Ничего себе, улепетываем от волны… А волна, прямо сказать, была здоровая. Как взглянешь назад, так и кажется, что вот и захлестнет совсем сзади эта самая водяная гора. Спервоначала было страшно, однако вскорости привыкли, потому как эта гора стеной за кормой станет, в тот же секунд уж «Голубчик» по другой волне ровно летит в пропасть, и корма, значит, опять на горе, а нос взроет воду, так что бушприт весь уйдет, и снова – ай-да! – так и взлетит на горку… Ловок он был, клиперок-то наш, так и прыгал… Ну, известно, на баке не стой, того и гляди смоет… Стоим на вахте и все к середке жмемся…
– Ишь ты… Совсем беда! – вырвалось невольное восклицание у взволнованного молодого матросика, слушавшего рассказ с напряженным вниманием.
– Глупый! – добродушно усмехаясь, продолжал Егорыч, – самая-то беда была впереди, а тогда еще никакой большой беды не было. Судно крепкое, доброе, только рулевые не плошай и держи в разрез волны, чтобы она боком не захлестнула… И у нас, значит, никакой опаски. Рассчитываем: стихнет, мол, погода, не век же ей быть, и опять камбуз разведут, варка будет, а то солонинка да сухари; ну и этой подлой мокроты не станет – обсушимся… Простоишь вахту, так весь мокрый, ровно утка, спустишься вниз да так мокрый и в койку – где уж тут переодеваться, того и гляди лбом стукнешься, качка – страсть! Ну, и опять же, видим, и начальство не робеет – так нам чего робеть. Стоит этто наш командир Алексей Алексеич на мостике в кожане своем да в зюйдвестке, спокойный такой, бесстрашный, да только рулевым командует, как править; а у штурвала стояли двое коренных рулевых да четверо подручных… Ловко правили… В те дни командир бессменно почти наверху находился, никому, значит, в такую погоду не доверял… Днем только на часок-другой спустится вниз, к себе в каюту, а за себя оставит старшего офицера, подремлет одним глазом, выпьет рюмочку марсалы * или какого там вина, закусит галеткой и снова выскочит на мостик. «Идите, мол, Иван Иваныч, – это старшего офицера так звали, – а я, говорит, побуду наверху»… И опять, как следовает по присяге и совести, смотрит за «Голубчиком», ровно добрая мать за больным дитей. Сам из лица бледный такой, глаза красные от недосыпки, однако виду бодрого… Нет-нет да и пошутит с вахтенным офицером… тоже, братцы, и командирская должность, прямо сказать, вроде быдто анафемской, а главное дело – отвечать за всех приходится. И за матросские души богу-то ответишь на том свете, ежели сплоховал и погубил их. В ком совесть есть, тот это и понимает, а в котором ежели нет и который матроса теснит, у того господь и разум отнимает во время штурмы… Оробеет вовсе, ровно не командир, а баба глупая… Ну, а в таком разе и все оробеют… А море, братцы, робких не почитает… Коли ты перед им струсил – тут тебе и покрышка!
Егорыч, вообще любивший пофилософствовать, на минуту замолчал и стал набивать свою трубочку. Закурив ее, он сделал две затяжки, не поморщившись от крепчайшей махорки, и, благосклонно протянув трубку молодому матросику, продолжал:
– Хорошо. Жарили мы, братцы, этаким манером, с попутной штурмой, дня два и валяли узлов по одиннадцати, как на третий день, этак утром, штурма сразу полегчала, и к полудню ветер вдруг стих, словно пропал, только волна все еще ходила, не улеглась… И стало, братцы, как-то душно на море, ровно дышать тягостно, понависли тучи совсем черные, закрыли солнышко, и среди белого дня темно стало… И наступила тишь кругом… А вдали, по краям, везде мгла… Мы, глупые молодые матросы, обрадовались было – не понимали, к чему дело-то клонит, думали – стихло, так и слава тебе господи, сейчас, мол, камбуз разведут, и мы похлебаем горячих щей; но только старики-матросы, видим, промеж себя толкуют что-то, а боцман наш смотрит кругом и только головой покачивает. «Не к добру, говорит, все это. Дело всерьез будет. Ураган, говорит, индийский идет… Подкрадывается, шельма, тишком, людей обманывает!» И тут же позвали его к старшему офицеру. Вестовой прибежал: «тую ж минуту иди, говорит». А капитан со старым штурманом, заместо того, чтобы отдохнуть в каюте, не сходят с мостика: все кругом в «бинки» (бинокли) смотрят, а то на компас да на вымпел на грот-мачте: есть ли, значит, ветер и откуда он… А ветру – ни-ни. Качает с боку на бок на зыби «Голубчик», и зарифленные марселя шлепают. Дышать еще труднее стало, словно давит сверху. Той минуткой прибежал на бак один мичман и говорит товарищу мичману, что подручным на вахте стоял: «Барометр, говорит, шибко падает, кажись, ураган будет. Только бы в центру урагана не попасть!» Приказали разводить пары. И все офицеры высыпали наверх – на мглу на эту самую, что кругом, все так и смотрят. А вахтенный вскричал: «свистать всех наверх, стеньги спущать и паруса крепить!» Заорал и боцман, а все и без того наверху. Скомандовал старший офицер, и полезли мы, братцы, по вантам, только держимся, потому – качка. Спустили стеньги, остались с одними кургузыми мачтами, закрепили марсели и поставили штормовые триселя и штормовую бизань – вот и всего. Тут и все поняли, что щей не будет, а готовимся мы к такой буре, какой не видывали. Приказано было осмотреть, хорошо ли закреплены орудия. Сам капитан осмотрел, спустился вниз, там все высмотрел и вернулся на мостик… Ничего, такой же бесстрашный. Совесть, значит, спокойная. «Приготовился, мол, а там, что бог даст!»
– Не приготовься вы вовремя – шабаш! – заметил подошедший боцман Андреев. – Один российский клипер так и пропал со всеми людьми в урагане… А купцов много пропадает в Индейском… Занозистый океан! – прибавил боцман и выругал его.
– То-то и есть, пропали бы и мы… Не дай бог попасть в ураган, – подтвердил Егорыч, – да сплоховать… Он тебя живо слопает…
– Что ж дальше-то? Рассказывай, Егорыч, – нетерпеливо проговорило сразу несколько слушателей.
– Прошло так минут, примерно, с десять… Стоим это мы все на баке и ни гу-гу, молчим, потому всем жутко, – как вдруг мгла на нас все ближе и ближе, обхватила со всех сторон, и закрутил, братцы, такой страшный вихорь, что клипер наш ровно задрожал весь, заскрипел, и повалило его на бок и стало трепать, ровно щепу. А кругом – господи боже ты мой! – словно в котле вода кипит, только пена белая… Волны так и вздымаются и бьют друг о дружку. У меня, признаться, от страху мураши по спине забегали. Держусь это я за леер на наветренной стороне, у шкафута, гляжу, как волны по баку перекатываются, и думаю: «сейчас сгибнем», и шепчу молитву. Однако вижу: «Голубчик» приподнялся, держится, только двух шлюпок нет, сорвало… А у штурвала, около рулевых, капитан в рупор кричит: «Держись крепче, ребята. Не робей, молодцы!» И от евойного голоса быдто страх немного отошел. А тут еще слышу: боцман наш ругается; ну, думаю, живы еще, значит… Мотало нас, трепало во все стороны – держится «Голубчик», только жалостно так скрипит, быдто ему больно… И как же не больно, когда его волны изничтожить хотят?.. Капитан только рулевых подбодряет да нет-нет и на мачты взглянет… Гнутся, бедные, однако стоят… Так, братцы вы мои, крутило нас примерно с час времени… Ад кромешный да и только… Ветер так и воет, и вода вокруг шумит… Крестимся только… Как вдруг что-то треснуло быдто… Гляжу, а фок-мачта закачалась и с треском упала… Пошли мы ее освобождать, чтобы скорей за борт… ползем с опаской, чтобы не смыло волной, ноги в воде… Тут и старший офицер: «Живо, ребята, поторапливайся!» Ну, мачту спихнули, а марсовой Маркутин зазевался, и смыло его, – только и видели беднягу. Перекрестились и еще крепче держимся, кто за что попало… А вихорь сильнее закрутил, и стало, братцы вы мои, кидать клипер во все стороны, руля не стал слушать, а волны так и перекатываются по палубе; баркас, как перышко, унесло, рубка, что наверху, в щепки… Посмотрел я на нашего Алексея Алексеевича… Вижу, – как смерть бледный, только глаза огнем горят… И все офицеры бледные, и все смотрят на капитана… У всех, видно, на уме одна дума: «смерть, мол, надо принять в окияне!» И у меня та же дума. И так, братцы, жутко и тошно на душе, что и не сказать! Вспомнилась, этто, своя деревня, батюшка с матушкой, а господь умирать велит… А смерти не хочется! «Господи, говорю, помоги! Не дай нам погибнуть!» А около меня шканечный унтерцер Иванов, степенный и благочестивый такой старик, – он и вина не пил никогда, – перекрестился и говорит: «Надо вниз спуститься, чистые рубахи одеть, исполнить, говорит, христианскую матросскую правилу, чтобы на тот свет в чистом виде. А ты, говорит, матросик, – это он мне, – не плачь. Бог зовет, надо покориться». И так это он спокойно говорит, что пуще сердце мое надрывается.
– Господи, страсти какие! – вырвалось восклицание из груди молодого матросика, который – весь напряженное внимание – слушал Егорыча и, казалось, сам переживал перипетии морской драмы.
– Тут, братцы, налетела волна и подхватила меня. Господь помиловал – откинула меня на другую сторону и у пушки, на шканцах, задержала, и ребята помогли. «Молодцом, Егоров, держись!» – крикнул капитан. Держусь, мокрый весь, без шапки. А «Голубчика» опять валит на бок, больше да больше… Не встает… Подветренный бок совсем в воде… Вот-вот опрокинемся… Волос дыбом встал. «Право на борт!» не своим голосом крикнул капитан. «Руби грот-мачту!» Но тую ж минуту застукала машина… Клипер поднялся, и мачту не тронули… «Голубчик» послушливый стал. Привели в бейдевинд. Таким манером трепало нас до вечера, и томились мы, каждый секунд ждавши гибели. К вечеру вихорь этот анафемский стих, ураган самый понесся далее… Все вздохнули и благодарили господа… После офицеры сказывали, что ураган краешком захватил клипер – это, мол, так рассчитал командир, а попади мы, мол, к нему в середку, быть бы всем на дне. Наутро истрепанный, искалеченный «Голубчик», без фок-мачты, – заместо ее фальшивую поставили, – без шлюпок, без рубки, без бортов, шел под парами и парусами на ближний от нас Маврикий остров * …По бедняге Маркутину отслужили честь-честью панихиду, – капитан и все до единого офицеры были, а после панихиды капитан велел собрать наверху всю команду и благодарил нас, матросов, и приказал выдать по лишней чарке. Всякому доброе слово сказал, похвалил, а спасибо-то надо было бы сказать ему, голубчику-то нашему… Он-то не оробел и управился…
– И долго вы чинились на этом самом Маврике? – спросил кто-то.
– Недели две стояли – поправлялись. Фок-мачту новую справили, шлюпки купили, такелаж вытянули, одно слово, все как следовает, а затем айда на Яву-остров… Ну, погода свежая была, почитай всю дорогу зарифившись шли, но от урагана бог помиловал! – закончил Егорыч при общем молчании.
– Однако сейчас флагу подъем! – проговорил он и вышел из круга.
III
Минут за пять до восьми часов из своей каюты вышел командир корвета «Сокол», невысокого роста, плотный брюнет лет сорока, с мужественным и добрым лицом, весь в белом, с безукоризненно свежими отложными воротничками, открывавшими слегка загоревшую шею. С обычной приветливостью пожимая руки офицерам, собравшимся на шканцах к подъему флага, он поднялся на мостик, поздоровался с старшим офицером и вахтенным начальником, оглянул паруса, бросил взгляд на сиявшую во всем блеске палубу и, видимо довольный образцовым порядком своего корвета, осмотрел в бинокль горизонт и проговорил, обращаясь к старшему офицеру:
– Экая прелесть какая в тропиках, Степан Степаныч…
– Жарко только, Василий Федорович…
– Под тентом еще ничего… Кстати, какое сегодня у нас учение по расписанию?
– Артиллерийское, а после обеда стрельба из ружей в цель…
– Артиллерийское сделайте покороче… Так, четверть часа или двадцать минут – не более, чтоб не утомлялись люди… А когда последнего быка думаете бить?
– Завтра, Василий Федорович. Уж пять дней команда на консервах да на солонине, а завтра воскресенье.
– Как съедят быка, придется матросам на одних консервах сидеть, да и нам тоже, этак недельки две… Живность-то скоро съедим… А в Рио я, кажется, не зайду. Команда, слава богу, здорова – ни одного больного. Чего нам заходить, не правда ли?
Старший офицер, вообще редко съезжавший на берег, согласился, что не стоит заходить.
– Не беда и на консервах посидеть. В старину подолгу и на одной солонине сидели. Помню, я молодым офицером был, когда эскадра крейсировала в Балтийском море, так целый месяц кроме солонины – ничего… И сам адмирал нарочно ничего другого не ел… А придем на Мыс * , опять возьмем быков и оттуда в Зондский пролив.
– На флаг! – скомандовал вахтенный офицер.
Разговоры смолкли. На корвете воцарилась тишина.
Сигнальщик держал в руках минутную склянку. И лишь только песок пересыпался из одной половины в другую, как раздалась команда вахтенного начальника:
– Флаг поднять!







