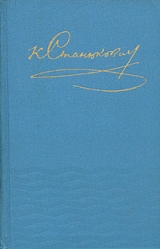
Текст книги "Том 5. Повести и рассказы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Варвара Александровна имела полное право торжествовать. Криницына действительно передернуло от этого сюрприза, и он воскликнул:
– Уехать!? Лишить меня детей!?
Это восклицание омрачило минутное торжество Варвары Александровны и ядовитым жалом вонзилось в ее душу, нанеся глубокое оскорбление ее самолюбию, хотя она и говорила, что презирала «этого человека».
Как! Он только жалеет детей, а меня нисколько не жаль, – жены, которая отдала ему лучшие годы жизни. И это за двенадцать лет верности и любви. О, презренный человек!
И, совсем позабыв, что хотела говорить с ним «холодно и спокойно», Варвара Александровна с гневной страстностью кинула:
– Зачем вам дети? Разве вы их много видите? Разве вы часто с ними бываете? Они и так лишены отца. Хорош отец!? Ведь вы вечно пропадаете из дому и возвращаетесь пьяный по утрам… Хорош пример для детей, нечего сказать! Да и без них вам будет удобнее. Они, по крайней мере, не помешают вам жить со своей любовницей… Будете праздновать вторую молодость на полной свободе… Никто не стеснит вас! – ядовито прибавила Варвара Александровна.
Криницын молчал в каком-то столбняке.
– А если захотите видеть детей – можете видеть их у меня… Я останусь в Петербурге. Будьте спокойны, во время этих свиданий я не стану беспокоить вас своим присутствием…
Она взглянула на «этого человека», сидевшего опустив голову, и все еще надеялась, что он вдруг бросится к ее ногам и станет молить о прощении, и она, быть может, простит его ради бедных детей.
Но Криницын не бросался к ногам и, видимо стараясь скрыть свое волнение, наконец проговорил:
– Что ж, если ты… вы хотите, я согласен…
– Еще бы… Я и не сомневалась в вашем согласии… Надеюсь, вы не откажете детям в содержании… Мне от вас ничего не надо… Но дети…
– Я буду давать три четверти своего жалованья…
– Этого за глаза довольно… Благодарю вас за детей! – поднимаясь с дивана, проговорила сдержанно-спокойным, казалось, тоном Варвара Александровна и уже подошла к дверям, как вдруг вернулась и, приблизившись к Борису Николаевичу, крикнула голосом, полным злобы и презрения:
– А от себя скажу вам, что вы презренный, гнусный человек, которого я презираю и никогда не прощу!..
И, глотая рыдания, выбежала из комнаты.
Борис Николаевич струсил. Струсил и крепко задумался. Перспектива одиночества и разлука с детьми сильно смутила его… Да и к Вавочке ведь он все-таки в конце концов привязан… Как-никак, а прожили двенадцать лет… Положим, у нее характерец… немало досталось ему от Вавочки, но ведь она его любила, да еще так, что из-за этой любви, собственно говоря, все и вышло… (Если б поменьше любила! – вздохнул Криницын.) Ну, да и он тоже виноват, что довел жену до того, что она его бросает… Совсем он ее забыл, бедняжку, в этой борьбе за свою свободу и жестоко мстил ей… Действительно, он свиньей себя вел, совсем того… замотался… Все эти флирты, ничего интересного… только трата денег… Вольно же ей было оттолкнуть от себя нелепой ревностью… вечными сценами…
Так размышлял Борис Николаевич и решил, что надо поговорить с Вавочкой, объяснить ей… успокоить ее…
И сам несколько успокоился, почему-то уверенный, что все обойдется. Вавочка не бросит его и простит, несмотря на все его безобразия.
В этот вечер Борис Николаевич не удрал из дому, пил чай с детьми и долго потом ходил по кабинету, все не решаясь идти к Вавочке, пока она «не отойдет» после недавнего объяснения…
Он несколько раз спрашивал няню, «как барыня?», и старуха все советовала не ходить – обождать, пока барыня в большом расстройстве чувств, и только около полуночи Авдотья Филипповна пришла в кабинет и сказала:
– Теперь барыня не плачет, ступайте, Борис Николаевич, поговорите. Да только не очень винитесь. Наша сестра этого не любит, – конфиденциально прибавила умная няня.
VII
Тук-тук-тук.
– Кто там?
– Это я, Вавочка, – робко и просительно проговорил Криницын.
– Войдите! – ответил дрогнувший голос Варвары Александровны.
Борис Николаевич вошел в спальню – давно он не заглядывал в эту уютную комнату! – и увидел жену, сидевшую на маленьком диванчике и перебиравшую какие-то старые письма – его письма.
– Что вам угодно? – строго спросила она, укладывая письма в ящик.
– Я, Вавочка, пришел с тобой поговорить и…
– Нам не о чем с вами больше говорить, – презрительно перебила Варвара Александровна.
– Вавочка… Так неужели это серьезно?.. Ты хочешь бросить меня…
– А вы думали, я шутила? – саркастически ухмыльнулась она. – Да и не все ли вам равно?.. Детей вы будете видеть…
– Но, Вавочка… Позволь сказать… объяснить… Выслушай, ради бога…
Чем мягче и нежнее звучал голос Бориса Николаевича, тем надменнее и, казалось, холоднее становился тон Варвары Александровны. Но грудь ее тяжело дышала из-под тонкой ткани капота, губы вздрагивали, рука нервно теребила носовой платок.
– Что можете вы объяснить? А впрочем, говорите, если вам угодно…
И Варвара Александровна пододвинулась вперед и, откинув за плечи распущенные свои волосы, оперлась рукой на маленький рабочий столик у дивана и полуприкрыла глаза. Свет лампы осветил ее побледневшее лицо.
– Можно присесть, Вавочка? – спросил почтительно Борис Николаевич.
– Садитесь, – с холодной вежливостью отвечала она, бросая взгляд на «этого человека» и снова опуская ресницы.
Муж опустился в низенькое кресло и начал:
– Положим, я виноват перед тобой, Вавочка… очень виноват, хотя и не в том, в чем ты думаешь… Я вел себя скверно… кутил… проводил ночи за картами… постоянно уходил из дому… был к тебе невнимателен…
– Вы были жестоки, – вставила Варвара Александровна.
– Согласен… Но, Вавочка, милая Вавочка, вспомни, отчего все это вышло… Ты слишком… опекала меня, и я… возмутился… Однако поверь мне, я никогда не переставал тебя любить…
– И имели любовницу? – иронически воскликнула Варвара Александровна.
– Я, любовницу?.. Господь с тобою, Вавочка!
– А эту… вашу… Анну Петровну…
– Анну Петровну!?. Клянусь тебе, что между нами ничего не было…
«Лжет!» – подумала Варвара Александровна, но, взглядывая в лицо «этого человека», в его заблестевшие глаза, которые снова ласкали ее с давно забытой нежностью, Варвара Александровна не стала спорить…
А муж продолжал:
– Мы с этой Анной Петровной, правда, иногда встречались… болтали…
– А теперь?..
– Да ее и нет здесь, Вавочка… Она уехала за границу с каким-то молодым человеком.
– Но другие ваши любовницы?.. – уже мягче спросила жена.
– Никаких никогда у меня не было, Вавочка! – горячо протестовал Борис Николаевич, помня совет умной няни: «не очень виниться».
И опять, разумеется, Варвара Александровна, зная мужа, не поверила, но, вся охваченная едва сдерживаемым волнением близкого, столь неожиданного примирения, она снова промолчала, готовая простить ему все…
А Борис Николаевич, не спуская глаз с Вавочки, пикантной, еще хорошенькой своей Вавочки, еще горячей и искренней заговорил, что он всегда любил Вавочку, знал одну только Вавочку в эти двенадцать лет; он пожалел о бедных детях без отца и, увидав, что растроганная Вавочка жадно внимает его речам и, вся заалевшая, с полуоткрытыми устами, смотрит на него нежным прощающим взглядом своих больших влажных глаз, – понял, что теперь можно броситься к ногам Вавочки и получить ее полное помилование, несмотря на все свои вольные и невольные прегрешения.
VIII
На следующий день, поздно проснувшись, Варвара Александровна, бодрая, веселая и счастливая, быстро оделась, заказала обед из самых любимых блюд Бориса Николаевича и послала старушке-матери следующую телеграмму:
«Письмо, которое получите, считайте недействительным. Недоразумение вполне разъяснилось».
А когда часу во втором к Варваре Александровне приехала та ее приятельница, муж которой все еще оставался «этим человеком», и, увидав Вавочку веселой, поздравила ее, решив, что она наконец разъезжается с мужем, – Вавочка, немного смутившись, ответила:
– Нет, милая, я долго-долго думала и остаюсь ради детей.
К обеду уже все портреты Бориса Николаевича были возвращены из ссылки и красовались на прежних местах, и «этому человеку» снова было даровано христианское имя «Бориса» да еще с прибавлением «милого».
История одной жизни *
I
Мрачный осенний петербургский день с пронизывающим до костей холодным северным ветром близился к концу. Отливая от центральных частей города, пешеходы, угрюмые и голодные, торопились по домам.
В это время к углу Невского и Лиговки приковылял, имея на плечах ларек, маленький мальчуган в большом измызганном картузе, нахлобученном на уши.
Окинув быстрым и зорким взглядом местность и главным образом местопребывание «фараона», то есть городового, маленький человек опустил ларек у тротуара в нескольких шагах от Невского и стал выкрикивать звучным тоненьким голоском в упор проходящим по Лиговке:
– Спички, да хорошие! Бумаги и конвертов! Не пожелаете ли, господин?
Засунув закрасневшиеся от холода руки в карманы, мальчик то и дело подпрыгивал и ежился, так как костюм его был далеко не по сезону. Довольно жидкое порыжелое пальто неопределенного цвета, сидевшее мешком и, очевидно, шитое на человека более зрелого возраста, и тонкие летние панталоны соответствовали скорей итальянскому климату, чем этой подлой, «собачьей» петербургской погоде. Высокие намокшие сапоги, тоже предназначавшиеся, по-видимому, на более крупные ноги, требовали по меньшей мере основательной починки. Едва ли не самою лучшей частью костюма был вязаный шарф, обмотанный вокруг шеи и скрывавший от нескромных глаз рваную ситцевую рубаху и нечто вроде жилета.
– Купите, господин! Поддержите коммерцию!
Голос мальчугана выкрикивал все ленивее и безнадежнее. Казалось, он и сам понимал, что ни один из этих торопившихся прохожих в такую погоду не остановится, чтобы поддержать отечественную коммерцию. И если он все еще предлагал и спички, и бумагу, и конверты, то более для очистки своей торговой совести и, главное, из страха иметь недоразумения с одним человеком, которого он называл «дяденькой», не чувствуя, впрочем, к нему никаких родственных чувств.
Мальчик не ошибался в своих предположениях. Действительно, ни одна душа не откликалась на его призыв. Всякий спешил в теплую квартиру, думая об обеде, а не о письменных принадлежностях. Никто даже и не взглянул на этого вздрагивающего мальчугана в уродливом картузе и не слыхал тоскливой нотки, звучавшей в этих назойливых предложениях поддержать коммерцию.
Но вдруг в глазах мальчика блеснула надежда.
Он увидал солидного плотного господина в отличном теплом пальто и с цилиндром на голове под руку с молодой и хорошенькой барыней. Несмотря на отвратительную погоду, господин вел свою даму не спеша и, наклонив к ней голову, о чем-то говорил ей с самым умильным выражением на своем полноватом и не особенно моложавом лице.
Опыт недолгой, но уже богатой уличными наблюдениями жизни маленького человека привел уже давно его к выводу, что господин, гуляющий под руку с молоденькой барыней и разговаривающий с ней, чересчур близко наклонившись к ее уху, – несравненно отзывчивее, и добрее, и охотнее поддерживает коммерцию, чем господин, идущий одиноко или с дамой некрасивой, или преклонного возраста.
Все эти соображения заставили мальчика предположить, что письменные принадлежности крайне необходимы господину, и он, еще не зная, что нет правил без исключений, торопливо вынул из ларька пачку бумаги и конвертов, подбежал к проходившей паре и крикнул, протягивая пачку:
– Милый барин! Купите у бедного мальчика! Поддержите коммерцию.
Молодая женщина вздрогнула от этого неожиданного окрика, а господин гневно произнес, хватая за руку мальчика:
– Ты как смеешь приставать, негодяй, а? Вот я сейчас кликну городового!
Мальчуган рванулся из рук господина и побежал к ларьку, испуганный и несколько изумленный таким неожиданным оборотом дела. Он успокоился только тогда, когда господин с дамой продолжали свой путь и скрылись, после чего не отказал себе в маленьком удовольствии – погрозить им вслед кулаком и затем пустить вдогонку:
– Тоже… городовой!.. Сволочь!
Прошло еще минут десять. Мальчику становилось очень зябко, и он собирался было сняться с места и закончить на сегодняшний день торговлю, как внимание его привлекла дама в глубоком трауре, шедшая опустив голову.
Обязательно следовало сделать еще попытку. Вид этой барыни подавал некоторую надежду.
И он проговорил самым трогательным голоском, владеть которым приучила его недавняя профессия нищенки:
– Милая барыня! Купите бумаги… Дешево отдам… Пятачок две тетрадки!
Барыня подняла голову и взглянула на мальчика. Его бледное, посиневшее от холода лицо, худое, с тонкими, красивыми чертами и с бойкими, бегающими, как у мышонка, карими глазами, тотчас приняло притворно жалобное выражение.
– Купите, милая барыня…
Тень грусти омрачила лицо дамы в трауре, точно при виде этого худенького, болезненного мальчугана она вспомнила кого-то…
Она остановилась, торопливо вынула портмоне и протянула мальчику двугривенный.
– Пятнадцать копеек сдачи… Извольте получить бумагу… Бумага первый сорт! – говорил мальчик значительно повеселевшим и уже деловым тоном человека, совершившего выгодное дельце.
– Сдачи не надо, и бумагу себе оставь, мальчик, – промолвила дама.
– Не надо? – изумился мальчик.
И, зажав в кулачке монетку, он горячо и торопливо проговорил:
– Дай вам бог здоровья, милая барыня!
– А ты, мальчик, шел бы домой… Холодно.
– И то зябко… Сейчас иду…
– Сколько тебе лет?
– Пятнадцатый…
– Пятнадцатый год, и такой маленький? А как зовут?
– Антошкой…
– Ты у кого живешь?
– У дяденьки…
– Ты, Антоша, приходи ко мне как-нибудь… Я тебе дам платья…
И дама в трауре сказала свой адрес и фамилию, ласково кивнула головой и ушла.
Антошка несколько мгновений стоял с разинутым ртом. Житейский опыт не очень-то баловал его людским сочувствием и не располагал к оптимизму. И обещание платья и, главное, такая щедрая подачка, признаться, значительно удивили его.
Прежде, еще недавно, когда он «работал» на петербургских улицах в качестве «бедного сиротки», гонявшегося за прохожими с жалобными причитаниями дать копеечку, и затем в роли мальчика, которому не хватает двугривенного на покупку билета до Твери или до Пскова (смотря по вокзалу, у которого Антошка стоял), или в роли только что выписавшегося из больницы, – случалось, хотя редко, что ему и попадали двугривенные от сердобольных людей, но с тех пор как он стал ходить с ларьком и продавать спички, бумагу и конверты, ни одна душа не принимала в соображение его собственных нужд, и каждый старался купить и спички и бумагу дешевле, чем где бы то ни было, точно считая, что дать мальчику с ларьком лишнюю копейку – значит потакать грабежу.
Вероятно, подобными житейскими наблюдениями следовало объяснить и то, что в сердце Антошки после первых мгновений радости закралось вдруг подозрение насчет доброкачественности двугривенного.
И он с серьезным, деловым видом опытного человека, умеющего отличить олово от серебра, взял монетку в зубы и несколько раз куснул ее. Испытание на мелких острых зубах и затем металлический ее звон на камне мостовой убедили мальчика, что монетка не фальшивая. Тогда он с удовлетворенным и довольным видом опустил ее не в кожаный кошель, в котором хранилась выручка сегодняшнего дня, а в карман штанов, решив, что, по всей справедливости, о которой он имел понятие, двугривенный принадлежит ему одному и что, следовательно, отдавать его «этому дьяволу», как он мысленно называл «дяденьку», было бы величайшей глупостью.
Вслед за тем он достал карандаш и свою записную книжку, служившую ему в то же время и учебной тетрадью, в которой он списывал, учась самоучкой, названия вывесок, после того как мог уже списать фамилии спичечного и бумажного фабрикантов, изделиями которых торговал, – и не без некоторого напряжения и больших гримас вывел каракулями, смутно напоминавшими печатные буквы: «Гаспажа Скварцова, Сергифская, № 15».
Ларек тщательно был накрыт клеенкой. Оставалось вскинуть его на плечи и идти на Пески, на постылую квартиру «дяденьки», предварительно умненько распорядившись с двугривенным, как над самым его ухом раздался чей-то сиплый и приятный басок:
– Здравствуй, Антошка!
Антошка радостно и весело улыбнулся, увидев перед собой довольно странную фигуру пожилого человека с испитым и изможденным лицом, сохранявшим, несмотря на резкие морщины и припухлость век, еще остатки выдающейся красоты, – с большой и сильно заседевшей черной бородой, тщательно расчесанной, и с глубоко сидящими в темных впадинах черными глазами, глядевшими с выражением угрюмой, спокойной и вместе с тем какой-то презрительной грусти, какое бывает у опустившихся, когда-то знавших лучшие времена людей. В этих глазах светилось теперь что-то бесконечно ласковое.
Одет этот господин был в невозможно ветхое и совсем лоснившееся пальто, но, видимо, с претензией на аккуратность и некоторое щегольство: пуговицы были целы, и нигде не видно было дыр, хотя заплаток было довольно. Панталоны были в таком же роде. Серое кашне скрывало ночную сорочку, рукава которой, видневшиеся на худых волосатых руках, были не особенно грязны. На маленьких ногах были стоптанные резиновые калоши, а на руках – изящной формы, с длинными пальцами – лайковые заношенные и заштопанные перчатки. Совсем порыжелый цилиндр был одет чуть-чуть набекрень, а из-под него выбивались седоватые кудри. Несмотря на этот почти нищенский костюм, в осанке и манерах этого господина сразу чувствовался барин.
– Здравствуйте, граф…
Под кличкой «граф» этот господин был известен в числе многих обитателей трущоб и Антошке, который познакомился с ним год тому назад, нищенствуя у вокзалов; он несколько раз исполнял поручения «графа» по доставлению писем в разные богатые квартиры и пользовался его благосклонностью. «Граф» был единственным в мире человеком, который всегда дружески и участливо относился к Антошке, платил ему за комиссии, если Антошка приносил благоприятные ответы, даривал леденцы и, случалось, зазывал к себе в «лавру» * , где жил в угле, угощал чаем и вел с ним беседы довольно своеобразного философского характера.
– Ты это что?.. С ларьком нынче?.. Давно?..
– С лета, граф…
– Лучше, чем прежняя работа, а?
– Лучше… И фараонов не так опасаешься… Показал жестянку, и шабаш!
– А как дела! Хорошо торгуешь?
– Плохо, граф… Летом еще ничего, а теперь… Главное, погода! Вот спасибо одной барыне… Добрая… Целый двугривенный подарила…
– Ишь какая добрая! – иронически протянул «граф».
– И бумаги не взяла… И велела прийти к себе за платьем… А я двугривенный «дяденьке» не отдам… Как, по-вашему, граф? Отдавать?
– Никоим образом. Он твой! – категорически заявил «граф» и прибавил: – А ты, братец, скажи своему подлецу «дяденьке», чтобы дал тебе обмундировку потеплей, а то в чем, скотина, выпускает! Скажи ему, что генерал Езопов – запомни фамилию! – тебя остановил и расспрашивал, какой такой подлец хозяин, что посылает мальчика в таком виде… Понял?
– Понял… скажу… А если спросит: какой из себя генерал?
– Скажи: сердитый такой, с большими глазами… Усищи длинные-предлинные! – улыбаясь, объяснял «граф».
– Беспременно скажу, – радостно промолвил Антошка.
– Что твой дяденька-мерзавец… По-прежнему тебя бьет? – участливо спрашивал «граф».
– Теперь полегче… Маленьких шибко бьет. Ремнем больше, черт! А, главное, она – настоящая ведьма!
– Уйти тебе от них надо, вот что…
– Никак нельзя… Он говорит, что я ему проданный по бумаге… И, кроме того, племянник… Везде, говорит, тебя разыщу…
– Глупый! Нонче людей не продают… И какой ты ему племянник? Он все врет… Однако иди, иди, Антошка… Замерзнешь… Ишь погода! – проговорил «граф», сам пожимаясь от холода. – Да завтра же зайди ко мне, слышишь?..
– А где вы теперь живете? Я в «лавре» был… Там вас не оказалось.
– В больнице три месяца лежал и, видишь, отлежался! Теперь я не в «лавре» живу, а у Бердова моста, дом сто четыре, во втором дворе, у прачки… Запомни адрес. Да спрашивай не графа…
– Не графа? – удивился Антошка.
– То-то не графа! – усмехнулся «граф», – а Опольева, Александра Ивановича Опольева. Не забудешь?
– Не забуду… А то записать разве?
– Уж и писать выучился? Ай да умница!.. Только векселей не пиши! – вставил «граф» с грустной улыбкой… – Я тебе когда-нибудь объясню, что такое вексель… Постой… у тебя руки как у гуся… Давай карандаш…
Он записал адрес и фамилию и, отдавая листок мальчику, сказал:
– Смотри же, завтра приходи… Я тебя угощу и побеседуем, как тебе от твоего разбойника уйти… Только ему ни слова… До свидания, Антошка!
С этими словами «граф» как-то важно приподнял голову, слегка выпятил грудь и скоро скрылся в полутьме сумерек, а Антошка, вскинув на плечи ларек, бодро зашагал на Пески, весьма довольный и встречей с «графом» и двугривенным, столь неожиданно попавшим в его карман и позволившим ему побаловать себя роскошным обедом.
Зайдя в закусочную, он спросил себе порцию селянки, запил ее двумя стаканами горячего чая и затем забежал в мелочную лавочку и на пятачок спросил леденцов. Засунув себе в рот сразу штуки четыре, Антошка остальные бережно завернул в бумагу и, запрятав их за голенище, вышел из лавки.
После такого лукулловского пиршества * Антошка почувствовал себя и счастливее, и бодрее, и совсем не думал о жидких, пустых щах у «дяденьки». Эти щи и вообще-то не прельщали его – до того они были водянисты и мало насыщали, а теперь, вспомнив о них, он даже сделал гримасу.
Слова «графа» о том, что Антошка «не проданный», значительно подняли его дух, и он продолжал свой путь, мечтая о том времени, когда он будет сам от себя продавать и спички, и бумаги, и конверты, и разные другие вещи, купит себе сапоги и полушубок и не будет жить у «дьявола дяденьки». В этих ребячьих мечтах заброшенного, несчастного мальчика, никогда не знавшего нежной ласки, не знавшего ни матери, ни отца, не забыты были и «граф» и маленькая Нютка, его любимица, жившая, как и он, у «дяденьки». Что же касается нелюбимых людей, то Антошка не без злобного чувства мечтал о возмездии. Хорошо было бы «дяденьку» засадить в тюрьму на вечные времена, а «ведьму»… Он придумывал ей разные беды и в конце концов решил, что было бы недурно, если б ее переехала конка и она бы издохла.
Однако, когда Антошка вошел в ворота знакомого деревянного дома на окраине Песков и поднимался по темной вонючей лестнице в «дяденькину» квартиру, его охватило невольное, знакомое еще с детства, чувство робкого страха, и ему представлялась пьяная физиономия «дяденьки» с ремнем в руках и рядом «ведьма», подзадоривающая его своим подлым смехом.
Счастливые мечты сразу выскочили из головы Антошки, и он, удрученный, с чувством узника, возвращающегося в тюрьму с жестокими тюремщиками, вошел в незапертые двери темной прихожей, робко пробрался мимо кухни и очутился в крошечной комнатке, в которой помещались все мифические «племянники» и «племянницы», работавшие на «дяденьку» в качестве уличных нищенок.
Посредине этой грязной, низкой и сырой комнаты, освещавшейся тусклым светом стенной лампы, стояли небольшой стол и две скамейки, на которых была разбросана разная мокрая рвань, отдававшая запахом гнили. Это было верхнее платье «пансионеров», разложенное для просушки. Никакой другой мебели не было. На этом же столе среди вещей стояла деревянная чашка, из которой жадно хлебал холодный суп белокурый мальчик лет восьми. Остальные обитатели, уже вернувшиеся с работы, сдавшие свои выручки «дяденьке» и поужинавшие, лежали на полу, на тощих матрасиках, рядом, вповалку, прикрытые какою-то старой ветошью и согреваясь более теплотою собственных тел. Маленькие соломенные подушки поддерживали детские головы.
Почти все дети спали, вдыхая в себя смертоносный воздух.
Антошка снял с себя ларек, затем разулся, сунув под свой матрасик сверток с леденцами, надел какие-то дырявые башмаки и хотел было снимать свое намокшее пальтецо, как вдруг из-за стены донесся жалобный детский вопль, заглушаемый пьяным грубым мужским голосом.
– Это Нютку! – шепотом проговорил белокурый мальчик.
– За что? – отрывисто спросил Антошка.
– Всего два пятака принесла…
– Ишь… подлые!.. – шепнул Антошка, и в его глазах сверкнул огонек.
Через минуту в комнату вбежала с плачем маленькая, совсем худенькая девочка с черными растрепавшимися волосенками и, увидев Антошку, проговорила прерывающимся от рыданий голосом:
– Ан-тош-ка… У-бей бо-г нап-расно. Я гро-ши-ка не утаила…
И, понижая голос, прибавила:
– Он бы прос-ти-л, а она… тварь под-лая…
– Он чем тебя, ремнем или руками? – осведомился довольно объективно белокурый мальчик, засовывая в рот последний кусок черного хлеба.
– Рем-нем… Пять раз… Больно… Ах, больно, голубчики!
Антошка проговорил с важным видом:
– Подожди, Анютка… Мы на этих дьяволов управу найдем… Най-дем! – прибавил он, вспоминая вдруг слова графа. – Мы не проданные… Не реви, Анютка…
И с этими словами он достал сверток и подал его Нютке.
– На вот, ешь… только дай два леденца Алешке… Больше не давай… Ешь.
Нютка сквозь слезы улыбнулась и набросилась на леденцы с жадностью дикого зверька.
В эту минуту двери бесшумно отворились, и на пороге показалась высокая худая молодая женщина в юбке, в сером платке на голове, из-под которого выбивались пряди рыжих волос.
Она вошла тихо, подкравшись, как кошка.
Антошка первый заметил «ведьму» и кинул выразительный взгляд, предостерегающий об опасности, на своих маленьких товарищей.
Нютка немедленно зажала в своей грязной ручонке оставшиеся леденцы, проглотив, не без риска подавиться, бывшие у нее во рту, и с выражением испуга на своем заплаканном лице бросилась к постели и легла, притихшая и оробевшая, словно виноватая собачонка.
Алешка, успевший съесть свои два леденчика в мгновение ока и глядевший в рот девочки с чувством зависти и очарованья, побрел к своему матрацу с видом человека, не имеющего достаточных оснований опасаться трепки.
Между тем рыжая женщина, успевшая подслушать слова Антошки, подозрительно оглядела комнату и, заметив валяющуюся на полу серую бумажку из-под леденцов, подняла ее с полу и, обращаясь к Антошке, проговорила своим резким, низким контральтовым голосом:
– Ты что ж это, подлец, не идешь сдавать выручку? До каких пор ждать тебя, мазурика?
«Ведьма» любила вообще уснащать свои речи бранью, но особенно в сношениях с Антошкой, которого терпеть не могла больше, чем остальных детей этого заведения своего супруга, так как чувствовала, что Антошка, несмотря на свою видимую покорность, является, так сказать, протестующим элементом и, кроме того, как-то подозрительно и насмешливо улыбается, когда «ведьма» посылает его за сорокоушкой, чтоб угостить гостя – молодого наборщика, захаживавшего по вечерам и по большей части в отсутствие мужа.
– Иду сейчас… Только что пришел! – Разуться надо… Измок… – отвечал не особенно мягко Антошка.
– Измок! Ишь какой сахарный господин! – презрительно и медленно выговаривая слова, кинула рыжая дама, и злая улыбка искривила ее тонкие губы.
С этими словами она вышла, бросив на Антошку взгляд больших, несколько выкаченных серых глаз, не предвещавший ничего хорошего для Антошки.
В свою очередь и Антошка, ненавидевший «ведьму» с бессильной злобой загнанного волчонка, посмотрел ей вслед злыми-презлыми глазами и снова от всего сердца пожелал, чтобы «подлую» переехала конка.
– Что, Нютка, шибко пьян хозяин? – осведомился он.
– Не очень, – ответила Нютка.
Антошка через минуту вышел – сдавать «дяденьке» выручку.
Признаться, он шел далеко не спокойный, и мрачные предчувствия невольно закрадывались в его душу относительно ремня.
II
«Дяденька», отставной унтер-офицер Иван Захарович, сидел в одном жилете поверх розовой ситцевой рубахи за столом, на котором шумел самовар, в жарко натопленной, довольно большой комнате, разделенной ситцевым пологом, за которым помешались большая кровать и шкаф с посудой. Цветы на окнах, наклеенные на стенах вырезанные из иллюстрации картинки и портреты нескольких генералов и отца Иоанна Кронштадтского * свидетельствовали о некотором эстетическом вкусе хозяев. Кое-какая мебель и огромный шкап, в котором хранился разный хлам, купленный на рынке и составлявший запасный гардероб питомцев «дяденьки», дополнял убранство, не лишенное некоторого комфорта, особенно по сравнению с конурой, где помешалась детская команда.
Сам «дяденька» медленно отхлебывал чай, попыхивая папироской, и, казалось, находился в благодушном относительно настроении довольного своею судьбой человека. Он был выпивши, но еще не дошел до «градуса», – это еще было впереди – и его спокойный вид нисколько не напоминал человека, только что жестоко отхлеставшего ремнем, опоясывавшим его чресла, маленькую беззащитную девочку.
Это был плотный и крепкий человек лет за сорок, с грубым, так называемым «солдатским» лицом. Красное, одутловатое, испещренное рябинами, с толстым носом и толстыми губами, окаймленное черными баками и окладистой бородой, оно далеко не отличалось привлекательностью. Маленькие, заплывшие и плутовские глаза светились масленым блеском. В них было что-то хищное и выдавало прожженную каналью, прошедшую житейские «медные трубы».
Действительно, Иван Захарович перепробовал много профессий после того, как вышел в отставку.
Он был швейцаром, сидельцем в кабаке, рассыльным, но не уживался на местах, имея слабость и к вину, и к картам, и к прекрасному полу, – слабость, заставлявшую его не всегда быть особенно разборчивым, если ему поручали деньги. Он их частенько таки терял и, вероятно, благодаря только своей счастливой звезде не попал в сибирские Палестины.
Долго он влачил полунищенское состояние: торговал на рынке старым платьем, ходил в факельщиках, носил шарманку, сопровождая «Петрушку», и не оставлял сладкой надежды выбиться и жить «как люди», не обременяя себя праведными трудами. И, наконец, напал на счастливую мысль – открыть «заведение» для детей.
Осуществление этой идеи не потребовало особенных затрат. Хорошо знакомый с трущобами, он знал, что в Петербурге детского товара сколько угодно, и при известной осторожности предприятие его не представляло большого риска.
И Иван Захарович «арендовал» несколько беспризорных и заброшенных детей у нищих их родственников, обещая содержать детей и вдобавок еще платить за это известную сумму денег. Антошку, впрочем, Иван Захарович приобрел почти задаром у одной пьянчужки-вдовы у которой ребенок очутился на руках после смерти его матери-прачки.
Дела Ивана Захаровича сразу пошли хорошо. Маленькие нищенки ежедневно приносили ему изрядную выручку, и он держал их в ежовых рукавицах, строго наказывая, если они приносили, по его мнению, мало. Справедливость требует, однако, сказать, что до женитьбы Ивана Захаровича положение детей было сноснее: их и кормили лучше, и Иван Захарович бил их только тогда, когда был очень пьян уже к вечеру, когда он возвращался из трактира, а дети с «работы». Жившая при нем в качестве помощницы корявая Агафья жалела детей и часто их защищала.







