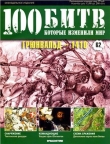Текст книги "Погоня на Грюнвальд"
Автор книги: Константин Тарасов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
Стали стелиться и мужчины. Принесли солому, шкуры, тулупы, разложились, накрылись по глаза – и все в сон, только Андрею не засыпалось. Думал о Софье, прислушивался к трепету сердца, томился и неожиданно решил с веселым отчаянием: «Женюсь! Скажу боярину Ивану на щедрец!» Через два дня Волковичи собрались домой. Поехали к ним. Как раз был рыночный день, последний перед щедрецом; все волковыские ремесленники и торговцы открыли лавки; на рынке перед замчищем гудел, давился народ. Андрей пошел по рядам глядеть, чем торгуют. Здешние кузнецы просили за железо дешевле полоцких, и Андрей для новой вотчины, что пожаловал князь Витовт, накупил подков, стремян, наконечники для стрел, десяток широких ножей, два десятка острий на рогатины, купил пять чешуйчатых панцирей; мечи испробовал о свой – мягкие, не купил. Еще походил вдоль лавок и у серебряка купил маленький литой складень, где на отвороте среди святых показан был и святой Андрей – решил подарить Софье перед отъездом. Вечером собралась у Волковичей беседа. Пришел сосед Данька Рогович с женой и сыном и другой сосед – Засека, тоже с семьей, явились Быличи, а с ними – Юрий и Ольга. Старые да пожилые как сели за стол, так, за разговорами, уже и не вставали до полуночи. Женщины устроились своим кругом у печки, а вся молодежь сгурьбилась в самом темном углу, и уж тут-то Андрей упредил Василька и сел возле Софьи. Василек же, сдавленный сестрами, словно онемел. «А-а! Не все коту масленица!» – весело думал Андрей, поглядывая на скучного противника.
Ни с молодежью, ни с женщинами, но поближе к ним неприкаянно сидела Ольга. Осмелившись, Мишка перешел к ней. Начали беседовать – тихо, отрывисто, со скрытым значением каждого слова.
–Поднялся только три дня. Хотел заехать поблагодарствовать.
– За что?
– За мед. За память.
– Рада, что на здоровье пошло.
– Вспоминалась мне часто. Может, думала?
– Может, и думала.
– Пройдет щедрец, навестить можно?
– Приезжай. А как твоя рана?
– Слава богу!
– Куда ж они тебя?
– Вот сюда.
– Ты, Миша, изменился.
– Ага. Сейчас ровно кощей – кости да кожа.
– Не то, откормишься. Глаза стали другие.
– Разве помнишь, какие были?
– Помню, Миша.
– И я твои помню...
За столом Засека рассказывал товарищам:
– Велено зерно везти в Гродно. Это, я понимаю, не зря.
– А что понимать! – сказал Волкович.– Гродно на рубеже стоит. Поход будет, вот что. На крещенье первый обоз пойдет.
– Обоз? – обрадовался Рогович.– Вот и я приладкуюсь. Свожу товар коложанам.
– Куда, Данька, обоз? – залюбопытствовала от печи Росевичиха.– Скоро ли?
– В Гродно. Через неделю.
– А тебе, Марфа, что в том Гродно? – спросила хозяйка.
– Еленку в Борисоглебскую хочу свозить к чудотворной.
– Конечно,– закивали бабы,– надо свозить.
– Была в Гродно? – спросил Еленку Юрий.– Хочешь, поеду с тобой?
Еленку весь этот вечер томило предчувствие какой-то неожиданной счастливой минуты. Ей было радостно слышать шум разных разговоров, чувствовать плечо сидевшего рядом Юрия, встречать его добрый взгляд, видеть смущение сестры и Мишкиного товарища. Неожиданный разговор о поездке, близость этого дня, явившаяся, как свет, уверенность – через неделю пойду! пойду! – показались ей исполнением предчувствия. Она развеселилась.
– Уж ты поедешь! – шутливо ответила она.– Обещал навещать – месяц тебя ждала, ты и близко не показался. Так и в Гродно.
– Отцу Фотию занеможилось. Но каждый день за тебя молился.
– Молиться я и сама могу,– засмеялась Еленка.– Что ты, владыка или поп – за других молиться? Лучше бы сел на коня и примчал.
– Правда, не мог,– оправдывался Юрий.– Плохо было Фотию, чуть не помер. Ночевал при нем...
Андрей, вдохновленный близостью Софьи, развлекал ее и девок. Они сдвинулись к нему поближе, он их страшили
– А у нас в Езерищах такой был случай с одной девушкой. Пошла она с мамкою и сестрой по грибы. И заблудилась. Выходит на полянку, там старичок на пенечке сидит. Говорит ей: «Помоги, доченька, встать. Подай руку!» Она и подает и вдруг видит у дедушки на руке волчьи когти и шерсть. А у нее нож был в руке. Он, не глядя, схватился за нож и так сжал, что сам себе пальцы и отрезал, они в кошелку осыпались. Она со страху бежать. А тот воет ей в спину: «Отдай мои пальцы!» Прибежала домой, волчьи когти в огонь побросала – они зеленым огнем загорелись. А ночью стук в дверь. Мамка ей говорит: «Спроси: Кто?» Она встала, спрашивает. А за дверью жуткий такой хрип: «Отдай мои пальцы!» Она шепчет: «Они в печке сгорели!» А тот: «Тогда свои отдай!»
– Сказки это! – мрачно объявил Василек.– А вы уши развесили.
– Лишь бы мешать! – сердито загалдели на него девки, и пуще других Софья.– Дальше, дальше что?...
Разошлись за полночь, когда уже против воли начали все зевать. Назавтра Андрей с Мишкой ходили по знакомым, зашли к Юрию – Мишке хотелось увидеть Ольгу, но ее не было – уехала в Быличи; тогда навестили Суботку, у которого весь вечер и отсидели. Через день вернулись в Рось.
Окончилась неделя, пришел желанный щедрец. С утра боярин Иван, исполняя обычай, стал выправляться на охоту. Уже давно прикармливались для этой охоты лоси; всех-то ловов – дождаться сохатого и метко пустить стрелу, но собирались с необычной важностью, отбирали стрелы, луки испытывали, словно кормление всего двора зависело от успеха праздничной охоты. Гнатка остался за хозяина, чтобы в щедрец не вела хозяйство нетвердая рука баб. Андрей поехал со стариком, держа на уме свою цель.
Долго шли санным следом, наконец спешились и побрели нетронутым глубоким снегом к кормушке, где привыкли брать даровое лоси. Челядники окружили поляну, попрятались за стволы, нудно потекло безмолвное ожидание. Прошло не менее часа; заскрипел снег под дровнями, росевичский холоп привез сено, скинул, сел в дровни и отъехал. Близилось урочное время; обманутая тишиной, появилась семья лосей. Медленно дошли до кормушки, не кинулись к ней, как свиньи, а достойно постояли, словно молились на еду, и лишь тогда ткнулись мордами в пахучее сено. Андрей прицелился в самца, отпустил тетиву – стрела впилась сохатому в бок. И еще несколько стрел, просвистев, ударили его в загривок, в шею, в лопатку. Лось прыгнул и, оставляя кровавый след, рванулся в чащу. Тишина оборвалась свистом и дикими криками; со всех сторон лося догоняли, жалили новыми стрелами. Пощаженная лосиха догадалась умчать санной дорогой. Охотники высыпали на поляну, старый боярин приказал челяди искать сохатого по крови. Мужики поспешили за лошадьми, и скоро отряд исчез в лесу.
Старик и Андрей остались наедине. Случай был самый подходящий.
– Боярин Иван,– обратился Андрей осипшим вдруг голосом,– хочу тебя спросить...– и запнулся.
– Спроси, коли хочешь,– тоже сипло ответил старик.
– Я сватов пришлю, Софью сватать,– выпалил Андрей.– Ты не воспротивишься?
– Что я, не меня же сватать – Софью,– хитрил старик.– Ей замуж идти, ее и спрашивай. А я что, разве знаю, кто ей мил-дорог? Насильно и за князя не отдам.
– Ну, тогда на пасху приедут сватать!
Помолчали и, словно забыв о важном слове, стали гадать, далеко ли уйдет лось; потом Андрей помог старому боярину сесть в седло, и оба поехали догонять челядь.
Вернулись к исходу дня – лось оказался здоровенным, как бык, измотал погоню до последних сил. Зато въехали на двор гордясь – богатырского уложили зверя, добрый знак подал господь в начавшемся году.
Умылись снегом, переоделись в праздничное – и за стол. Ломился стол, большая кутья не постная, глаза разбегались: мясо жареное и вареное, копченые окорока, горячие и холодные колбасы, меды и пиво, запеченные гуси, холодцы, мясные и грибные пироги, а впереди – лосиная свеженина. Прочли молитву, выпили за божью щедрость и налетели с ножами на мясное печево, как голодные волки. Двор большой, народу много сидело, быстро и холодцы, и колбасы, и гуси таяли, но новое волокли из сеней да из печки. Насытились, пошли рассказывать про охоту, вдруг шум на дворе, собаки взбесились – кто-то разносит ворота.
– Ну,– гневно сказал старик,– если Верещаки рыскают в щедрец, бога не уважают, побью!
Высыпали во двор. В ворота били клюками в несколько разных рук.
– Кого бог принес? – пробасил Гнатка.
За частоколом послышался хохот, загудел рожок, заныла лира и звонкий молодой голос запел: «Ехала Коляда в красном возке, на серебряном коньке!» И большая, почувствовалось, ватага подхватила: «Коляда! Коляда!»
Дворня прогнала прочь собак, ворота распахнулись, и на двор ввалилась толпа колядников.
– Огня! – крикнул старый Росевич. Запылал сноп соломы, высветив вывернутые кожухи, страшную козью харю с соломенными рогами и мочальной бородой. Коза под пение товарищей заскакала, закружилась вокруг костра, с гоготом, визгом кидаясь на довольных девок.
Андрей пристал к Софье, наклонился, шепнул на ухо:
– Софийка! Та замерла.
– Софийка,– зашептал Андрей,– больше жизни буду любить. Ночи не сплю, о тебе мечтаю. Пойдешь за меня?
Прижался грудью к плечу, ощутил, как вздрогнула, напряглась, глотнула горячим ртом воздух. Ждал слова. Но шут бессовестный, словно учуял, где он нужен менее всего, поспешил пакостить: прыгнул через костер, крикнул, ухнул, проблеял козлом и, наставив рога, поскакал пугать Софью. Та спряталась за Андрея. Малый, верно, разглядел глаза Андрея, быстренько повернул, запрыгал боком и вдруг, взвизгнув, рухнул как мертвый на утоптанный снег.
– Пойду! – коснулся Андрея ответный шепот.
– Не откажешь?
– Нет!
– Не забудешь до пасхи?
– Всегда буду помнить!
Ряженым уже несли из избы пироги и мясо. «Святое рождество всем радость принесло!» – запели колядники, коза с хохотом «воскресла», и вся шумная ватага выкатилась за ворота, обсуждая, куда двинуться дальше. Костер загас, старик призвал всех к прерванному застолью – чудесный миг близости оборвался.
Назавтра утром Андрей распрощался с Росевичами.
Год 1410

СМОЛЕНСК. СВЯТКИ
В сочельник, запершись один в большом покое дворца, Василий Борейкович гадал, как гадал в этот час весь Смоленск. Упорно глядя на сердцевидный огонек свечи, Борейкович ждал появления в пламени какого-нибудь знака, который внесет ясность в его думы и снимет тревогу. Огонек чадил, мерно оплывал и наконец трепетно забился синими язычками, загасая в лужице воска. Тогда Борейкович зажег вторую свечу. Угрюмое, уже привычное уныние овладело его душой. Эта нудная тоска стала наваливаться на него только в последние годы, и поначалу Василий не мог понять ее причины. Но мало-помалу за долгие размышления выклевалось прозрение: место вгоняет в нуду, Смоленск, город, в котором он наместником провел без малого шесть лет.
Теперь уже редко случались дни, когда Василий Борейкович, входя в эту самую палату, словно пьянел от счастья. Было раньше – так распалялось тщеславие, что сам себя корил и одергивал, страшась сглаза. Одергивал и не мог сдержаться, бродил по покоям дворца и честолюбиво дивился: неужто это он, Борейкович, ходит по тем самым половицам, по которым смоленские князья ходили, глядит в те же самые окна, что и они, принимает малых князей в той же палате, где они их принимали! Но вот никого из них нет в живых, а он есть, прислан Витовтом, прибыл из Ошмянского своего угла в стольный город Смоленщины держать порядок. Да, говорил себе, не обманулся он в князе Витовте, когда терпел вместе с ним все мытарства изгнаний, опасности походов и битв. Возместилось сполна и воздалось с честью. Где наместничает? В старейшем городе, в обширном княжестве, там, где тесть князя Витовта властвовал по праву древнего рода, где в уделах сидели врожденные Рюриковичи, вынужденные ныне слушать, что он говорит, ибо через него шло сюда державное слово великого князя. А что Рюриковичи? Под татарами пригнулись все Рюриковичи. Любят себя возвеличить, древностью рода нынешнюю слабину прикрыть. Так он и сам их ничуть не ниже. И отца, и деда, и пращура звали Борейками. И были Борейки ятвяжскими князьями, свои дружины держали, и свои конюшие им подводили коней. И стыдиться ятвягам нет причины, с четырех сторон их вырубали, но на колени не рухнули и дань врагу не платили, как Рюриковичи сто пятьдесят лет. Не затерялись Борейки, не исчезли. И при нем род не угаснет. Давно ли наместничество ошмянское получил, а теперь Смоленск князю Витовту держит. Правили тут смоленские князья, ныне ятвяжского рода князь здесь сидит. Конечно, Борейки не Гедиминовой были силы, но вот Вяземскому или Дорогобужскому в этом дворце вовек не сидеть, им сюда только по делу войти можно, если он призовет.
Да, не отнимешь грех – тщеславился, но, слава богу, быстро отрезвел. Забот и хлопот требует смоленское наместничество. Чуж и чужд остался город, непреодолимая враждебность сидит в смолянах, ничем ее не снять. Едешь по улице и читаешь по глазам: «Эй, сверчок, не на свой сел шесток!» Или вовсе угрозливое: «Потерпим, пока тихо, а хуже станет – переменим!» Василий Борейкович тогда думал, злобясь: недобитки, по-волчи зыркают, только и жди, чтобы в глотку не вцепились. И этот бывший дворец Ростиславичей, и замок, где стоял его отряд, казались тогда островком посеред реки, ударит гроза – и воды затопят его бесследно. Уже было так – наместника топорами рубили и со стены в ров, ровно падаль, скидывали. Как разойдется народец – не уймешь, на испуг не берутся. Вон когда Витовт князя Юрия сгонял, три осады выстояли. Не будь Юрий в отлучке, и четвертую бы выдержали. Три года Витовт Смоленск воевал, дорого обошлось это усмирение – тысячи своих людей под стенами полегло, много здесь ретивых голов пришлось снести, чтобы все прочие поостыли. Да, не заленишься в Смоленске, все тут зыбкое, востро надо держать ухо. Вот святки, народ пьет и гуляет, по вечерам гадания судьбы. Понятно, о чем девки гадают. Но что князья Вяземский и Дорогобужский выгадывают, сходясь в гости? Чего им в Вязьме и Дорогобуже не сидится, какая охота в Смоленск привлекла? Скуку свою разогнать в Соборной церкви? Богу помолиться в крещенские дни в толпе народа? О чем?
Не отмахнешься от дум, если было подслушано краткое, пугающее слово «отъезд». Теперь угадывай, что Вяземскому и Митьке Дорогобужскому возмечталось, в какую беду святочное их шептание может отлиться. Вдруг задумали Федора Юрьевича на отцовское место призвать, как девять лет назад князя Юрия призвали. Но Юрию тесть помогал, рязанский князь. Кто Федору поможет? Или самим вздумалось отъехать в Москву, к Василию Дмитриевичу на службу, а то и вовсе отломиться к нему вместе с землями – с боярами, с людьми, с данью и посощиной? Что воспоследует? Война с Москвой. Разве согласится князь Витовт с утратой Вязьмы? Давно ль Одоев прибрали, а тут Вязьму потерять. Но спросит: кто прозевал, кто допустил? А вот кто зевун – наместник смоленский. Знать, состарился – пора на печку.
«Ну и что делать?» – думал Василий Борейкович, угрюмо глядя на огонек. Не ко времени эта забота. Приказано овес отправить в Гродно, полки должны быть наготове в поход. И вдруг – отъезд. Вдруг полки эти в обратную сторону пойдут? Или придется сюда десять полков вести, чтобы эти три успокоить? Но здраво, трезво если глядеть: что для Вяземского этот Федор, чтобы из-за него на опасность смерти идти? Сын грешника, убийцы родича Вяземского. Нет, не нужен ему князь Федор, не захочет он свою жизнь и удел на край гибели ставить. «Мерещится мне,– подумал Василий Борейкович,– пустые мерещатся страхи, услышу звон – сам себя запугиваю, готов в набат бить. А уж если Лев с Митькою отъедут – пусть их, малая беда, только бы без народу, без смуты людей. Только ведь просто так не сбегут, какая им корысть жить в изгоях? Так о чем толковали?»
Василий Борейкович досидел до полуночи, гоняя по кругу тревожные свои мысли, и, утомившись и ничего дельного не решив, лег спать.
Наутро поздно проснувшись, он велел сотнику найти и пригласить к обеду князей. Полдня было впереди, и наместник с горсткой охраны поехал к Днепру на потеху – поглядеть с обрыва, как отмываются в иордани ряженые.
Над городом плыл колокольный звон. Пышным ходом с хоругвями прошли к реке одетые в ризы попы Соборной церкви. Вослед двигалась с плотным давким шумом шагов толпа – бесконечная и сплоченная торжественным чувством. Шли мимо наместника, как мимо столба. «Да, не дай бог смутить,– думал с досадой Василий Борейкович, видя раскрасневшиеся на морозе чинные лица.– Вон сколько тысяч прет, возьмут топоры, рогатины, такое выскочит лихо – не уймешь».
Через четверть часа толпа поредела; Борейкович со своими конными пристал в хвост, скоро вышли к реке. Весь берег Днепра в обе стороны далеко был побит прорубями, возле них с пением служили водосвятие попы.
Поехали на Смядынь к Борисоглебскому монастырю. Здесь протолкнуться было нельзя сквозь людей. Монахи черпаками наливали освященную воду во фляги и кувшины. Толпа стояла тихо, в почете к месту и празднику. «Да, взяли тут силу чернецы и попы,– думал наместник,– во как народ благоговеет и слушается. Они не только на смирение, равно и на смуту благословят. И слова поперек им громко не скажешь».
Вернулись назад мимо неубывающей толпы, к Днепровскому спуску. Особенно грудился народ у последней, длинной иордани, где готовились очищаться колядовщики. Их набралось с добрую полусотню. Уже первые раздевались донага и, прикрывая руками срам, вприпрыжку бежали к проруби. Зрители – и близко столпившиеся мужики, и стоявшие на возвышениях бабы – пришли в неистовое веселье. Поплясав у кромки, голые с визгом ухнули в ледяную купель, присели по горло и через мгновение полезли вон, оскальзываясь на льду, становясь на карачки, забыв про стыд и наготу. Борейкович, откинувшись в седле, хохотал до слез, кричал купальщикам, как и прочие все кричали: «Уду спасай! Примерзнет!» Отмытые, неслись к кожухам, лезли в порты и рубахи, дружки подносили им вина отогреться. А уже другая десятка нагих, крестясь, прыгала в иордань, и ледяные брызги взлетали вверх, сверкая на солнце.
Натешившись, Борейкович повернул коня на Торжище, думая выпить с мороза и отдохнуть перед обедом, но на Торжище желание его переменилось, и он, сам не зная зачем, поехал к Васильевской церкви. Поднялись в гору, у древней церкви оказалось немало людей, а в самом храме было полно, и оттуда сквозь открытую дверь слышался густой бас отца Климентия. Василий собрался уже сойти с коня, постоять среди праздного народа, как вдруг вскочил со своего места у входных дверей церковный дурачок Евсташка и понесся к нему, тряся лохмотьями, нелепо, как подбитая галка, размахивая руками и по-бабьи звонко выкрикивая:
– Кобылу в церковь ведут! Чур меня! Хуленье! Змеев сын едет! Одна голова наружу, две спрятал. Евсташку огнем сожжет! Сгинь, нечистая сила!
–И запрыгал вокруг опешившего наместника чуть ли не впритир к лошади под веселые, поощряющие ухмылки толпы. Борейкович от визгливого дурачьего крика, от радостных, забавлявшихся его смятеньем лиц мгновенно озлобел и невольно нацелил пнуть дурачка сапогом в спину, но Евсташка в последний миг резво крутанулся, и удар сапогом пришелся в лицо, в самый нос. Юродивый залился кровью и упал на снег, возопив воплем смерти: «Убили меня! Ой, больно!» Народ ахнул и зароптал. Наместник повернул коня и зарысил ко дворцу, отплевываясь от нелепости столкновения.
Через час ему доложили, что явился и требует встречи священник Васильевской церкви Климентий. Борейкович подумал и сказал впустить.
Вошел ражий поп в незастегнутом кожухе поверх рясы, с серебряным тяжелым крестом на груди, строго прошагал по покою и, остановившись в двух шагах от наместника, спросил гудящим баском:
– Что ж ты, боярин Василий, убогого Евсташку побил?
– На кой ляд мне ваш Евсташка? – лениво возразил Василий Борейкович.– Сам под сапог сунулся глупой мордой. Дурачку место надо знать.
– Грешно, боярин, божевольнику кровь спускать! – словно не слыша, упрекал поп.
– Это что ж, Евсташка – божевольник?! – не снес Борейкович.– Дурацкие словеса вещает: «Кобылу в церковь ведут»!
– Таким уродился. Выходит, по божьей воле.
– Коли все по божьей, то чего ты, отче, встреваешь? Бог и решит – кто не прав. Или и ты по божьей воле пришел?
– Пришел по совести. У нас убогих и великие князья молча слушали,– ответил Климентий.– Сапогом в нос не били.
– То у вас. У нас дуракам не почет.
– Ты, боярин, все же у нас.
– Я у вас. А вы у нас.
– Нет, не так,– сказал поп.– Ты у нас, а мы у себя.
– Не заносись, отче,– остерег Борейкович.– Зачем злишь? Не побоюсь, что праздник,– сядешь в холодную.
Климентий усмехнулся:
– Думай, что говоришь, боярин Василий. Ступи-ка за дверь, глянь на площадь. Тебе ли говорить, что станет, если я от тебя не выйду. Сотню свою пустишь в мечи? Так ведь всех выбьют. Шапками закидают. Не похвалит тебя князь Витовт. Не для того наместничаешь, чтобы кровью снег поливать.
Борейкович подниматься к окну по поповской указке счел зазорным. Не видя, понял: собралась толпа, злопыхает, друг друга к буйству раззадоривают. «Поредить бы вас,– подумал наместник.– Давно вас не редили». Но и представилось до мелочей, чем такое реженье обернется. Возьмут топоры и луки, перебьют хоругвь, затворятся в городе, выкрикнут князем хоть кого – хоть Льва Вяземского, и придется Витовту вести полки, стоять под стенами, кидать камни из пушек, а всей-то причины – наместник смоленский с юродивым Васильевской церкви побился.
– Полно, отче,– увещевал Борейкович.– Не тяни дурачка в великомученики. Все равно бог не примет...
– Не в нем суть,– продолжал гнуть свое поп.– Ты веры латинской, мы – православной. Ты наместник, тебе власть дана, твое каждое дело – не случайное: убогого стукнул – зачем? На ущемление веры?
– Вера! – утомленно вздохнул наместник.– Хватает мне забот без вашей веры. Прыгуч и брехлив ваш Евсташка, словно пес дворовый. Мне об него мараться не радость. Самому противно. И будет о нем.– И еще сказал, уже с угрозою: – Пусть утишится народ, отче Климентий. Не бери греха раздувать искры. А кто раздувает – тому ты лучше сам своим крестом в лоб. Случится пожар – зальют кровью!
«Буянить, вина выпив,– дело нехитрое,– думал наместник, когда поп ушел.– Поглядим, как вы в поле побуйствуете в летний поход. У себя вы – верно, да не в своей воле. Как коровы на пастбище – за вами пастух следит. Не сами вы по себе, а за княгиней Анной Витовту достались. Так он и разжалобится вас отпустить – своих мышей к чужому коту. Старина вам помнится, бабушкины сказания, как Смоленск великим был. Может, и было, да прошло, не вернется. Другое бы вспоминать почаще. Поход свой под Мстиславль на Вохру, где князя Святослава сгубили. Там надо было яриться. А сейчас поздно. За Евсташку зубами скрипеть нечего. Не убоюсь – выщерблю».
И как раз в эту минуту ненависти к смолянам появился князь Вяземский, легко хмельной и веселый. Василий Борейкович, чтобы не гадать попусту, отчего усмешлив князь – от вина ли усмешлив или наслышан про нособитие у церкви,– сказал после здравствования:
– Тут поп приходил меня совестить. А ты, князь Лев, гостем или тоже с укорами?
– Я не поп,– отвечал Вяземский,– меня твоя совесть не заботит.
– Слава богу,– кивнул одобрительно Борейкович.– А то у нас часто те чужую совесть спасают, кто свою потерял.
– Или у кого отроду ее не было,– добавил князь. Посидели молча. Василий подумал: сейчас начнем какой-нибудь вздор молоть, лучше в открытую.
– Молва, князь, ходит, в Москву решил отъезжать? Вяземский глянул на него удивленно:
– Молва ходит? Не видал, наместник Василий. Кто же тебе молвил?
– Молва ветром носится, сама в окно лезет.
– В окно тати лазят,– усмехнулся князь,– что доброе – в двери идет. А коли б и решил – тебе какая печаль, боярин -Василий? Я человек вольный. Куда хочу – туда езжу. Хоть бы и в Москву. Право на отъезд древнее, никем не отменено.
– Что, в Москве лучше будет?
– Кто знает? За корыстью не гонюсь – не купец. Своей стаи надо держаться.
– Уж своя! – хмыкнул Борейкович.– Или не Калита сюда татар приводил, с осадой стояли, дружно ваши посады жгли? Хитрые вы, смоляне! Как Москва под татарами терпела, вы нас держались, вместе с Ольгердом на московские пригороды ходили. Теперь к Москве поворачиваете.
– А кто смоленские пригороды оторвал? – возразил князь.– Мстиславль, Пропойск, Кричев. Сейчас с немцами рубитесь, а кто немцев под Смоленск приводил?
– Полтора века с ними рубимся,– отвечал наместник,– а только сейчас большая война. И летом поход.
– Летом поход – люди нужны. Это понятно,– сказал Вяземский.– Побьете немцев, за нас всерьез приметесь. Вот ты, боярин Василий, сегодня Евсташке рыло разбил. А завтра кому? В Смоленске костелов не было, в Заднепровье одна немецкая божница стояла, а как Юрия князь Витовт вышиб, сразу церковь латинскую срубили. Она маленькая, неприметная. Так ведь и Васильевская церковь, которую здесь Владимир Святой поставил, не больше курной избы была поначалу. А сейчас сколько церквей? На Соборной горе каменный храм стоит. До судного дня простоит. Завтра, глядишь, и вы такие построите. Где князья наши? Кто на Вохре, кто на Ворскле погиб. Князь Юрий в изгнании сгинул...
– Уже и Юрий Святославович тебе мил,– ухмыльнулся наместник.– Не он ли у твоего родича душу отнял? К чужой жене насильничать полез. Это что, с горя?
– Дело пьяное,– хмуро пояснил Вяземский.– С каждым может случиться...
– С каждым может, только не с каждым случается. Можно и так сказать: к чужой жене полез, потому что свою в полон вывезли. Но что, расцеловать его должен был Витовт? Не в тихое время Юрий Смоленск взбунтовал. После Ворсклы взбунтовал, когда нас обескровили татары. В злой час обрадовался: ага, побили вас, так и мы добавим. Кто наместника ножом заколол, полную хоругвь вырубил по слову Юрия? Не смоляне? А потом в Москву помчал: спасай, княже, пришли полки. И что? Помог Василий Дмитриевич? Дал войско? Торжок дал для кормления...
Слушая увещевания наместника, князь Лев старательно вспоминал недавнюю беседу с Дорогобужским; были при разговоре и несколько бояр, но никак не Витовтовы доброхоты, передать разговор Борейковичу не могли. Но вот, просочилось где-то словцо. Какое? Всего хуже, коли о князе Витовте – зачем изводит князей? Так и то правда. Выгодно изводить. Вся дань ему переходит. Раньше в Смоленске посощина князю шла, теперь – Витовту. Или в Полоцке серебщизна. То же и в Киеве. Князей с больших княжеств на мелкие уделы переводит, на их место такие вот бессильные наместники, как Василий, идут. Богатеет Витовт, и тревог ему меньше – на скудных уделах князья силы не имеют, их в счет можно не брать. И еще, злясь, говорили, что псковский город Коложу с лица земли стер, словно не было, что и нас такое переселение каждый день ожидает. Рассердится, махнет рукой – и погонят вяземский народ за тысячу верст на какую-нибудь обезлюдевшую землю. Как брат, Иван Вяземский, в Литве поселен, теперь в деревне сидит. Но об этаких речах, чувствовал князь Лев, неизвестно было Василию Борейковичу, занимал его только отъезд.
А про отъезд не много толковали; так, поскулили друг другу, что хорошо бы отъехать, да некуда, везде не лучше. Под Василием Дмитриевичем жить – тоже не мед. Всего год назад хан Едигей стоял у московской стены, едва откупились. Отъедешь, дадут удел на отшибе – берегись каждый год ордынцев. Что тут с немцами воевать, что там против татар. А сейчас и вовсе не честь отъезжать – скажут, от войны спасались, чтобы в поход не идти. Тот же Василий Дмитриевич косо посмотрит: чего ушли, на, тихого ли сиденья ищете; так у нас не подполье, чтобы тихо отсиживаться.
– Не пойму, что горячишься, боярин Василий,– сказал Вяземский.– Мне отъезжать не хочется. Мне и здесь по себе. Верь не верь, а трогаться с места не собираюсь. Мало ли что молва раздувает. О тебе молвлено, что ты коня в церковь вел, а Евсташка крестом руки раскинул, путь преградил, а верно, ложь...
«Врет,– подумал Борейкович.– Ишь как закрутил про кобылу!» Вслух сказал:
– Дыма без огня не бывает. Но коли не собираешься – тем лучше. Хлопотное начинается время. Скоро Витовт полки потребует. Уже пора бы всех перечесть, кто пойдет. Пусть готовятся. Ты сам сколько выставишь?
– Полторы сотни конных.
– Если Одоевского и Вельского прибавить,– задумался наместник,– уже и полк. А другой дадут Дорогобуж, Ельня, Ховрач, Пацин, Рославль, Витрин. И я полк соберу со Смоленска, Торопца, Клина, Лучина, Каспли. Вот где, князь Лев, заботы наваливаются...
Вяземский, не ответив, помрачнел и на минуту замкнулся. Увиделась ему дорога: полки на походе, пыль, котлы над вечерними кострами, послушное движение. «Глупые мы и слабые,– подумал он.– Как за свою биться, кричи – не соберешь; как за чужое – скажут через наместника – безмолвно пойдем. Лучшее воинство станет в полки, в битве сгинет, и будем мы еще слабее перед Литвой, чем были. А не пойти – измена и стыд».
– Что грустишь? – спросил Василий Борейкович.
– Виденье черное увидал. Достанется нам.
«Нет, похоже, не врет,– подумал наместник.– Не будет отъезда». И ему стало весело и легко.
– Все в бою решится,– заключил он бездумно, кликнул слугу и велел накрыть стол.