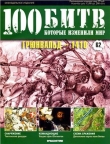Текст книги "Погоня на Грюнвальд"
Автор книги: Константин Тарасов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
ДВОР БЫЛИЧИ. ДЗЯДЫ
Спустя несколько дней после схватки паробок Данилы Рудый, загнав двух лошадей, привез жене своего хозяина недобрую весть. Ольга тотчас послала людей к свекру и к Росевичам. Две пары стариков немедленно съехались к ней, послушали рассказ Рудого о тяжелых ранах сынов и, решив за лучшее не надеяться на чужую заботу в далеких Селявах, сейчас же выслали за ними челядь и подводы. Если суждено детям выжить, рассудили старики, то дома и стены помогут, а коли суждено помереть, то будут оплаканы родными и родной землей укрыты.
Все дни ожидания прошли для Ольги в неотступном душевном изморе. Днем она думала про мужа с сочувствием., жалела его; ей мерещились тряская дорога, обескровленный Данила на соломе под ледяным осенним дождем, стоны его, когда колеса прыгали на колдобинах. Она молилась об его исцелении. Еще она просила в молитвах, чтобы господь дал ей силы ухаживать за мужем, вернул доброту к нему, легкость на сердце, заглушил злую память, потому что Данила сейчас немощен и рана его опасна. Но ночью, в темноте избы, душа выходила из подчинения рассудку и память разламывала все дневные уговоры, разрушала дневные молитвы. Бесконечной чередой, будто ратники на войну, проходили перед глазами обиды на мужа, складываясь в мучающее чувство беспросветной жизни, в привычную злую неприязнь. Ольга словно на ощупь, с пристальным досмотром, как лежалые яблоки, перебирала день за днем четыре года своего замужества и не могла припомнить ни одного светлого дня. Этот двор с крепкими постройками, с погребами и каморами, полными припасов, обнесенный высоким тыном из заостренных дубовых стволов, стал ее острогом, в котором ей выпало страдать и терпеть, дожидаясь конца своего века. Никто не мог ее защитить, никто не мог вырвать ее из этого двора, из прав Данилы, отнять ее у него для себя, никто и не знал – хорошо ей здесь или плохо.
Но был путь избавления, он открылся ей однажды, в одну из горьких минут: бежать отсюда, уйти куда-нибудь далеко, в Полоцк, в монастырь, кинуться в ноги игуменье, умолять, пока не смилуется, не скажет отрезать косу, накрыться клобуком и принять новое имя. И она будет жить с сестрами, и никто не будет над ней властен – только бог. От той жизни – чернушечьей – хоть людям может быть польза, хоть убогим скажет слово заботы и хворым даст уход, от этой – никому. Да и бежала бы давно, не терпела годами свою муку, одно удерживало – страх, обуздывающий желания страх, что никогда больше не увидит Мишу Росевича, не услышит его голос, не согреется его ласковым, сочувственным взглядом. Ради него, ради случайной встречи в церкви на праздниках и томилась в этом остроге. А теперь оба поранены, оба под оком смерти. Оба выживут – пойдет прежняя мука. Миша умрет – в тот же день ее здесь не станет или тоже умрет. Данила умрет – душа воспрянет...
Хоть и грех перед богом такие мысли, но нет силы их победить. Невозможно принудить себя к терпению, проститься с мечтой о счастливом дне и воле. Пусть грех, пусть бог ее покарает, только б изменилась или окончилась такая жизнь.
Дождь, тоскливый, октябрьский, сыпался с неба и день и ночь. Ольге страшно: в темноте, под нудный шелест воды за стеной время словно назад идет, душа глядит в прошлое, как в живое, терзается об ошибках. За одну ошибку всей жизнью платить – как смириться? Как понять, ответить себе, почему пошла за Данилу; ведь не силой он ее взял, и не силой ее отдали. Сама решила. Только зачем? Ну, понятно, те, у кого мать и отец грозные да расчетливые, тех принуждают, чтобы не засиживались, тем деться некуда, отказаться невозможно, отец прикажет – идут.
Но ей, без отца и матери, без родительского указа, вот так, одним кивком головы, сменить свою волю на плен, своего брата на незнакомого, виденного мельком в толпе Данилу... Зачем? Ведь и тогда нравился другой человек, не знала, как звать его, встречался он не чаще Данилы, а нравился больше. Но зашла крестная, спросила, примет ли она сватов, и будто зачаровала. К подругам сватались, ее задевало – почему не к ней, чем она хуже. Как игра, в которую не принимают: играть не хочется, но обидно, что не берут.
И вдруг сваты, все празднично, горлицей и княгиней называют, Данила в пояс кланяется, подруги завистливо шепчут: «Ох, он тебя любит, без приданого берет». Задурили голову, и проходила до покрова завороженная, в полной глухоте, словно тетерев. Потом землю снегом припорошило – свадьба. Ее одевают, вокруг толпа соседок, подружки то воют, то пляшут, минуты покоя не дают; и, как во сне, появился Данила, их ведут в церковь, там свечи, ладан, отец Фотий тычет крест целовать, что-то говорит, что-то рукой по воздуху рисует, и уже они – муж и жена. Вышли из церкви, сели в возок, и повез ее свадебный поезд под звон колокольцев из Волковыска, от отчего дома, сюда, за двадцать верст от города, в лесную глушь, в дубовый острог. Выехали за городские стены, увидела поле, примерзшую пустыню земли, оголенные ветром деревья, все какое-то неживое, словно умершее, и охватил душу ужас, стало так страшно, как никогда не было: куда везут? не надо! отпустите! никуда не хочу! А вокруг всем весело, все шутят, суетятся, поют, смеются, стол ломится от дымовины, вино пьют, пьяные хохочут, а на дворе пьяные бьются, а здесь, в хате, «Горько!» кричат – у нее же озноб по спине и плакать хочется. Да, без приданого сюда вошла. Так что, сапоги целовать за это, рабой стать, молиться, как на икону чудотворную? Но и старалась угодить, вспоминала Ольга. Был бы добрый, может, и прожили бы дружно всю жизнь. Но дома, как с крыжаками, себя вел – криком, силой, кулаками. Кулаком в лицо! А она ребеночка носила, он уже ножками стучал, бабы слушали, говорили – мальчик. Все в тот день рухнуло, только ненависть к Даниле жила. Уже за праздник считала, когда из дому уезжал, за счастье – когда в поход призывали. Сколько раз по ночам слушала его дыханье и желала смерти! Чуть умом не рехнулась – так хотелось взять нож да полоснуть по жилам поперек горла. А потом – себя. Что удержало? Вот удержало что-то. Греха убоялась. Несчастному еще можно в монастырь прийти, несчастному и грешному – в омут. Теперь сам ранен. Что ж ему пожелать, что просить для него у бога? Пусть, бог решает. Как бог решит, так и будет. Выживет, встанет – нечего ей здесь делать, уйдет в Полоцк, в затвор.
В таких провалах из добра во зло, в насильственном смирении прошла неделя. Наконец, под самые дзяды, прискакал челядник: везут, уже в пяти верстах от распутья. Ольга сказала запрягать, оделась, повязала платок и с тоскою на сердце, с чувством тяжелого страха выбралась. Скоро ее догнал ехавший конно свекор.
На перекресте проселков с Гродненским шляхом им встретились старый Росевич, его земянин Гнатка и несколько их челяди. Поздоровались, оставили подводы под досмотром баб и гуськом пошли встречать раненых. В полном молчании отшагали версту, потом услышали скрип колес и припустили быстрее, чуть ли не бежать, и как-то неожиданно, за поворотом, встретили обоз из пяти подвод. На первой лежал Мишка Росевич, укрытый до подбородка тулупом. Ольга увидела безжизненное лицо с проваленными, закрытыми глазами – и обмерла: никакой жизни, одни мощи. Старый Иван Росевич подбежал к подводе, впился единственным оком в бескровное лицо сына и потек слезьми.
На следующей подводе ехал, полусидя в соломе, Мишкин лучник Рыгор. К нему с криками и всхлипами бросились мать и жена.
Данила тоже был укрыт шкурами по бороду и был такой же истаявший и выблекший, как и Мишка. Ольга поцеловала мужа в щеку – щека горела. «Данилка!» – позвала она. И свекор позвал: «Сынок!» Тот не отвечал и не слышал.
На перекресте Росевичи повернули направо, подводы закрылись кустами; скоро затихло и мерное хлюпанье копыт по раскисшей земле. Показавшись на минуту, Мишка словно растаял в холодном октябрьском тумане. Помолившись за него, Ольга взяла у возницы вожжи и сама повела лошадь, обходя рытвины и глубокие лужи.
У ворот их ожидали свекровь и дворовые. Мать, взглянув на Данилу, заголосила. Старый Былич, озлившись, рявкнул: «Чего, одурела? Живой!»
Данилу внесли в избу, положили на лавку, раздели, разрезав ножом задубевшие от крови рубахи. Вид нерубцующейся, в гнилостных струпьях раны вновь вызвал у матери рыдания. Ольгу вид сочащегося кровью дупла отрешил от мучительных дум и жалости к себе; она запарила подорожник, обмыла рану, обложила ее листьями, перевязала чистой холстиной. Сделав это необходимое дело, она присела в ногах у мужа и сострадательно, жалостливо плакала, чувствуя его беззащитность и свою беспомощность перед той силой, которая держала мужа сейчас между жизнью и смертью, а всех сошедшихся в дом родных в неизвестности его судьбы. Раскаяние охватывало Ольгу; она мучительно думала, что, возможно, своими обидами, злыми мыслями, тоскливыми молитвами накликала на Данилу беду, выпросила ее у бога. Ну, а Мишу Росевича за что, подумалось Ольге. А ее отец за что погиб? Не виделся ей ответ. Может, и на них был кто-то обижен...
Старики застыли напротив Данилы на лавке. Никто не нарушал немоты напряженного ожидания. Стало темнеть. Зажгли лучину, потом вторую. В молитвенной тишине, охватившей дом и двор, громко послышался тяжелый топот, спешные шаги, режущий скрип дверей: вошел брат раненого – Степка. Огляделся, спросил глазами: «Ну что?» – и, поняв неопределенность минуты, сел рядом с матерью.
Наставшая ночь усилила страхи. Все обретало значимость беды. Зло и тоскливо завывал ветер в трубе, уныло потрескивала лучина, пугающе постукивал в окно ставень. Изредка несмело, словно кого-то боясь, брехали собаки. Изведшись ожиданием хоть малого знака жизни, отец и мать, склоняясь над сыном, тихо окликали: «Данила! Данилушка!» – и вглядывались в лицо с надеждой увидеть проясненный взгляд, услышать ответный шепот. Данила в себя не приходил.
«Господи, спаси его! – молилась Ольга.– Спаси его, не призывай, не отними душу». Все давние, выстраданные обиды на мужа казались ей сейчас чужими; она от них отрешалась. Крепя молитву, Ольга искренне представляла себе другую жизнь с мужем: вот он поднимется – исчезнет между ними разлад; он изменится, она переменится, и пойдет живая, добрая жизнь. Она родит, в доме пойдут веселые хлопоты, шум, радость. Никто не виновен. Чем он виновен, думала Ольга. Разве он хотел горя? А она разве праведница? Замуж пошла за него, а нравился другой. С первого дня, со свадьбы, когда увидела здесь Мишку Росевича, вспомнила – вот кого хотелось, вот кого примечала в толпе. Может, с этого взгляда и пошло все вкось: ни Даниле радости, ни ей счастья. Сейчас оба помирают; а как оба помрут, так и свет опустеет.
Вошла старуха-челядница, сказала шепотом: «Полный день не евшие. Поесть надо». Сели к столу, насильно поели просяной каши. Не столько ели, сколько уныло посидели над миской, не зная, что делать и о чем говорить.
Вдруг послышался Данилин стон, и он жалобно кого-то позвал, а через мгновение нетерпеливо, как о помощи, выкрикнул: «Мама!»
Бросились к нему – тихая улыбка смерти застывала на его лице.
С рассветом Ольга послала Рудого в Волковыск за своим братом.
В это дзядовское утро Юрий рано пошел на покутье. Здесь было уже людно. На окуренных туманом могилках бледно горели свечи и плашки. Юрий очистил материнскую могилу от нападавших пластом листьев, поставил возле креста восковую свечу. Отец был схоронен далеко, на Немане, под Ковно, где погиб в стычке с крыжаками. Юрий помнил его отъезд, помнил коня под боевым, с высокой задней лукой седлом, холодный блеск стремени, в котором глубоко сидел отцов сапог и за которое Юрий держался, провожая отца в поход, помнил улыбку отцовских глаз, последний, прощальный взмах рукой с холма. Потом отец постепенно исчезал за перевалом, словно уходил в землю.
Глаза у отца были синие, улыбка – растерянная и грустная. Через два месяца полк вернулся крепко пореженный. В городе по разным концам заголосили бабы; отец Фотий в церкви, а в костеле ксендз Миколай помолились за вечный упокой убиенных на войне волковысцев.
Вечером сосед, отцов приятель, принес мешок с отцовыми вещами и оружием. Матери уже давно не было на свете. Батька другой раз не женился. Может, не нашел новую по душе или не мог забыть первую, их мать. Хозяйкой в хате была Ольга, но всю тяжелую работу батька держал на себе. Вместо него домой вернулись его рубаха, свитка, меч, шлем, кольчуга, пояс с ножом, ложка. Пугающе выглядели эти вещи, разложенные на столе. Тайна, какая-то мрачная тайна скрывалась за тем, что они остались целы, что их привезли, а отца не стало.
Помня отца живым, Юрий не мог представить его убитым, не верил, что отца положили в ряду товарищей в яму и засыпали землей. Ему грезилось, что когда-нибудь он услышит знакомый стук в ворота; ему снились сны, в которых отец возвращался – и начиналось счастье. Тогда, в первый год сиротства, он зачастил в церковь молиться о чуде; однажды он сказал отцу Фотию, какого чуда он просит у господа: отец не убит, он в плену, его обменяют на пленного крыжака. «Дай бог!» – ответил священник после тяжкого вздоха и скоро стал приглашать Юрия к себе – учить уставному письму. Проводя с Юрием по нескольку часов ежедневно, старик приблизил его, словно отысканного по милости судьбы родича; оба одинокие, они стали дружны и неразлучны, как дед и внук. Чудо не совершалось. Юрий взрослел, душу его захватила страсть мести. Ему виделся победный блеск меча. Он попросил у Фотия благословения стать воином. Фотий благословения не дал, – ответил: «Сперва возмужай». Помимо церкви, было у Фотия другое дело, святая страсть – он писал волковыскую хронику. Листы хроники хранились в окованном сундуке вместе с десятком накопленных за жизнь книг и саморучно переписанной в молодые годы Библией, по которой он читал в праздничные и воскресные службы. Однажды старику скрючило руку; гусиное перо не держалось в пальцах, стало прыгать по пергамину судорожными скачками, и Фотий, скорбя, доверил Юрию писать хронику со своих слов. Став книгописцем и получив доступ к заветному сундуку, Юрий прочел «Слово Кирилла Туровского», «Жития печерских старцев», «Требник» и «Златоуст». Чтение привело его к мысли, что зло победишь не злом, только силою доброго слова и дела. Познавая дьявольскую природу оружия, он чувствовал в этом измену памяти отца. Но и любое, пролитие крови казалось грехом против совести, вложенной в каждую душу, против сострадания и милосердия, в которых проявляется завещанная спасителем любовь.
И сейчас, видя вокруг суету людей у могилок, Юрий ощущал благость этой любви, просветляющей душу, роднящей всех в братстве по чувству. Всех, пришедших сюда почтить дзядов, сплачивало равное для каждого искреннее чувство благодарности, почтительности и умиления. Христос хотел, чтобы так было всегда. Только к сожалению, думал Юрий, люди пока еще неспособны на постоянную любовь, уважение, помощь друг другу. Множество глухих и слепых, как говорит отец Фотий. Соблазны богатства и власти обманывают их; ведь ни богатство, ни власть не удлиняют человечий век, и бог не взвешивает добытые человеком деньги или назапасенные сено, одежду, украшения. Он взвешивает только ту невидимую драгоценность, которую накопила душа.
Юрий развязал узелок, распрямил на могилке холстину, отлил из фляги вина под крест, положил угощение дзядам, сам отпил глоток и, глядя на огонек свечи, долго сидел, стараясь возродить в памяти материнский образ, вспомнить ее голос и слова. Мать учила его говорить, ласкала его, что-то нашептывала, какие-то добрые пожелания. Ни одно из них теперь не слышалось, заглушённое забвением. Эта неблагодарность, беспамятство, невозможность духовной встречи отзывались болью в душе Юрия. Он сидел на том месте, где отец, Ольга и он навсегда распрощались с матерью, но память не удержала ту горькую минуту или запрятала так глубоко, что ей не доставало силы появиться в сознании. Вот это и есть сиротство, думал Юрий. Ходишь по земле, появился на свете, рожденный, вскормленный, наученный матерью,– и не знаешь, кто она, будто не существовала. И неподвластная уму загадка туманом закрывает твое появление среди людей.
Эта невозможность духовной встречи смущала Юрия. Он собрался и пошел к отцу Фотию.
Скоро он пришел на площадь, в этот час пустую, с запертыми лавками, постоял в каком-то неясном удивлении перед костелом, из которого слышалось пение, и по крутой насыпи поднялся на Замчище, где стояли старая рубленая церковь, маленький пустующий замок и где в хатке, прилепившейся к дубовым плахам городни, жил Фотий.
Старик, по своему обыкновению накрывшись поверх рясы платком, грелся у печи.
– Поздно спишь,– укорил Фотий,– давно тебя ожидаю.
– На покутье ходил,– сказал Юрий.– Дзяды сегодня.
– А, верно, дзяды,– удивился своей забывчивости старик.– Хотя в старости все время – дзяды, одно прошлое и на уме. А вот сам умру, все, что помню, тоже со мной умрет и забудется. Слабеет память. Отца помню, а деда не помню совсем. Каков был? что делал? как звали? – словно и не было его на свете... А он меня, верно, на руках качал! Вот, чудеса жизни! Впереди – неизвестность, минувшее – богу принадлежит, а мы посередине, на узкой меже протекающей минуты. В будущее идем, на прошлое оглядываемся. Оно, как зеркало,– старик настроился на серьезность.– Ну, что, поработаем немного?...
Юрий открыл стоявший под образами сундук и достал лист пергамина, исписанный наполовину, пузырьки с чернилами и киноварью и пучок перьев.
– Скажи, отец Фотий, почему костел поставили у подножия горы? – спросил Юрий, вспомнив свое недавнее удивление.
– А где еще было ставить? – отвечал старик.– Там капище было, рос дуб, огонь горел. А лет двадцать назад крестили в латинскую веру деволтву и жмудь, тогда дуб сожгли и на месте кострища срубили костел.
– Отчего же в нашу веру не окрестили? – спросил Юрий.– Ведь волковыская церковь древняя?
– Древняя,– кивнул Фотий.– Три века стоит. Только не успели. Другие были дела. Вот и об этом надо записать, а то забудется.
– О чем? – не понял Юрий.
– Как здесь племена мешались. Кто жил, кто остался. Пиши.
Фотий сосредоточенно и неспешно, чеканно, как в церкви, стал говорить:
– Там, где Брест, Белая Вежа, Беловежская пуща, реки Ясельда, Мухавец, Нарев, Зельва, Сокольда, жили ятвяги. Они и сейчас там живут, но не сберегли своих отличий, ибо потеряли князей. А князей потеряли в войнах с киевлянами, поляками, а потом и с крыжаками. От Полесья до Вильно и Трок, от Гродно за Новогрудок – эта вся земля называлась Литвою. А как стали здесь селиться наши и построили города Гродно, Слоним, Вильно, Лиду, Крево, Волковыск, стала она называться Русь Литовская. А за Вильно до Ковно лежит Деволтва, а от Ковно до моря – Жмудь, а в другую сторону от Вильно, к Полоцку, где города Ошмяны, Ворняны, Свираны, Медники, Крево, Сморгонь, Гольшаны, эта земля называется Нальшанской. А Полоцкая, Витебская, Смоленская земли называются
Белая Русь...
Фотий, не повторяя сказанное, прижался спиной к печи и благостно слушал легкий скрип пера по выделанной коже, следил, как строятся одна к другой ровные буквы, нарастают строки и слова, уже загасшие в воздухе, обретают вечную прочность.
– На Литве и в Нальшанах,– продолжал старик,– кривичи и литовцы давно смешались, и стал один народ с одним языком. А Деволтва говорит на своем языке, и потому до Вильно река называется по-нашему – Вилия, а в Деволтве ее называют Нерис. Потому и держава наша называется Великое княжество Литовское, Русское и Жмудское. Литовское – это где мы живем, от Полесья до Вилии; Русское – Полоцк и Витебск и украинские земли, отбитые у татар на Синей Воде. Жмудскую часть крыжаки по жадности своей хотят оторвать, чтобы все побережье моря им одним навечно принадлежало. Раньше на Руси Киев был главным городом, потом Владимир стал главный, потом Тверь и – Москва. У нас Полоцк был самым сильным. Потом Новогрудок стал первым. Тогда и пошла Новогрудская держава. Первым ее князем был Миндовг, родом из-под Ошмян, а родовой знак Миндовга – Столпы. А гербом Новогрудка была Погоня, она и сейчас всего Великого княжества и каждого города нашего герб... Опять настала тишина, и старик молчал, пока Юрий не закончил писанье. Тогда Фотий перекрестился:
– Дай, господи, вечную славу черноризцу Кириллу, от него наша письменность идет. Не его бы труды – грязли бы по сей век во тьме невежества. Читаешь древнюю книгу – видишь глубины времен, все дзяды проходят перед мысленным взором, в своих добрых и грешных делах, в величии или падении сердца. Была Киевская держава сильная, греков воевала, на Царьград с осадой ходили. Почему ослабла? Через корыстолюбие и тщеславие князей...
Внезапно Фотий вскочил.
– За власть глаза выкалывали! – прокричал старик.– Брат брату горла резали ножами, свои же города жгли. Кто Киев пожег и разрушил? Татары? И они. А первым Андрей Боголюбский святыни топтал. Собрались в Любече, поделили как тати добычу: тебе Владимир, мне Киев, тому
Чернигов, этому Пинск – и рассыпалась сила. Как на беду Батый пришел, немцы явились. Два века с ними воюем. Родился – в седло – в могилу. Не до грамоты. Только бы выжить. Вот ты дивишься, что храм латинский срубили вблизи нашей церкви. А тому не дивишься, какие пойдут от этого беды. Не могут чуждые церкви ужиться. Одна победить хочет, другая насмерть стоит. Чем обернется? Вновь ненавистью. Но если не будет памяти, если забудут люди, как жили деды и пращуры,– исчезнет народ. Мы немцев пруссаками зовем, а где сами пруссы? Онемечили их немцы, забыли они свою веру и свой язык. А храбрых и непокорных вырубили.
Старик шагнул к столу и ткнул пальцем в исписанный пергамин:
– Письмена мудрости и справедливости научают. Говорят: помни, что не ты первый, что и раньше тебя жили человеки и после тебя будут жить...
– Каждый знает, что смертен,– усомнился Юрий.– Где же в том справедливость?
Фотий поглядел на него удивленно, сел на лавку и опять прижался к печи, продолжил:
– Люди толкуют чудеса господни к малой своей выгоде. Слышат про исцеление слепого, думают: господь обычному слепцу новые глаза дал. А господь духовное зрение дает. Бродит человек во мраке себялюбия, никого, кроме себя одного, не видит – душа слепая. И вдруг прозрение – увидел, что и еще люди живут, и они страдают, и каждый ждет радости, каждый нуждается в любви и заботе, а истина счастья – в человеколюбии. Спрашивают: где же это человеколюбие? Дождями земля меньше полита, чем нашей кровью; дерев меньше рубим, чем голов сечем. Всегда так. Извечно. Надо отвечать: каждому жизнь дана и совесть дана, чистая, как первый снег. Погляди каждый на свою совесть. Какой господу ее представишь, когда придет срок? Покажешь грязную, в язвах, господь скажет: ты не для добра, ты для дьявола жил.
– Почему же никто не боится? – пытал старца Юрий.
– Как никто?! Да ты и не понял, о чем говорю. Не страхом зло уменьшается. Если злой и боится, он все равно злой...
– Зачем же крыжаков прощает, не может спросить с них, злых и грешных?
– Бог все может. Только что нам останется делать, если за нас он сделает? Молим о помощи – крыжаков разбить, а сами чем заняты? Сами грешим! Где больше князей погибло – в битвах с немцами или между собой? Подсчитаешь – удивишься, что на наших мечах не меньше нашей крови, чем на крыжацких. Между собой замириться не умеем, а тяжелую работу непротив господу богу поручить. А почему? Перед богом все равные – что мы, что крыжаки. Бог за любовь, за добро своей милостью награждает. Меч – дьявол людям подсунул...
Перебив речь Фотия, в сенях щелкнула клямка, дверь отворилась, вошел Рудый. Поклонился старику, поздоровался с Юрием и сказал о смерти Данилы. И еще сказал, что Быличи просят отца Фотия приехать для отпевания.
Старик содрогнулся, представив дальний путь, холод дороги, и уже отказ был готов слететь с языка, но вообразились ему горестные родители, их желание проститься с сыном по-христиански, их вера, что убиенному сыну будет оказан почет, что не придется трясти гроб с мертвым тридцать верст в Волковыск, а потом назад, что если он, Фотий, откажется и Юрий приедет один, то обида за отказ перейдет на Юрия, что и Юрий хочет, чтобы он поехал, но, зная его немощь, не осмелится просить,– все это множество обращенных к нему взоров открылось ему, и Фотий, не медля, стал собираться.
Кончался светлый день, когда они въехали во двор Ольги. Фотий скинул тулуп, Юрий помог старику надеть епитрахиль и ризу, взял псалтырь, и оба прошли в избу.
Горели свечи, гроб стоял на столе, родня сидела возле гроба; Ольга и мать, повязанные черными платками, плакали, подвывая. В углу голосили, по обычаю, несколько старух. Увидев Фотия, старухи умолкли; в наставшей тишине зазвучала молитва по исходе души: «Помяни, господи боже наш, в вере и надежде живота вечного, преставившегося раба твоего, брата нашего Данилу...»
Проговаривая многажды повторенную за жизнь молитву, отец Фотий вспомнил, как этот человек, сейчас лежавший в гробу с берестяной грамоткой в застывших навеки пальцах, как он счастливо улыбался на венчании, как крепко он стоял возле Ольги, как радостно надевал ей на палец перстень, крестился и целовал крест. Потом ему вспомнилось совсем далекое: как эти старые теперь мать и отец Быличи привезли крестить этого человека, распеленали его и он недовольно закричал, когда его окунули в купель.
Потом отцу Фотию вспомнилась покойная жена, день ее смерти при родах. Не спасли повитухи и ребенка, и на его глазах оборвались две жизни – жены и некрещеного еще сына, рожденного, чтобы пожить на белом свете несколько минут. Скорбный день. Так же сумеречно горели свечи, жена застыла в гробу в горьком недоумении перед несправедливостью своей судьбы. Ему казалось, что она приснула, и он ждал ее пробуждения, какого-то движения, вздоха, знака, и казалось, что она шевелится, открывает веки, и он наклонялся к ней, звал, гладил руку, но та все сильней холодела...
Потом он вспомнил семилетней давности разговор с Ольгой и Юрием. Ранним утром он вошел в церковь. Никого не было в храме, только брат и сестра, преклонив колени, стояли перед иконой Богородицы. Он подошел к ним и спросил тихо и участливо: «Что, дети? О чем вы просите Богоматерь?» «Чтобы вернулся отец!» – сказала Ольга. Он знал, что эти дети – круглые сироты, и не нашелся что ответить. «Она нам скажет, да?» – спросила Ольга. Тогда он сказал: «Она не говорит здесь. Она скажет во сне». И вот эта девочка уже повязана платом скорби, она – вдова, скоро тело ее мужа отнесут на кладбище, и она останется одинокой, с непреходящей горечью воспоминаний днем, в плену обманывающих снов ночью.
И, жалея всех, кого задела скорбь, отец Фотий начал читать по памяти очередной псалом, успокаивающий души.
Вошли Росевичи всей семьей – боярин Иван, жена его, дочери – младшая Софья и старшая Еленка, которую поддерживал, обняв за пояс, Гнатка. Перекрестились и остались у порога. Какая-то баба уступила Еленке из жалости место на скамье. Гнатка помог девушке сесть.
Когда Фотий завершил свою службу, мать Данилы обернулась к Быличам и, словно никого в избе больше не было, призвала их к плачу: «Вот и нет нашего Данилушки! Уже ни в дом не придет, ни слова не скажет!» Невольный укор Росевичам слышался в ее голосе, жалоба на судьбу: поранили обоих, а ваш жив, не оставили бы одного, кабы помирал. А наш мертв, почему так?
Фотия увели в другую избу накормить и согреться. Юрий пристроился возле лучины читать псалтырь. Произнося слова псалмов, он чувствовал на себе взгляды двух сестер, и их внимание не давало ему сосредоточиться на сокровенном смысле того, что он читал вслух. Он говорил: «Господи, имя твое – свет во тьме», но не видел ни тьмы, ни света, ни светоносной выси, куда уходят святые и праведные, а видел два девичьих лица и испытывал непривычное лихорадящее смущение. Он думал: чтобы стать священником, надо жениться; в нашей церкви не как в латинской, священник не монах, неженатого в сан не рукоположат.
А жениться – невесты нет. Разве Росевич отдаст своих в попадьи? Честь не позволит ему выдать дочь за неимущего попа. Надо, чтобы боярин, чтобы двор, земля, челядь. Скажет: стоило ли девку растить, чтобы с голодным нищенствовала...
Боже мой, милостивый, прости, спохватился Юрий, грешен, грешные мысли в голову лезут. Человек в домовике лежит, а мне жениться захотелось, никогда про это не думал, а тут зажглось. Нет, читать, внимательно читать, и не смотреть на них, чтобы не соблазняли. Но через минуту не выдерживал, поднимал глаза от книги и встречался с любопытным взглядом младшей сестры и с грустным, тоскливым взглядом старшей. Обе, хоть и вытирали концами платков слезы, однако глубокой скорби Юрий за ними не замечал. Может, и они о другом думают, допустил Юрий, и почувствовал себя в каком-то приятном заговоре с сестрами. Надо с отцом Фотием посоветоваться, думал Юрий, пусть он подскажет.
Только не здесь ему надо сказать, не завтра. Но ясно наперед, что ответит: что сердцем решено, сердцем и отменится; сердце своевольно – дух тверд. А дух тверд – о невесте бог позаботится. Мало ли в Волковыске дев, ясных душой, зачем заришься на неизвестное? Это жадность в тебе не убита. «А чему доверять, если не сердцу?» – словно бы возражал старцу Юрий. И опять убеждал себя от лица Фотия: «Это она тебе нравится, а ты ей? Ты ее спросил, сговор между вами есть?» «Вот и верно,– как бы согласился с Фотием Юрий.– Надо поговорить; улучу случай,– решил он,– найду повод, заговорю».
Наконец вернулся Фотий, и тогда Юрия позвали передохнуть и поесть. Не много времени заняла вечеря, но за это время Росевичи уехали. Юрий, придя в избу и не увидев сестер, поразился – словно видение здесь видел, а не живых людей; и остался в сердце тоскливый след.
Наутро уехал в город отец Фотий. Юрий остался с сестрой, днем недолго спал, по ночам читал из псалтыри. Как-то ночью случился такой час, что при покойном сидела одна Ольга. Вдруг она, перебив чтение, спросила:
– Юрий, бог есть?
– Да! – кивнул он, удивляясь вопросу.
– Все делается по его воле?
– Да! – опять кивнул он, жалея сестру, думая, что у нее с горя помутился разум.
– Выходит, никто не виновен? Юрий растерянно помолчал.
– Совесть подсказывает, кто виновен? – сказал он; подумав.
Ольга не ответила.
В день похорон развиднелось, вышло солнце; в толпе, следовавшей за гробом, говорили, что Данилу примут на небеса – вот господь разогнал тучи, святые сверху глядят. Прошли полверсты по полевой стежке к рощице на холме. Здесь уже была отрыта могила. Под гроб подвели веревки, стали опускать. Закричала мать, заголосили бабы. Скоро вырос песчаный холмик, стал крест – Данила ушел к дзядам.