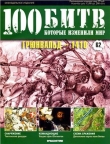Текст книги "Погоня на Грюнвальд"
Автор книги: Константин Тарасов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
ГРОДНО – ОЗЕРО ЛЮВЕНЬ. ПОХОД
Первые Дни июня отметились сильными грозами. В хоругвях, сходившихся к Гродно, не могли понять, о чем предупреждает небо. Одну ночь огненные стрелы долбили и жгли что-то на западе, на крыжацких землях, и воины, видя далекое полыхание зарниц, довольно крестились, зато в следующую громы грохотали прямо над городом, над таборами полков, мрак взрывался связками молний, они били в Витовтов замок, куда уже прибыл князь в Коложскую церковь, по табунам, обозам, дворам, и лило, лило часами, как в потоп. Неман замутился, нес лесной сор, возникли непредвиденные заботы с питьевой водой. Паводок – что было хуже – закрыл броды, а на берегу скопились тысячи телег, и прибывали новые.
Великий князь приказал возить подводы плотами; более полусотни паромов с восхода до захода стали сновать по реке. Приходившие хоругви задерживались на ночевку и вплавь переправлялись на левый берег. Уже двигались к Нареву гродненский, новогрудский, волковыский, виленские и трокские полки. Третьего числа пришли медницкая, ковенская и лидская хоругви, князья Друцкие привели оршанцев, князь Юрий Михайлович Заславский – менскую хоругвь, князь Александр Владимирович – слуцкую. Назавтра привалили мстиславцы и три смоленских полка, Иван Немир с полоцким полком, князь Василь с витебским, прибыл Семен Ольгердович с полком новгородцев. Вечером вдоль Немана дымили сотни костров, косяками ходили кони, вповалку ложились спать многие тысячи людей.
Витовт полные дни проводил на переправе – торопил, сердился, хвалил, смотрел, как сотня за сотней соступает в Неман, сносится течением и выходит из реки. Давно не был так бодр, спал по пять часов, с рассветом – в седло, выносился из замка в хоругви, на ходу разрешал десятки забот, считал приходящие полки и дружины, порядковая злую толпу у паромов, опять мчался в замок, советовался с князем Семеном и Монивидом, диктовал нотариям письма. Все делалось с охотой, легко; сам дивился, откуда брались силы, словно еще раз молодость пришла, словно скостила половину годов радость начавшегося похода. И все как нельзя лучше удавалось: гонцы от Петра Гаштольда, ведшего войско к Нареву, приносили утешительные вести – посланные прежде крестьяне загатили топи хорошо, дороги расчищены, и сюда, в Гродно, хоругви приходят в назначенный срок. Орден предложил перемирие до купальской ночи – теперь можно идти через мазовецкие земли, не боясь внезапного нападения и невыгодной, своими только силами, битвы с крыжаками. Даже в малостях ничто не вызывало досады: не считая двух ошмянских бояр, убитых молнией, никто не погиб и не утонул при переправе. Веселило и полученное в последний день мая письмо ливонского магистра фон Ветингофа с объявлением войны. Все-таки Юнгинген принудил ливонцев вступить в драку. Но что с того? Ветингоф если и нарушит рубежи, то только в последний день лета...
Да, одна к одной шли удачи. До последнего дня не верилось, что Великий Новгород пришлет полк, но вот – стоит этот полк, явились новгородцы, и ладный полк, сотен под восемь. Как не порадоваться! Даровая хоругвь пришла, не наемники, платить не надо, их вечевое решение прислало. Да, пересилили свою неприязнь новгородские бояре. Верно, немало толковал с ними князь Семен. Кто же по доброй воле на смертное поле идет за неясной пользой? Немало взвешивали эту пользу. Может, и до драки дошло. Небось мнится теперь боярству и купечеству, что откупятся от Витовта своим полком. «Нет, голубчики, богатые вы, тяжелая у вас на поясе калита. Склады у вас под церквями не менее, чем мои в Троках. Мало с вас единственный полк. Полк на крыжаков выправили – это молодцы. Так и самим прямой расчет крыжаков ослабить. Случись, победят нас немцы, то и вам бедствий достанется, налягут на вас ливонские меченосцы – не отобьетесь. Припомнят тогда вам Чудское озеро; у них на добро память короткая, а за побоище и через три века будут мстить, как за вчерашнее. Поди, и толковали между собой бояре с таким разумением, и на вече доказывали: пусть немцев Витовт и поляки побьют, а мы, чтобы с краю не стоять, полк выставим, тевтонца побить – дело христианское, поможем, и один полк всей землей выправить недорого обойдется. Нет, мужи ильменские, не будет вам от меня покоя»,– думал Витовт, поглядывая с удовольствием на полковой новгородский обоз с полную сотню подвод, провозивший вслед за ратниками копья, латы, харч, котлы.
– Чупурна,– кликнул он маршалка,– видишь, чей полк пришел? Долго шли, тысячу верст отшагали. Поиздержались эти молодцы. Скажи, чтобы выдали им, что надо, без скупости.
Новгородцы грузились на паромы, и князь задумчиво приглядывался к их спорой работе, веселым лицам, крепким спинам, к телегам с вещевыми мешками, к узким тяжелым мечам в деревянных ножнах, обтянутых кожей. Вдруг князь рассмеялся, поняв, что примеривает к этим людям, пришедшим к нему для похода на орден, свой будущий поход на Новгород. Князь даже крякнул, дивясь неуместности своих желаний, но виденье грядущего похода на новгородцев не отогнал, а, наоборот, определил очередность этого дела в ряду других необходимых державных свершений. Выстраивались эти дела так: разбить немцев, крестить Жмудь, потом поход на Орду, поставить царем Джелаледдина, он набегами свяжет руки Василию Дмитриевичу, и затем можно выправляться на Новгород. И уже окончательно установить порядок отношений и подчиненности. Без той зыбкости, как сейчас, когда в Новгороде сидит князь рассмеялся, поняв, что примеривает к этим людям, Сам по себе Новгород остаться не может, кто его к рукам приберет, тот крепко усилится. Земли, густое население, надежная серебщизна, несколько полков в войско – такой кусок стоит трудов.
Придется часть бояр вырубить, другую часть распылить по разным городам, придется подавить два-три бунта, сменить несмиренных попов податливыми, бросить подачки монастырям, чтобы умы не смущали, расставить заслоны вдоль Московского порубежья, сломать вече... А все это кровь и труд. Нельзя, нельзя выпустить Новгород, думал князь, позже боком вылезет такое упущение. Все толково исполнить без взятия города невозможно. В поле новгородцы не выйдут, замкнутся за стенами, их осадой не испугаешь, в лучшем случае предложат выкуп. А выкуп ничего не решает. Как взять этот Великий Новгород, как его захватить? Надо среди бояр разведать, кто за власть, за деньги ворота отворит. Уйма дел!
Витовт удрученно вздохнул. Красивая сложилась мечта, но далеко было до ее исполнения. Надо крыжаков побить. Надо то, надо другое. А вдруг крыжаки их в битве побьют – отчего же нет? Что о завтрашнем дне думать, если неизвестно, чем нынешний завершится? Князь вновь засмеялся и поскакал вдоль Немана в замок.
Наконец пришли пять тысяч татар Джелаледдина; недолго постаяли на крутом берегу и по мановению руки своего хана, молча, не сходя с коней, сотнями пошли в воду. Несколько часов Неман пестрел татарскими халатами.
Больше ждать в Гродно было некого: кто должен был прийти – пришел. Великий князь, сопутствуемый Семеном Ольгердовичем, Монивидом, Цебулькой и десятком телохранителей, переплыл реку и, обгоняя хоругви, помчал к Нареву. Лесные дороги на десятки верст были забиты войсками. Витовт говорил князю Мстиславскому:
– Гляди, Семен! Считанные разы за жизнь увидишь такую силу. Много помню походов, а так крупно не выправлялись. С немцами ходил на Вильно, считалось – крестовый поход, не счесть было сброда, но не сравнить, как мы сейчас идем. На Смоленск, на Москву ходили – немалые были полки, а все ж меньше против этих. Только на Ворсклу, будь она неладна, скопище вели. Вот второй раз за шестьдесят своих лет и вижу такое множество воинов. А ведь тут половина, еще столько же прибавится через неделю. А когда с Ягайлой объединимся, сколько станет! Вовеки так никто не ходил.
– Обратно бы столько привести,– рассудительно отвечал князь Семен.– Вот идут, хохочут, а считай, каждый третий последние деньки доживает, уже отмечен ангелами на скорбных листах.
– И мы с тобой не заказаны,– не опечалился Витовт.– Пока живы – порадуемся, а побьют – пусть живые о нас погрустят. Не самим же себя оплакивать!
На шестой день пути войско стало над Наревом и здесь несколько дней отдыхало в ожидании полного сбора хоругвей. Одиннадцатого июня одновременно подошли брестский, пинский, могилевский, дрогичинский, мельницкий полки, потом явились волынцы – кременецкая, луцкая, владимирская, ратненская хоругви, пришел с подолянами Иван Жедевид и с ними вместе отряд молдован; уже последними притянулись киевляне, князь Александр Патрикеевич со своими стародубцами и новгород-северская хоругвь князя Жигимонта Корибута.
После недавних ливней настала жара – леса и земля просушились. Страшась пожаров, палили слабые костры; на верхушке огромной ели постоянно торчал сторож, следя порядок огней. На полянах плотно стояло таборами около тридцати тысяч ратников. Ручьи мелели, когда приводили на водопой тридцать тысяч коней. Хоть считалось, что войско после перехода заслуженно отдыхает, мало кто мог полежать без дела. Во все стороны за десять, двадцать верст рассылались дозоры и засадки. Днем не видавшую боя молодежь собирали в отряды и заставляли сшибаться на полном скаку. Вдруг поднимали в седло то одну, то другую, то разом несколько хоругвей – подъезжали Витовт и Семен Ольгердович, говорили ставиться строем, нестись по рыхлому лугу на воображаемых крестоносцев. Если хоругвь слабо слушалась хорунжего, не умела разворачивать бока, Витовт и князь Семен свирепели, вновь и вновь безжалостно гоняли ратников в «стычку с немцами», пока подклады под доспехами насквозь не пропитывались потом.
Вечерами народ купился возле костров, пелись песни, съезжались и разъезжались знакомые. Благодушие, дружеская расположенность овладели людьми; прощались старые обиды; забывалось, будто и не было, различие веры. И гордые паны как-то вдруг убавили спеси, и худородные земяне почувствовали себя не ниже других. Все, чем разнились, чем кичились, хвастались до похода, все осталось на дворах, потеряло цену перед грозным грядущим. Та избранность, какую испытывали князья в своих уделах, наместники в городах, бояре в своих вотчинах, здесь, среди тысяч и тысяч простых ратных людей, стекшихся со всех сторон Великого княжества в леса над Наревом, развеивалась ночным ржанием тысячных табунов, таяла под лучами солнца, одинаково светившего и подолянам, и мстиславцам, и полещукам, и смолянам, и виленцам, и менчукам, и новгородцам, и простым смердам, и Гедиминовичам, и отвергающим крест татарам. Над всеми равно нависал рок, все шли на одно дело, в одну битву, едиными сплачивались помыслами.
Четырнадцатого июня великий князь выслал в Варшаву гонцов сказать Яношу и Земовиту, что вступает на их земли и движется к слиянию Нарева с Бугом, где будет ждать мазовецкие хоругви. Вновь потянулись унылые переходы: с рассвета до заката в седле, потом вечеря, короткие беседы у костров, вальная кладка на попоны и – с первыми звездами – мучительно сладкие сны: родные места, любимые лица. И тепло, ласка, забота – никогда, может, наяву они не были столь крепки, как в эти ночные мысленные свидания.
Андрей Ильинич часто догонял шедших впереди волковысцев, подолгу рысил рядом с Мишкой и Гнаткой, расспрашивал о Софье. Хоть все, что могли сказать: кланяется, ждет, скучает, просит беречься,– было рассказано в первую встречу, охота еще раз и раз услышать Софьины весточки из уст любимого ею старика и брата не слабела. Как-то решился и на вечернем привале повел отца и четверых своих братьев – все выступали вместе в полоцкой хоругви – знакомить с будущим шурином. По такому приятному случаю взяли с собой флягу вина и пяток колбас. Уселись дружным кругом, выпили за жениха и невесту, за знакомство и дружбу, за скорую свадьбу да за божью защиту. Мишка крикнул паробку принести ответную; позвали Юрия – тоже близкая родня – жених сестры, потом присоединились Егор Верещака, какой-то росевичский свояк, подошел Степка Былич. Знакомство растянулось на часы. Младший Андреев брат Глеб лег на спину: мол, звездочки тянет увидеть – едва ль увидел, тут же заснул. Гнатка сидел то ли в глубокой дреме, то ли в глубоких думах, вдруг оживлялся: «Вы теперь родственники, в бою должны друг друга стеречь!» Мишка не уставал вспоминать, как задрожал, когда великий князь Витовт входил во двор, скромничал: «Примете или назад завернете?» Все смеялись: «Что ж не завернул? Испугался?» «Будь не Андрей женихом, а кто другой, и завернул бы!» – отвечал Мишка. Верещака тосковал: «А мы вот нашего Миколку щипали, а уже ни его, ни невесты, ни Петры!» И Степка расчувствовался: «Ссорились, наезжали – и нет их: ни отца, ни Ольги. Ты прости ему». «И ты мне прости!» – отвечал Мишка.
Юрий думал об Еленке: что она сейчас делает? Тоже, верно, сидят с Софьей, вспоминают его и Андрея, Мишку и Гнатку и представить себе не могут, сколько встретилось здесь людей, сколько костров горит ночью – поболее, чем в том походе к Синей Воде, о котором рассказывал у Кульчихи покойный лирник. Его нет, ее нет, Фотия нет, нестало Ольги, и что с ними, живыми, станет – неведомо никому. Но если он, Юрий, вернется, каждое дело занесет на те пробитые крыжацким мечом листы хроники. Еленка будет помогать, как он раньше помогал Фотию. Вместе весело будет, радостно, и детей приучат видеть духовный свет.
Андрей, привалясь к телеге, глядел в небо; те самые звезды загорались, на какие в дни обрученья радовались вместе с Софьей. Слушая смех, вздохи, шутки родни и приятелей, воображал свадьбу, свадебный поезд в церковь, всех их в своей дружине, одетых не так, как сейчас, в измятые, запыленные, пропотевшие кафтаны, а в нарядные ферязи. Представлял дом, какой срубит для Софьи немедленно после войны; представлял зимний день, вой вьюги, посвист бесов в трубе, Софья за прялкой, он рядом, любуется женой, вдруг стук в ворота, въезжают товарищи, обснеженные, измерзлые, мигом стол – беседа до утра. Мнился ему и летний день: опять кто-то в наведках; идут с бреднем к реке или выезжают на травлю, скачут по травам, свет, солнце, задор – и Софья рядом в седле. Забродился мечтами, не помнил, как уморило сном. Пробудились – день, рога трубят – поднимают хоругви; растерли виски, посмеялись: «Ну, накануне хорошо посидели!» – и отъехали. Мишке и Юрию – Ильиничи, а Ильиничам – Мишка, Гнатка и Юрий пришлись по душе.
Спустя день отправились в полоцкий полк к Ильиничам. Тут в их круг собрались старые товарищи Андреева отца, расчувствовались и, видя внимание молодежи, стали вспоминать свои были. «Эх,– вздыхали,– хлопцы, хлопцы, как быстро время летит, давно ли вас еще на свете не было, а мы такие были, как вы сейчас – удалые, веселые, без седых волос, без сварливых жен, недокрещенные. Потому что человека первый раз поп крестит в святой воде, второй – кровь в святой битве. Ну, конечно, и вы в стычках бывали, но такое, что нами изведано, здесь во всех сорока полках считанные знают.
Опять встретили полночь, слушая воспоминания стариков о всех битвах, где повезло им отличиться и уцелеть, о долгой славе богатырей и короткой их жизни. Ворошит душу давнее, щемит ее неизвестность: а что нам суждено? День перекатывался за днем вслед за солнцем под мерную поступь коней; пройденные версты приближали урочный час; незаметно подошла купальская ночь – с последним лучом солнца кончалось перемирие, начиналась война. Войска двигались глубоко в мазовецких землях, в нескольких переходах от прусских границ. Лазутчики и дозорные полусотни средоточия крыжаков не замечали. Двадцать четвертого числа великий князь выслал гонцов в Торунь, где пребывал фон Юнгинген, известить, что он, Витовт, воевать готов. Такие же гонцы явились к великому магистру от Ягайлы.
Истекал последний мирный вечер; ратники, кто в нетерпении, кто с грустью, провожали закат. Пурпурная его полоса нехотя угасала; солнце долго лежало на далеких лесах, словно томилось и не могло спокойно уснуть. Наконец оно завалилось за край земли и темные завесы ночи скрыли его сияние. Тогда польское рыцарство, протомившееся день в засадах под Торунем, было поднято в седло и помчалось на деревни, окружавшие город. Взвились в синее еще небо снопы огня. В тот же час прусские границы с Литвой перешли по знаку Кезгайлы конные отряды жмудинов, и все веси, местечки и замки на сто пятьдесят верст от Юрберга и Клайпеды обратились в купальские костры, стоившие ордену, как назавтра с горечью подсчитали крыжаки, двенадцать тысяч грошей.
В то же время в Торуньском замке Ульрик фон Юнгинген, прервав ужин с послами короля Сигизмунда, глядел в окно на зарево пожаров. Был взбешен, словно пламенные языки, лизавшие небо, жгли его самого. Дерзко, лихо полыхали огни, с наглым вызовом – вот, мол, не боимся, ответьте, коли сильны. Хотелось немедленно выслать отряды, ударить, бить, топтать подлых поляков. Повернулся к венгерским палатинам Миколаю Гара и Сциборию Сцибожскому:
– Что, бароны, видели, каковы волки? А вы хотите посредничать о мире. Какой мир! Они господа бога не боятся – в день Иоанна Крестителя верные христиане шепчут молитву, а эти не выждали, пошли жечь. У них свой праздник, свои молитвы – Купале рогатому. Язычники! Их могила исправит! Мы! Топор! – И, не вытерпев, разразился совсем грязной, площадной руганью.
– Осмелюсь напомнить тебе, великий магистр,– хладнокровно сказал Сциборий,– что пока мы посредничаем о перемирии.
Ответ прозвучал толково, пригасил душившую злость. Продлить перемирие было совершенно необходимо, в этом Ульрик фон Юнгинген не сомневался. Его хоругви только стягивались, еще ожидалась самая большая, в пятьсот копий, подойдут и около двух тысяч рыцарей-наемников. Ягайла и Витовт по языческой своей привычке коварно темнили, черт знает откуда намечали напасть. Неизвестно: сошлись их хоругви или не будут сходиться, пойдут двумя потоками? Непонятное творилось у крепости Дрезденко: строились там какие-то паромы – гадай зачем. И в Короново стоят полторы тысячи чехов Яна Сокола. Не повернет ли вдруг лисьим приемом на Дзялдово Витовт? Перемирие – не мир, затишье дней на десять, думал Юнгинген, совсем не повредит, даже пользу даст. Пусть все знают, что орден стремится к миру на справедливых условиях чешского короля Вацлава. Упрямые Ягайла и Витовт, конечно, вновь откажутся, и тогда венгерский барон Кристоф фон Герсдорф подаст им письмо короля Сигизмунда с объявлением войны. Это не ничтожные укусы, не деревеньку поджечь; поскребут когтями свои тупые лбы. А замириться надо так: с Ягайлой – да, с Витовтом – нет; вдруг потом захочется попробовать остроту мечей, будет на ком – под рукой враждебная литва и русь. Хотя и пробовать незачем – всех скоро перерубим; пусть знают – не будет мира, не желаем мира!
Назавтра Гара и Сцибожский повезли письмо магистра королю Ягайле, а через два дня королевский гонец сообщил великому князю о десятидневной оттяжке стычек. Прочитав записку Ягайлы, Витовт сказал князю Мстиславскому:
– Дивлюсь, Семен. Бывало, стояли во главе ордена дураки, но подобных Юнгингену не было. Доброй волей дает перейти Вислу. А потом выползет навстречу в белом плаще, как привидение: бойтесь, мол, меня! Старший его братец, покойный Конрад, поумнее был, верно, высосал из матушки все лучшее, а Ульрику недостало.
– Может, силу чувствует?
– Сила-то у них есть,– согласился Витовт,– но выгоды упускает. Уже мог жечь поляков – не жжет; уже мог завтра бы дать бой нам, и нам пришлось бы туго,– не дает; мог бы сломить переправу Ягайлы – не ломит. Ну, да не нам его поучать, у него крест на плаще, ему непорочная дева военные советы дает. Поглядим, что она насоветует.
– Ох, Витовт, не совсем так,– возразил князь Семен.– Наши тысячи ихним неровня. Татары лобовой сшибки не выдержат – пойдут петлять. Наши лучники метко стреляют, да немцев латы спасут. И тяжелые, в железе, крыжацкие кони потеснят наших. Вот он и считает: чем бегать во все стороны, лучше всех вместе побить. И за эти десять дней народцу себе прибавит. Нам крепко стоит подумать, как вести бой.
– Думаешь, погонит? – прищурился Витовт.
– Почему бы и нет?
– Ну что ж, посовещаемся,– решил Витовт.– Время терпит.
В последний день июня войска подходили к Червинскому монастырю. Уже было известно, что поляки навели мост и начали переправу, что первым перешел на правый берег Вислы король, что ему сообщено о приближении хоругвей великого князя и что он выехал встречать. Вскоре он показался в окружении панов и рыцарей. Минута была значительная: завершился месячный поход, два войска соединялись в одно, две силы – в одну мощную. Ягайла и Витовт приняли друг друга в объятия. С обеих сторон раздались торжественные клики и перекатами понеслись от хоругви к хоругви.
По мосту, твердо стоявшему на сотнях челнов, плотно, подвода к подводе, тянулись обозы, шли по трое в ряд конные, шагала пехота. А весь левый берег за пару верст от горла моста пестрел таборами отрядов.
– Красиво, а, Витовт? – с гордостью сказал король.– Ульрика бы сюда. Вот подивился бы, злобный пес!
Глядя на поток войск, на далекое шевеление тысяч и тысяч людей, точно и быстро собравшихся сюда по его приказу, послушных любому его слову, Ягайла чувствовал себя на верху счастья. Как же – все польское рыцарство, все литовское воинство идут посполитым рушением на тевтонцев! Так долго теснимый крестоносцами, его, Ягайлов, орел, украшающий знамя королевства, расправляет крылья, начинает возноситься на видную всем народам высоту. Он готов был видеть в этом особое к нему божье расположение. Разве, думал, не по наущению бога Ульрик сам предложил перемирие, чтобы польские войска смогли без хлопот перейти реку, соединиться с литвинами, с полками Януша и Земовита, собраться в железный кулак, который раздавит гнездо крестоносцев?
Не терпелось выступить к прусским границам, но лишь на третьи сутки закончилось беспрерывное, днем и ночью, движение по мосту конных и обозов. Тогда мост развели и плоты отправили вниз по Висле в Плоцк на хранение. Шли неспешно, приноравливаясь к скорости подвод.
Перемирие истекло. Король и князь Витовт стали посылать на рубежи легкие отряды, которые по ночам жгли прусские деревни, завязывали мелкие схватки и возвращались с добычей. Была воспринята с ликованием удача старосты Януша Бжозоголового, порубившего отряд свеценских крестоносцев. Свеценский комтур Генрих фон Плауэн засел в замке со всеми рыцарями комтурства. Все радовались: пусть сидят, не придут в поле.
В воскресный день, когда войска стояли у реки Вкра, к Ягайле и Витовту вновь прибыли мирные посредники Сигизмунда: Гара, Сцибожский и Кристоф фон Герсдорф. Король и великий князь объяснили, что будут счастливы избежать пролития христианской крови, что им дорог мир с орденом, но при условии отказа крестоносцев от Жмуди, возвращения полякам Добжинской земли и оплаты нанесенного ущерба. Было ясно, что фон Юнгинген эти условия отвергнет и сражение неминуемо. Подчеркивая свой взгляд на переговоры, Ягайла пригласил послов взглянуть на таборы шестидесятитысячного войска. Для полноты впечатления перед холмами, на которые въехали король, великий князь и посланники, прошли крупной рысью, при развернутых знаменах и в полном боевом облачении, сорок полков Великого княжества. Тридцать хоругвей имели на знаменах герб Погоня, десять – герб, под которым водил полки против немцев Гедимин,– белые столпы а красном поле.
Через несколько дней войска подошли к орденским границам. Здесь по древнему обычаю хоругви подняли знамена и, сотворив молитву, вступили в прусские земли. Сорок хоругвей вел Витовт, пятьдесят – король; три хоругви подольцев, имевшие на знамени солнечный лик на белом поле, Витовт считал своими, а под началом короля были полки Львовской, Холмской и Галицкой земель, каждый под своим стягом.
Никто не преграждал дорогу, до самой Дрвенцы не показался на глаза ни один крыжак. Но у бродов на Дрвенце Ягайла испытал неприятную неожиданность. Броды были укреплены частоколом, обставлены бомбардами, таились за ними толпы арбалетчиков, и далеко вглубь стояли прусские клинья. Король собрал совет. О битве при бродах не стоило и помышлять: полки один за другим пошли бы на верную смерть. Поход вниз по реке к следующим бродам ничего не менял: крыжаки тащились бы рядом по другому берегу. Решили, хоть и больно ударяло по самолюбию такое решение, отступить, оторваться от Юнгингена и, покружив, обойти Дрвенцу у истоков. Ночью торопливо снялись со стоянок, вернулись к Линдзбарку, отсюда повернули к Дзялдово и, злясь, спеша, измучивая коней и людей, отшагали за день сорок две версты до деревни Высокая. Тут Ягайлу настигла новая неприятность. После обеда возник у королевского шатра гонец от опостылевших Гары и Сцибора Сцибожского, силезец Фрич фон Рептке. Был замкнут и серьезен. Сразу его замкнутость и объяснилась – вручил письмо Сигизмунда, возвещающее войну. Хоть и знали, что Сигизмунд забряцает мечом ради приязни курфюрстов, хоть и ждали такое послание, но горько было брать его в руки. Ягайла и Витовт глянули дату – двадцать первое июня. Более трех недель Гара возил письмо при себе, разыгрывая старания о мире. Ездили, трепали языками: «мир, мир», а сами сосчитывали войска и докладывали магистру. Ради него и маячили при войсках. Лазутчики, на сук бы их сразу! Только и оставалось излить желчь на гонца:
– Да, не думали мы, что король Сигизмунд ради ордена разорвет узы родства и договоров, забудет о боге. Хочется отхватить наших владений —пусть пробует. Как бы своего не лишился! Разобьем орден, ответим ему по заслугам. Быстро, Фрич, забыл твой король, кто восемь лет назад спас его из темницы, вернул ему утраченную корону. Ты скажи своему королю: мы эту измену запомним.
Но что ничтожный Фрич! Герольд, гонец, пустое место! Сердиться при нем – лишь радовать подлого Сигизмунда.
– Езжай с глаз долой! – сказал Фричу Ягайла. Саднило душу. Воевать не воевать с венграми – дело завтрашнее. Терзало, что крестоносцы сейчас веселятся этой купленной за флорины подмогой. Прошел в походную каплицу, отстоял до онемения ног, шептал, взывал к богу, просил справедливости и успокоился, решив разбурить близлежащий Гильгенбург.
Назавтра войска стали на привал у Домбровского озера. Солнце пекло нещадно. Все хоругви занялись купанием коней и сами не выходили из воды. За озером высились мощные стены и башни Гильгенбургского замка. Было объявлено, что город забит множеством прусских немцев и добром; никому не заказывалось идти за добычей. В седьмом часу, когда стала падать жара, польское рыцарство устремилось на приступ. Ни ядра, ни стрелы, ни копья горожан не смогли сдержать натиска воинов, горевших мщением за разгром крестоносцами Добжинской земли. Храбрецы лезли на стены, разбили ворота, и скоро тысячные толпы шляхты вошли в город. Вслед за ними понеслись пустые подводы. Отчаянное сопротивление немцев мгновенно было затушено мечами. Через два часа из города вывели пленных, вывезли запасы кормов, вещи, и он запылал. Всю ночь играли огненными отблесками озеро и река, и за десяток верст разносился свет зловещего полыхания.
Утром хоругви хоронили погибших, делили добычу, били на мясо выведенные из города стада; король милосердно дал волю всем худородным пленникам, оставив в цепях только рыцарей и орденских братьев. Опять до вечера жарились под солнцем, купались, заменяли больных лошадей, дремали в палатках и под телегами; все было спокойно, немцы не подступали, тревоги никто не трубил.
Пользуясь отдыхом, великий князь собрал князей и наместников, ведших хоругви; пришли и татарские ханы – Джелаледдин и Багардин. Сидели на поляне, очищенной от народа, даже кольцо стражи, охранявшей совет, было удалено, чтобы не слышали, о чем идет речь.
– Через день-два, а может, и завтра,– говорил Витовт,– грянет битва. Могут и нас пробить клиньями, раздвоить, расстроить, взять в клещи. Наши хоругви не умеют, как конники Джелаледдина и Багардина, наступать, вдруг отрываться, вновь нападать. Наши если бьют – так во весь дух, но уж если бегут – то опять во весь дух. Так что, князья и полковые паны, скажите своим полкам: стоять, будто в землю по колени зарыли! Но и все войско уложить трупами нам нельзя. Поэтому, если вас крепко погонят, отходить будете к обозу и уже там держаться намертво! Там шесть тысяч мужиков с цепами и топорами – любую броню перемолотят. И каждый должен знать: кто с поля умчит – прикажу сыскать и повесить!
Замолчал, отрешаясь от мрачных своих мыслей, оглядел соратников, весело засмеялся:
– Что потускнели, вы ж не побежите!
Вновь замолчал, сжал ладонями виски, словно силился вспомнить, что еще хотел сказать им на этом последнем совете, расчувствовался и доверительно, как выношенную мудрость, бережно выговаривая слова, сказал:
– Люди приходят и уходят, боль забывается, поколения десятками пропадают из памяти, но вот такая война, на какой мы воюем, однажды в сто лет бывает, от нее не отдельные наши жизни, а жизни народов зависят. Побьют нас в битве тевтонцы – всех потом перетрут. Ни себя, никого нельзя жалеть. И не жалейте! Сколько ни поляжет ради победы, все не будет дорого!
Предчувствие близкого сражения разливалось и среди войск; грозные объявления вернувшихся в хоругви воевод его усилили; каждый понимал, что означают призывы к стойкости и забвению страха. Но и без того было ясно, что крыжаки не станут дольше терпеть бурения земель и дадут бой. Свежие могилы и близкое, дымящее еще пепелище многих расположили гадать о своей судьбе, молиться богу о защите в бою.
С закатом задул ветер, поползли седые, а следом темные облака, звезды затемнились, ночная мгла загасила луну. Ветер то затихал, то вдруг шквальные его порывы проносились над таборами, раздувая в сердцах тревогу. Небо тяжестью водяных туч прогнулось к земле, черную его корку раскололи молнии, ударил и раскатился гром, хлынул ливень. Никто не спал, в полках шептались: «Все, завтра быть сече. Господь поля омывает перед битвой!»
Дождь прекратился, но буйные ветры рвали воздух до самого рассвета. С первыми лучами солнца трижды пропели трубы и хоругви выступили в поход. Пройдя восемь верст, у Любенского озера стали разворачивать на стоянку обозы, и тут дозорные принесли ожидаемую, подтвердившую ночные предчувствия весть – между деревнями Людвиково и Танненберг, всего в трех верстах, сплошняком стоят немцы.
Ратники заспешили одеваться к бою, полки стали быстро выдвигаться из приозерного мелколесья.
Андрей, шедший в первых рядах полоцкой хоругви, неожиданно увидел летевшего к нему в галоп Росевича. Мишка сблизился, крикнул всем братьям Ильиничам: «Здорово!» – и торопливо, жарко высказал наказ: