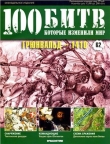Текст книги "Погоня на Грюнвальд"
Автор книги: Константин Тарасов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Многие десятилетия, нет, века, века терпел Орден чудовищные обиды, воистину с ангельской кротостью подставлял левую щеку, когда его с размаху били по правой, хотя сразу, как только император Людовик Баварский, исполняя божье повеление, подарил ордену Литву и Русь, мог сжечь все змеиные гнезда. Радовались бы и целовали ноги братьям Ордена, что им дозволено жить в орденских пределах! Разве не их любимый Миндовг своей королевской властью подарил ордену Жмудь, а потом и все свое королевство? Любому суду – небесному и земному – может предъявить Орден эти дарственные грамоты, и любой суд скажет: да, Литва, Жмудь, Русь, Подлясье уже полтора века законные земли Ордена, его полная собственность. Так сколько же можно противиться божественному предопределению! Да, прав колдун Плауэн: будь у этих чудовищ силы, они и с нами сделали бы то, что сделал презренный Филипп с орденом тамплиеров, снискавших славу в грознейших битвах за гроб господень в святой земле!
Но Тевтонский орден будет стоять века, до последнего часа жизни всего сущего на земле, до второго пришествия, до судного дня, и братья его первыми вступят в рай. Бог среди всех народов счел лучшими немцев, распалял себя думами великий магистр. Именно немцы отмечены яркими знаками его расположения, им поручено нести свет христианской веры! Разве не германцы разрушили языческий Рим? Разве не они, погубив языческих богов, создали «Священную Римскую империю немецкой нации»? Разве не они, жертвуя кровь и жизни, двигались на восток, обращая в цветущие поля лесные дебри, где, подобно медведям, сидели под корягами ободриты и лютичи? По господней воле чешский престол перешел к династии Люксембургов, немцы вдохнули жизнь в города Силезии; благодаря немцам расцвел Краков, вся Малопольша преобразилась, когда в селах и городках зазвучала деловая речь немецкого колониста; узнали божью благодать Ливония и эсты, все морское побережье украсилось городами, которые воздвиг неутомимый немецкий дух. Сотни тысяч покоренных язычников позабыли свои противные богу языки, усвоив тот, на котором говорит с орденом пречистая дева Мария.
А теперь, огорчался Юнгинген, мы дали окрепнуть врагам и вынуждены терпеть их дерзкое буйство. Император Карл IV сам водил рыцарей в крестовые походы против Литвы, его щедрость и подвиги увековечены постройкой Кенигсберга. Но его дети оказались не такими: чешский король Вацлав слабодушен, как мальчик, а венгерский король Сигизмунд по жадности переплюнет всех ростовщиков. Это позорит немецкую кровь!
Вспомнив о Вацлаве, великий магистр велел пригласить к себе казначея.
– Брат Томаш,– спросил он, когда казначей уселся напротив него в кресло у камина,– высланы ли деньги в Прагу?
– Разве король Вацлав их заслужил? – удивился Мерхейм.– Я не знал.
– Таким, как Вацлав, надо платить наперед.
– Никому нельзя платить наперед,– улыбнулся казначей.– Людям свойственна неблагодарность. Вацлав хочет угодить всем. Его слова непредсказуемы.
– Предсказуемы, если обласкаем. Вацлав – посредник в нашем споре с Ягайлой и Витовтом. Необходимо, чтобы он объявил решение в нашу пользу.
– Он и без денег объявит. Ему хочется вернуть имперский трон.
– Мало ли что кому хочется,– засмеялся магистр.– Нашему милому фон Плауэну хочется получить философский камень и пережить всех братьев на тысячу лет. Смешно думать, что господь это разрешит. Зачем немцам император Вацлав? – пожал плечами магистр.– Даже ничтожные чехи при нем подняли хвост. Кто простит ему нелепый Кутногорский эдикт, по которому немцы изгнаны из университета и им приходится покидать Прагу? Не думает же Вацлав, что в германских княжествах это считают заслугой? Но нельзя оставлять Вацлава без внимания. Не поласкаем мы – поласкают другие.
– Разумеется, он может сказать и за Ягайлу,– согласился Мерхейм.– С дурака станется. Тем более что Ягайла когда-то вытащил его из тюрьмы.
– Поостережемся. Надо связать ему руки. Тысяч сто флоринов с него хватит?
– Сто тысяч! – вскричал Мерхейм.
– Ну, а сколько? – усмехнулся Юнгинген.– Две?
– Ну, двадцать,– сказал казначей.– И то с лихвой. Разве нам некуда девать деньги?
– Полно, брат Томаш. Бедные подарки вызывают вражду. А нам нужна признательность. Верное решение Вацлава даст Ордену поддержку папы, а согласие папы позволит призвать для помощи рыцарей со всей Европы.
– Папа не объявит крестовый поход,– возразил Мерхейм..
– Но и не возразит против войны. Этого достаточно.
– Немецкие рыцари придут и без одобрения папы. Франция и Англия воюют, им самим нужны наемники.
– Всем нужны наемники,– перебил магистр,– но придут они к тому, кто лучше платит и за кого церковь.
– Хорошо,– сдался Мерхейм,– сорок тысяч.
– Семьдесят,– сказал великий магистр.
– Мы мечем бисер перед свиньей,– упирался Мерхейм.– Шестьдесят, и ни одним золотым больше.
– Кого отправить с деньгами, брат Томаш? – спросил магистр.– Может быть, Геттингена?
– Я сам отвезу этот рождественский подарок,– решил Мерхейм.– Завтра и выеду.
Оставшись один, великий магистр вернулся к камину. Огонь угасал, следовало подкинуть полено, но магистру не хотелось шевелиться. Он глядел на уголья, уже подернутые сизым пеплом. Он глядел на них завороженно: они темнели, их покидала жизнь, они остывали. После беседы с Мерхеймом великому магистру стало тоскливо: решение принято, дело сделается, это темное дело останется тайным, оно может принести пользу, но не принесет радости. Он грустно думал: нет ничего на свете, что не покрылось бы со временем пеленой забвения. Какой мощи люди создавали орденское братство в пустыне, когда рыцарские колонны шли на Иерусалим! Какая высокая цель освящала их души – освободить гроб Господень! Их кони ступали по песку, жаркому, как кострище, их доспехи раскаляло солнце, а наконечники копий были так горячи, что кровь сарацинов запекалась на них в черную корку. Белый плащ на тех рыцарях соответствовал чистоте их сердец, а черный крест на плащах означал мужественное терпение невзгод и согласие на смерть в любую минуту во имя Христа. Но гроб Господень остался у сарацинов, и рыцарские могилы занесены песком, забыты их палестинские молитвы и песни, отвергнуты благородные обеты их вождей, а в нынешнее время короли готовы на любой грех за туго набитый кошель, не стыдясь уравняться в бесчестье с наемным лжесвидетелем или убийцей. Те давние полки крестоносцев сошли в песок палестинской пустыни, происками завистников подорвана слава лучших рыцарских орденов; может быть, и Немецкому ордену предстоит изведать скорбь своей старости. Но пока мы живы, думал магистр, мы должны исполнять завет первых братьев Ордена, которые услышали благославляющий призыв девы Марии. Каждый, кто выступает против нас, выступает против нее, а это такой грех, который лишает права на христианское милосердие. Ягайла и Витовт желают того, что люди желать не должны: они нацелились лишить смысла труды Ордена за сто пятьдесят лет. Поэтому Вацлав – этот никчемный сын своего прославленного отца, императора Карла,– получит деньги, а Витовта и Ягайлу неминуемо отыщут позор и смерть. Очень жаль, думал магистр, что нельзя миновать крови.
ДВОР РОСЬ. КОЛЯДЫ
Стали браться, трещать за стенами колядные морозы, волки стали выть по ночам, а Мишка лежал пластом и лежал. «Погоди,– говорила Кульчиха,– зато сразу пойдешь». И вправду, однажды проснувшись, Мишка почувствовал, что лавка стала сама по себе, он – сам по себе и может встать. Он сел, переждал кружение и побрел к дверям. Выглянул – пылали, слепили белым светом сугробы, спал в горностаевых шубах лес и от порога, от глухой, чащобной избы, уходила стежка, звала, манила в позабытую веселую, живую жизнь.
– Вот, боярин, и здоров! – сказала шептунья.– Скоро расстанемся. Теперь ты уважь мою просьбу. Как помру, ты меня похорони, где всех хоронят, и в церкви свечку поставь.
– Да я хоть десять поставлю,– возразил Мишка,– только живи. Ты с чего, Кульчиха, вздумала помирать?
– Все помирают!
– Ну, то да! А ты живи. Мне тут хорошо было. Загрущу без тебя.
– Так обещай! – настаивала шептунья.
– Я добра не забываю, исполню, как хочешь. Вот тебе крест!
Но еще неделю, до коляд, прожил Мишка с Кульчихой, только в самый праздник отпустила его домой. Утром прибыл отец, поклонился шептунье и подал завернутые в холстину сорок гривен, которые старуха тотчас, непонятно зачем, ссыпала в пустой горшок. Мишка надел тулуп, оглядел черную избу, где воскрес, потом подошел к Кульчихе, чмокнул в лоб: «Ну, старая, навек твой должник». Уваженная шептунья хихикнула и сказала: «Уговор-то помни, боярин!»
А под вечер того же дня нежданно-негаданно приехал в Рось Андрей Ильинич, когда уже зерном посыпали и накрывали льняной отбеленной скатертью стол, свечи праздничные зажигали, клали по углам сено. Андрей и Мишка еще не натешились первой радостью встречи, как на покутье запарила в горшке кутья и развеселившийся боярин Иван, сам отыскав на небе первую звезду, которая в час его рождения светила, кликнул садиться. Андрея старик и Мишка усадили между собор, а напротив, когда пришли домашние и дворня, оказались Мишкины сестры. «Вот, дочери мои, Елена и Софья!» – гордо назвал старый боярин. Для Андрея Еленка, как только приметил ее немощь, осталась далекой и чужой. А глянул на младшую – сразу стала понятна отцовская гордость: словно ангел небесный присел к столу среди бородатых мужиков и полных баб украсить собой праздник. Боярин Иван пробормотал молитву, и пошла из рук в руки полная чара. Отпробовали кутью, вновь выпили и приступили к печеным и вареным рыбам. Скоро позабылось, ради кого трапезничают, и все внимание свелось на Ильинича.
– Как там князь Витовт? Как Ягайла-король? – спрашивал старый Росевич.
Андрей рассказал про ловы в Беловежской пуще, добавил:
– Жив, здоров король Ягайла – зубра убил, молится подолгу.
– Ну и верно,– похвалил старик,– есть что замаливать. А пойдем ли летом на крыжаков?
– Как бог есть, пойдем! – отвечал Андрей, поглядывая на Софью.
– Что, отец, может, и ты хочешь на битву? – улыбался Мишка.
– А что я, безрукий? – сверкнул глазом старик.– Ты не смотри, что крив. Не за девками бегать. Одним оком еще лучше, чем двумя, вижу. В седле хоть мечом, хоть копьем любого свалю. Кликнут Погоню – мы вмиг на коня. Правда, Гнатка? – Он весело подмигнул молча сидевшему земянину.
Седой Гнатка, здоровенный и молчаливый, как медведь, с готовностью согласился:
– Правда, мы вмиг.
Поев, высыпали на двор глядеть звезды, которыми было сплошь засеяно небо. Стояли, крестились на знамения добра, любовались сиянием небесной скарбницы. Прекрасны были в рождественскую ночь божьи чертоги, ярко светился Возок, в котором сын божий проезжал сейчас над землей, подглядывая, достаточно ли чтит его христианский народ. Сверкала над Возком голубая, самая крупная звезда – серебряный небесный гвоздь, каким прикован был к небу на веки вечные и виделся пятном мрака кровожадный смок. Наглядевшись на далекую, холодную красоту, Андрей стал подсматривать, как Софья счастливо улыбалась мерцавшим в вышине созвездиям. Вдруг девушка чуть повернулась к нему, и боярин встретил быстрый, полный любопытства взгляд – сердце сладостно укололось об острую, подсунутую чертом колючку.
Соглашаясь со старым Росевичем, читавшим по звездам, чего и сколько уродится будущим летом, Андрей теперь не спускал с девушки глаз, но она позабыла о нем, пялилась на небо, словно ждала второго пришествия.
– Ну, намерзлись – погреемся,– сказал старик и зашагал к избе, но сам же первым остановился, услыхав конский галоп, громко разносившийся в тишине морозной ночи. Скоро всадник прискакал под ограду и застучал в ворота.
– Кто стучит? – крикнул Гнатка.
– Я, Юшко! – ответили из-за ворот.– Верещаки наш двор осадили, хотят Миколу убить. Боярин помощи просит!
– Миколу! – зло вскричал старый Росевич.– Яська, меч! Эй, кто стоит —все за мной!
Спокойный двор мигом пришел в движение. Конюхи выводили из стайни лошадей, тащили седла. Боярин Иван опоясывался мечом. Ильинич тоже побежал в избу за мечом и надел под кожух кольчугу.
Жена старика Марфа, размахивая руками, грозно, но тщетно выкрикивала мужу:
– Куда, старый дурень, летишь? Вон, только одного от Кульчихи привезли. Мало тебе Волка. Сам смерти ищешь, так людей пожалей!
– Прочь, баба! – кричал старик.– В дом, к девкам! Чтобы тихо, пока не побил.
Через пять минут ворота распахнулись; Росевич, Гнатка, Андрей впереди, вооруженная топорами и сулицами челядь за ними вырвались со двора. По дороге Ильиничу объяснили, что Миколка Верещака – крестник Росевича, а берут его в осаду старшие братья – Егор и Петра, люди вовсе не плохие, даже хорошие, но не способные долго жить без какого-нибудь опасного буйства. А вот почему осаживают родного брата, почему в колядную ночь, когда надо сидеть в избе и мед пить, ни Гнатка, ни боярин Иван не догадывались. Но уж коли выпили, а не иначе что выпили, то способны натворить непоправимых бед.
Через полчаса прискакали к Миколкиному двору. Тут шла настоящая осада – паробки старших братьев бревном разбивали ворота; во дворе заходились от бешеного лая псы. Несколько всадников, выставив копья, заградили собой дорогу. Последовал вопрос:
– Кто скачет?
– Я скачу! – крикнул старый боярин.– Росевич! Что тут у вас за война?
– Мы с тобой не воюем,– ответил тот же голос.– Возвращайтесь.
– Ты что, Петра, спятил? – зло сказал старик, подъезжая вплотную к копьям.– Что ломитесь к брату, словно тати?
– Что ломимся? А вот крестник твой в латинскую веру идет!
Боярин Иван, раздумчиво помолчав, крикнул:
– Отступите от ворот, сам спрошу!
– Спроси! – ответил Петра. Старик и Гнатка проехали к воротам.
– Микола! – позвал старик.
Из-за ограды звонко отозвался молодой голос.
– Ты что, веру сменил?
– Женюсь на Видимунтовой дочке! – объяснил Микола.
– А бога не боишься?
– Пусть бог судит, не братья.
Росевич и Гнатка отошли от ворот в растерянности. Люди братьев опять взялись за бревно. Старик уставился на Андрея с немым вопросом: что делать?
– Убьют – князь Витовт головы срубит,– сказал Ильинич.– Он не стерпит.
Боярин Иван подумал и крикнул братьям:
– Эй, Егор, Петра! Буду Миколу защищать! Гнатка, стань у ворот!
Богатырь и половина челяди шагом тронулись вперед.
– Ты что, боярин Иван, с нами биться хочешь? – грызливо спросил Егор Верещака.– Не послушаетесь – буду!
Биться с Росевичем братьям было не с руки: тут же в спину ударил бы Микола со своими паробками. Братья выругались и призвали своих на коней.
– Микола! – закричал Егор.– Сегодня спасся, завтра помрешь! Молись немецкому богу!
– Хорошо, Егор,– отозвался младший брат,– помолюсь!
Осада развернула коней и ускакала в темень недалекого леса. Над частоколом высунулся по пояс, видимо стал на седло, широкоплечий молодец и, сняв шлем, поклонился:
– Спасибо, боярин Иван!
– Шел бы к черту! – выкрикнул старый боярин.– Знать тебя не хочу!
На том поездка и завершилась, помчали домой. Была глубокая ночь, но спать никто не спешил, обсуждали войну между Верещаками.
Мать говорила:
– Известные пустодомки! Как понапьются, одно в голове – биться. Брата родного готовы зарубить. Как хороший родится человек, так быстро со света сходит, а этих волков никакая холера не берет. Ну скажите, все люди в хатах сидят, только этих волочуг черти гонят кровь проливать в святой праздник.
Старик велел принести крепкого меда, сели к столу, однако Еленку и Софью, к сильному сожалению Андрея, отец к беседе не допустил: «Идите, не девичье дело полуночничать!» Мишка стал допытывать подробности похода.
– Ну, а если бы Егор и Петра не ушли – побил бы?
– А ты что думал! – хорохорился старик.– Но будь я на их месте, ни за что бы не ушел. Лег бы там, но остался.
– Ну и зачем? – рассудительно сказал Гнатка.
– А просто так. Чтобы сердце не пекло. Да и правы. Каково отцу на том свете? Ты у меня гляди,– старик свирепо засверлил Мишку оком,– не учуди. Сразу убью. Никакая Кульчиха не поднимет. Пополам развалю.
– Наплевали бы Егор и Петра на Миколкину веру,– сказал Мишка.– Видимунт за Данутой Ключи отдает, лучшие в повете земли. Вот им и завидно. А что вера, чем он виноват? Так объявлено: кто на бабе-латинянке женится – давай в латинство. Забычишься – кнутом спину пропашут. Мало ль такого? Раньше так не было, из-за веры не сердились.
– Много ты знаешь, как было! – дернулся боярин Иван.– По-разному было. Всем доставалось – и нашим, и тем. Вон Ольгерд четырнадцать монахов латинских повесил, что пришли в Вильно немецкую веру внушать. Гроздью висели на дубе в черных своих рясах, как шишки на ели. И за грецкую веру казнил. В Свято-Троицкой церкви святые Антоний, Иван и Евстафий лежат. Кто их на дуб вздернул?
– Ну, то своих,– ответил Мишка.– В латинской вере и не было никого. Сами Ольгердовичи в греческую веру крестились, даже Витовт в церкви крест принимал, даже Ягайла в нашу веру крестился. А уж как ушел к полякам – вспять пошло.
– Наша вера древняя, нас бог защитит, если,– старый боярин подозрительно вгляделся в сына,– сами не побежите, как Миколка Верещака за клок земли. Ягайла! А кто такой Ягайла? Князь Витовт есть!
– Но и князь вроде бы в один день с Ягайлой от православной веры отрекся,– осторожно напомнил Андрей.
– Князь знает, что делает! – заявил старик.– Вы погодите, вот побьем крыжаков, он все изменит. Дайте срок, он виленскую ту грамоту в огне сожжет. Мало осталось ждать.
– А что за грамота? – удивился Мишка.
– Ха, главное тебе не известно, а берешься судить! – воскликнул старик.– По которой католикам – ласки, православным – слезки. Это когда Ягайла литву крестил, написали. Вы не знаете, а я своими глазами – оба были целы – видел. Вот и Гнатка подтвердит, рядом стояли. (Гнатка по-медвежьи кивнул.) Посгоняли виленскую литву, толпами поставили – мужиков отдельно, баб отдельно. Попы польские речной водой из Вилии: кроп! кроп! На толпу крестом поведут – готовы, христиане,– и всей толпе одно имя: Ян, Петр, Стась. И каждому по белой рубахе. Были ловкачи – тремя рубахами обзавелись, трижды в день крестились. И боярам литовским вольности: вотчины в полное владение, даже баба может наследовать или вдовой жить; никаких повинностей, только Погоня да на православных бабах нельзя жениться. Нашим – шиш в нос, мы – схизматики, чумные, наравне стали с татарами...
– Но кто с этим согласился? – выспрашивал Мишка.
– Свои, свои князья согласились и одобрили,– с горечью отвечал старый боярин.– Князь киевский Владимир, князь новгород-северский Дмитрий, Константин Скиргайла. Все в Вильно были, попрание родной веры благословили, заручили своими печатями, слова против не выронил никто. Изменники! – горячился старик.—Только и думают усидеть на больших уделах. Разве это князья? Подгузье!
Наговорившись, решили ложиться. Гнатка Ильиничу и себе набросал на полу ворох тулупов. Задули свечу. Но не спалось. Зевали, вздыхали, думали – успокоятся ли старшие Верещаки или пожгут младшего, пока с Данутой не обвенчан. Потом старик завспоминал победную битву с князем Дмитрием Корибутом возле Лиды и ночную осаду Новогрудского замка, когда лезли на стены, рубились в темноте и он сам из рук князя Дмитрия выбил меч. Потом стал рассказывать, как Скиргайла в Киеве ополоумел: надумал в Рим ехать, креститься в римскую веру, греческая, мол, неправильная, а монахи киевские рассердились, и митрополитский наместник Фома ему отравы подсыпал в кубок. Князь Витовт того монаха велел сыскать и, когда сыскали, зарядил им бомбарду и выстрелил в Днепр. Злой молве, будто Витовт сам Фому и уговорил извести Скиргайлу, а потом следы заметал, верить не надо: клевета; кто так говорит, тому сразу надо кулаком в нос, чтобы не грязнил великого князя. Под конец старик стал скорбеть, что православным церквам деревни не приписывают, иной поп хуже оборвыша, смотреть на него стыдно, а латинским – прямо-таки насильно дают. Но дайте срок, скоро, скоро все переменится...
Под тихие речи удрученного старика Андрей и уснул. Разбудил его Мишка – тряс за плечо, приговаривал: «Разоспался, уже полдень, вставай, в церковь поедем». Наскоро поели и выбрались тремя санями: Мишка с Андреем, родители с Софьей, а на задних – Гнатка и Еленка. Андрей, лишь вышли на волковыскую дорогу, встал в полный рост: нашла вдруг озорная лихость, удальство и хотелось оглядываться на Софью, видеть, как светятся под собольей шапкой синие большие глаза. Кружил пугой, свистел, тройка мчалась по белым снегам, воронье, озлобленно каркая, срывалось с дороги, колокольчики раззвонились. «Эх, догоняй!» – кричал Софьиной тройке. Боярин Иван взволновался быстрой ездой, сам хотел гнать, да, увидав мольбу в глазах дочери, поручил лейцы ей.
Ильинич глянул через плечо: Софья стоит, щеки румяные, хохочет, думает обогнать. Чуть придержал коней, чтобы приблизилась, и уж так, перекрикиваясь, перемигиваясь, переглядываясь через конские гривы, домчались до Волковыска.
Ворота в город были распахнуты; над хатами столбились дымы; народ толокся по улицам; на рынке полно стояло саней: со всех сторон съехались люди и шли помолиться – православные в свою Пречистенскую церковь на замчище, католики в свой Миколаевский костел у замкового холма.
И Росевичи, поручив паробку глядеть сани, побрели по крутой наскольженной дороге на замковый двор. Большой город Волковыск, а церковь одна. Своим сходить на молитву в будний день – вроде и не тесно, но как большой праздник, как соберутся все люди повета с женами и домочадцами – давка, плечом пробивайся к святым образам. Гнатка поднял Еленку и пошел впереди, как тараса. Чувствуя медвежью поступь, никто и не ругался, только пыхтели зло вслед. Вбились в церковь, а там народ впритирку стоит, плинфа в стене лежит свободнее. Надышали – пар, туман, свечи гаснут. Андрея к Софье придавили сзади будто валуном. Рука не шевелилась крест сотворить. Да оно и лучше, что не крестился, ложный бы вышел крест: так прижали, что ферязь не упасла – чувствовал Софьино тело, словно в сорочке пришел; забылся, зачем в церковь ходят, аж дух заняло от грешных мыслей. «Ну и моление»,– думал. Седой батюшка нараспев читал по-старинному святые слова. Вникать бы, проясниться душой, но слова, как по ветру, проносились мимо ушей, а до иконы взгляд не доходил, задерживался на русых завитках, выбившихся из-под собольей шапки. Так более получаса простояли, пока Мишке дурно не сделалось от духоты. Тогда Гнатка, глядя поверх голов, разгребая народ рукой (второй Еленку держал), вывел их на двор. У Андрея ноги дрожали, словно с волотом поборолся...
Стали выбираться с замчища, и у самых ворот встретились им два рослых, крепких, свирепого вида боярина (Мишка успел шепнуть: «Гляди, Верещаки. Тот – Егор, тот – Петра»). Братья шли важно, с ленцой, придерживали руками мечи в дорогих ножнах.
– С праздником, боярин Иван! – поклонились старому Росевичу.– Здорово, Мишка!
– Здорово, здорово! – ответили Росевичи.– Как спалось?
– Сладко бы спалось,– сказал Петра,– если бы ты в полуночь не прилетел.
– Эх, Верещаки,– вздохнул старый Росевич,– головы свои вы не бережете.
– А что ж ты, боярин Иван, не познакомишь? – без обиды на старика спросил вдруг Егор, с любопытством посматривая на Ильинича.– Все ж мы какие-никакие соседи. Не в зятья ли твои метит? Старика вопрос удивил, но, не желая, верно, объясняться с Верещаками, он сказал неопределенно:
– Может, и в зятья...– и добавил: – Хоругви великого князя сотник Ильинич.
Софью же, заметил Андрей, этим разговором они словно в вишневый сироп окунули. Но чувствовал, что и у самого щеки горят.
– Не ты ли тот самый боярин, что Швидригайлу пленил? – спросил Егор.
– Я,– не без гордости ответил Ильинич.– Вот с Мишкой и брали.
– Ну и чего ради старались?
Все Росевичи и Андрей остолбенели. Если бы спрашивал злобно, то ясно было бы, как отвечать, а то спрашивал так простодушно, по-свойски, что с кулаками на него не полезешь.
– Надо было! – отрезал Андрей.– А что?
– Единственный все же из князей за наших был. Обидно!
Андрея покривило.
– «За наших»! Скажи-ка ему, Мишка, кто Швидригайле «наши»! – И, не дожидаясь Мишкиных речей, выпалил в лицо Верещаке: – Не пленили бы, он уже, может, всех вас тут посек крыжацкими мечами.
Егор собрался возразить, но Петра потянул брата за рукав, перебил:
– Пойдем, брат, помолимся, а то не успеем! – И старому Росевичу на расставание: – Завидный у тебя, боярин Иван, зять. Будет свадьба, нас с Егоркой позови.
– Позову,– ответил старик,– если до того часа голов не лишитесь.
– Не лишимся! – заверили братья.
– Ну, дай вам бог!
Верещаки потянулись в церковь, Росевичи – к саням, и старый боярин, прискальзывая на дороге, пыхтел в лад каким-то своим думам: «Разбойники!» или «Ишь, сороки!». О братьях больше не вспомнили, словно не встречали их и не слышали. «А что, может, судьбу накаркали? – весело думал Андрей, косясь на пунцовую Софью.– Почему не жениться? Девка – красавица. Прямо ангел. Вон как рдеет. И род достойный. И приданого не пожалеют».
Волнующие эти мысли оборвал дружественный удар в плечо и обвал радостных криков:
– Андрей, Мишка, здорово! Что, ослепли? Семку не узнаете?
Глянули – Семка Суботка, вместе в августе под Кенигсберг ходили.
– Ну, как? Что? Где? – сыпал вопросами сильно хмельной Семка.– Пошли к нам, отпразднуем встречу. Вон мой двор, сто шагов!
– В другой раз,– отказался Мишка.– Помяли меня в церкви, едва дышу.
– Ну, так завтра, послезавтра? А то обижусь!
Меж тем боярин Иван с женой, Софья, Гнатка и Еленка дошли до своих саней. Старик глядел на младшую дочь, глядел и, развеселясь, бухнул:
– Что горишь? Замуж захотелось, а?
– Ах, тата, всегда вы! – растерялась девушка.
– Что тата? Что тата – слепой? – улыбался старик.– Слепому видно. Ну, Гнатка, скажи.
Богатырь пробурчал невразумительно и засмеялся.
– Ах, тата! – обиженно сказала Софья.– Выдумаете – стыд слушать.
– Ты у меня гляди! – погрозил дочке старик.– Быстро запру в камору.
По дороге в Рось Андрей как бы из пустого любопытства спросил приятеля:
– Мишка, а что вы Софью замуж не отдаете? Или не женихается никто?
– Женихами хоть пруд пруди,– ухватывая Андреев интерес, ответил Мишка.– Только куда ж ей замуж на пятнадцатом году? Молода!
– Что ж ей, до тридцати с вами сидеть? – усмехнулся Андрей.
– Пусть сидит. Что ей, плохо? Отец на икону меньше молится! – И спросил: – А что, у тебя жених на примете есть?
– Да нет,– смутился Андрей.– Похож я разве на свата?
По приезде, когда все легли отдыхать, Мишка передал отцу свой разговор с Ильиничем.
– Ей-богу, быть свадьбе,– сказал старик.– На нашей прямо шкура горит. Готова хоть завтра. Уж я эти взгляды-перегляды хорошо понимаю.
– А что дадим за Софкой, если посватается? – осторожно узнал Мишка.
– Залужки дадим! – решил боярин Иван. Мишка ахнул:
– А мне что?
– Не скупись! – шикнул на него отец.– Выслужишь. Сам к Витовту поеду, большее получишь по старой дружбе и памяти.
И установилось в Роси необычное настроение. Ничего вроде не произошло, ничего толком не было спрошено и не было сказано, а охватил всех зуд ожидания, внимательны все стали к словам, особого значения исполнились речи. Хоть и понимали, что серьезное дело вот так, с одного приезда, не делается, что Ильинич Софьину руку не сам попросит, а должен прислать почетных сватов, и неизвестно, попросит ли еще,– так было все зыбко, неясно, нетвердо,– все равно и старики, и Мишка, и Гнатка, и больше других Софья уверялись, что Ильинич не случайный заезжий гость, а что приехал он на смотрины. Одна Еленка мучительно тосковала и, отговариваясь усталостью, ложилась лежать и беззвучно плакала о своей ненужности никому. Мать да Мишка, жалея бедную, старались ее обласкать и развлечь. Но их жалость лишь усиливала печаль Еленки. «Никому не дорога,– думала она в печальном мучении.– Хоть бы Юрий приехал поговорить. Обещал молиться за меня, а сам и не кажется».
– Мамочка! – отчаянно зашептала она матери.– Вы свезите меня в церковь, только не в нашу, а к иконе чудотворной. Я хочу поцеловать и помолиться.
– Свозим, деточка! – шепотом отвечала мать. После вечери, на которой Софья сидела не поднимая глаз, старый боярин глянул строго на дочь – и как выдуло ее из покоя. Вместо прелестной Софьи сел к столу старец с лирой, тянул древние песни, потом хором горланили до глубокой ночи, но Андрей удовольствия от пения не испытал. Спал плохо, снилось такое непотребное, что утром, открыв глаза, подивился, как жив, как господь стерпел эти сны. После завтрака поехали кататься, опять на трех санях. Кружили по дорогам, будили звоном троек лес и словно случайно оказались в Залужках. Тут были две большие деревни, дворов по десять. И опять же, словно по случаю, Мишка обронил, что Залужки эти – Софьины.
К обеду появились в Роси гости: прикатил из Волковыска Мишкин крестный, боярин Волкович, и при нем все семейство – три сына, две дочки и толстая боярыня. Девки были остроносые, неровня Софье и Еленке, и старый Росевич, втайне гордясь и радуясь, посадил дочерей меж них. Запалили лучины, принесли пиво, потекла беседа. Волкович был волковыским возным, ведал все тяжбы и сейчас рассказывал, что Микола Верещака нажаловался на братьев тиуну. Стали гадать: будет не будет резня?
Мишка лежал в постели, подзуживал волковичских девок: «Олька, спой раненому песню на ушко» или «Настя, у тебя рука легкая, погои мою рану». Толстая боярыня, притулившись к печке, дремала, попыхивала уголком рта на смех девкам. А трое братьев, расстегнув кафтаны для похвальбы узорчатыми рубахами, пялились на Еленку и Софью. Двое младших важничали тихо, против них Андрей ничего не имел, а вот старший был и красив, и глядел на Софью влюбленно, и оказался смел – пересел вроде бы к сестрам, потом сестер раздвинул – мол, загадки буду загадывать, вам лучше услышится, коли я не сбоку, а в середине буду сидеть,– и уже он обок Софьи, притирается, развлекает. Прислушивался. «Маленькое, кругленькое, до неба добросишь?» Девки недоумевали. «Глаз! – смеялся парень.– Без дорожек и без ножек, а бежит, как только может?» «Знаем! – весело закричали девки.– Эхо!» «Летит конь заморский, ржет по-унгорски, кто его убьет, свою кровь прольет?» Девки переглядывались, думали, терли лбы. «Нет, Василек, не знаем!» Парень торжествовал: «Эх, вы, яснее ж ясного – комар!»
«Сам ты комар! – со злостью думал Андрей.– Прилетел к девкам! Жужжишь! Загадать бы тебе кулаком: «Красная, а не малина, течет, а не водица?» Но до таких мер, понимал, никак не могло дойти. Хотелось к девкам, потеснить Василька, сесть возле Софьи и рассказывать что-нибудь, чтоб заслушалась. Да хоть про Мальборк – как там крыжаки пируют, или как в Троках немец играет на клавикордах великой княгине, или как татары женятся. Скамья кололась, прижигала сидеть со стариками, уныло болтать, и не мог уйти, потому что возный и боярин Иван не отпускали; заведя речь о войне, не иссякали догадками; чем больше говорили, тем живей становились, будто зависело от их споров самое важное дело будущего похода; скоро совсем позабыли, что есть в покое живые люди, которым не до войны. «Придет война – повоюем,– думал Ильинич,– а что проку языком-то молоть. Потолковать бы дали хоть чуток с Софьей». Не дали. Победили всех врагов, отсидели до крайней зевоты, пока боярыня не проснулась и не сказала: «Ну, пора и ложиться». Ушла вместе с девками в другой покой.