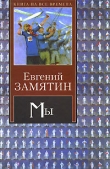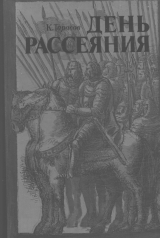
Текст книги "День рассеяния"
Автор книги: Константин Тарасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Князь скрипел зубами и матерился. «Сволочи! Сволочи! – твердил себе в яростном озверении.– Живьем хотели сжечь! Скот! Отблагодарил за кречетов и коней, за горностаев и золотые подковы! Сам же грамоту безопасности заручил, люксембургская гнида! Не по-вашему, так в огонь! Нравятся вам костры, ублюдки немецкие. Ну, погодите, получите летом сполна, припомнится этот костер!»
Отскакав три версты, заметили с пригорка погоню, однако небольшую. Князь решил погоню вырубить и приказал стать гуфом. Быстро выстроились. Все были свирепы, каждый что-нибудь утратил в огне: кто коня, кто телеги, кто одежду, кто лишился дорогого оружия, кто вообще остался только с тем, что имел на себе. Жаждали отмщения, зло сжимали мечи.
Скоро погоня приблизилась; оказалось, к общему разочарованию, что это король Сигизмунд с двором. Князь Витовт выдвинулся перед строем. «Здесь-то ты меня нагнал,– думал князь, с гадливостью наблюдая прыгающего в седле короля.– А в городе не мог? В окно, дрянь, глядел на огонь, думал – сгорю. Мириться мчишь, загладить промашку. Ну, давай, кланяйся. Хоть маленькая, все же радость!»
– О, дорогой брат! – издали закричал король.– Я в потрясении! Ужасное происшествие. Какое счастье, что вы не пострадали.
– Господь защитил! – мрачно ответил Витовт.
– Как только мне сказали о пожаре,– не смущался Сигизмунд,– я тут же вскочил на коня. Молю бога, чтобы вы не затаили обиды. Пожары – бич наших городов. Какое горе для меня, что ваш приезд отмечен столь печальным событием.
Это бурное излияние слов, продолжавшееся довольно долго, завершилось никчемным жестом.
– Мой дорогой брат! – воскликнул король.– Не терзайте вашего искреннего друга хмуростью сердца. Протяните мне свою руку в знак того, что на наши добрые отношения не ляжет тень случайного пожара,– и, сняв перчатку, Сигизмунд протянул Витовту руку.
Князь подал свою. На том и расстались. Сигизмунд возвращался в Кежмарк, кляня крестоносцев, которые бесполезно обратили в угли полгорода. Витовт скакал к границе, кляня подлость и бесстыдство Сигизмунда. Бояре же и шляхта, подсчитывая убытки, срывали злость на лошадях.
В Мушине переночевали, сменили коней и к обеду следующего дня примчались в Новый Сонч, где с нетерпением ожидал великого князя король Ягайла.
БРЕСТ.
ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ ПО ПАСХЕ
На Люблинской дороге, там, где в декабре великий князь поджидал короля, встречала Витовта княгиня Анна. Был солнечный апрельский день; в топях, надрываясь, трещали жабы; чернолесье обтягивалось листом, и казалось, что
гаи и березовые дубравы окурены зеленым дымом. Боком сидя в седле, княгиня рысила впереди толпы съехавшихся в Брест князей и панов. Она узнала мужа издалека, взволновалась, ударила лошадь и понеслась навстречу. Князь радостно засмеялся, подскакал вплотную, вскочил на стременах и расцеловал в глаза, нашептывая: «Соскучился, Анна! Рад тебе!» Так же порывисто, будто забыл, оторвался, чтобы здороваться со встречавшей знатью. Оглядывал знакомые лица, весело кричал: «Здорово, Сигизмунд!», «Здорово, князь Роман!», «Здорово, Гаштольд!» Все собрались, все, кто был сейчас нужен, только самые дальние не приехали. Вертелся в седле па четыре стороны: кому подавал руку, кому кивал, кого весело спрашивал: «Ну что, без меня с крыжаками не воевали? А меня чуть не сожгли в Кежмарке, как ведьму, так их и так!» Среди шумной суеты, смеха, приветствий, криков Витовт с княгиней протиснулись сквозь строй раздвигающихся князей – и поскакали в город.
Солнце било в глаза, гудела под копытами дорога. Анна наблюдала за мужем, и по тому, как раздувал ноздри, как жадно втягивал грудью свежесть воздуха, напитанного запахами земли, чувствовала в нем давнишние жгучее нетерпение дела, отъявленную, запомнившуюся со времен борьбы с Ягайлой решимость. Если ставил цель, то рвался к ней упорно, весело, удальски. Любила в муже этот веселый порыв, радость риска, страстное упоение минутой. Знала наизусть все его привычки и настроения, видела, что сейчас он рад этому свиданию на дороге, отряду соратников за спиной, рад войне, которой долго избегал, и близкой уже минуте, когда скажет: «Настал святой час!» – и кликнет на-конь все боярство Великого княжества. И двинутся десятки тысяч рыцарей. II сам прыгнет в седло, и в тот зке миг забудет о ней на месяц, два, три, пока не сделает дело, а тогда память подскажет, он опомнится и будет, изматывая, меняя коней, гнать днем и ночью, чтобы хоть на час приблизить встречу. Но любила и отрешенные его состояния, когда он застывал в кресле или седле, обдумывая что-то тайное, чем не делился; ледяной его взгляд словно буравил время, прозревая будущее, и он был недоступен, мрачен, жуток, как дьявол. Улыбаясь, следила за мужем, за его простодушной радостью яркому солнцу, погнавшему в рост траву и листья, пробудившему птиц, которые носили над дорогой веточки для новых гнезд. Неожиданно князь взглянул на нее и, сияя глазами, выкрикнул: «Хорошо, Анна! Все равно как раньше!» Настроение лихой молодости,
владевшее мужем, сразу передалось ей. Вдруг словно провалилась на двадцать, на тридцать лет назад, в молодые годы, когда уходили в изгнание, возвращались, опять уходили, скакали в ночной темноте, скитались по дворам, прятались в лесах, засыпали, приникнув друг к другу, под жаркий шепот: «С тобой хоть в ад, на любые муки!» Сколько было любви! Кровь бесилась, ночи вспыхивали, сгорали, как знички, а весь день – сладкая жуть в душе, жадное ожидание, сердце отсчитывало часы, искала его взгляд, и вдруг глянет – обжигало всю, как огнем. Даже в медовый месяц, даже когда Софья родилась, а потом Юрочка и Иванка родились, не было так хорошо. Вроде и не жалелось нежных слов, и вместе радовались детям, но как-то все делалось спокойно – были чувства, не было трепета: приходил, смеялся, уезжал, приезжал, рассказывал, но всегда со скучинкой, всегда тепло, без огня; о Ягайле волновался больше, чем о ней, и ревновала, мучилась обидой, что тому отдает больше чувств, больше памяти, времени, души. II только в Крево, когда ждал петлю, когда обреченный, обманутый, разбитый просеивал в ночных бдениях свою жизнь, свои дружбы и привязанности, только там, в каменной темнице, перед лицом близкой смерти открыл, что имеет одного друга, преданного, верного по гроб, готового идти рядом в огонь, в пекло, под стрелы – ее, Анну. О, счастливая ночь побега! Топот коней, звезды, синий волшебный свет. И он рядом, стремя в стремя,– торжествующий, любимый, благодарный, завоеванный напрочно, намертво, навсегда. И перемешанная счастьем и ужасом ночь в Риттерсвердере, когда Ягайла сломился и уступил власть на Литве. Долгая, бессонная ночь на Купалу. Сидели рядышком у окна, чувствовала, как он терзался; вдруг вскакивал, опять садился, вдруг вымчался нз покоя и примчался, принес кольчугу – «Надень!». Мучался, что не смог вытребовать из Кенигсберга детей. Всех своих заложников собрал в Риттерсвердер – князей Ивана Гольшанского, Юрия Вельского, Глеба Святославовича, многих бояр, но самых ценных немцы не отпускали: оставался в Мальборке брат Сигизмунд и в Кенигсбергском замке сидели взаперти Юрочка и Иванка. Обнявшись плакали, молились за них – и знали: иначе нельзя, придется рисковать; убеждали друг друга, что все обойдется, что немцы не посмеют казнить детей. Витовт шептал: «Выкуплю, обменяю на пленных, обменяю на Жмудь». Вдруг откидывался к стене, искажался страхом: «Нет, не могу, достану, добуду их – тогда!» Прижималась лицом к мокрой его щеке, слеза попадала на губы, говорила то, что жаждал услышать: «Надо, надо, Витовт. Крепись. Вернем мальчиков, заплатишь землей, отдадут!» Вдруг слезы пересыхали, хватал за плечи, клялся: «Верь, сяду на трон, верну, им будет власть, им княжество!» Забывались в счастливых мечтах, радовались завтрашним переменам, концу своих мытарств, мук, борьбы за корону, смеялись; вдруг бешено осыпал поцелуями, вдруг, о ней забыв, улыбался своей победе или нетерпеливо глядел в окно – меркнут ли звезды? Потом стало светать. «Помолимся!» – сказал Витовт. Коротко помолились. Расцеловала его, он достал меч и с голым мечом вышел во двор. Несколько минут было тихо, и внезапно – ярые крики наших, звон мечей, унылые крики крыжаков. Когда солнце выплыло из-за лесов, деревянный замок пылал, а они скакали брать Гродно. А потом август в Острове – она, он, Ягайла, Ядвига, Скиргайла, затаенная ненависть, затаенная радость, ложь слов, грамоты, присяги, пиры – и Вильня, костел святого Станислава, золотые ризы епископа Андрея, корона в его руках, недовольное лицо Ядвиги, деланные улыбки Ягайлы, тысячи бояр – и они с Витовтом перед алтарем венчаются на княжение; ладан, блеск камней, золото коснулось волос, громкий стук в сердце, жар, темень в глазах – дошли! домоглись! свершилось! Скосила глаза – Витовт в короне, бледен, губы сжаты, глаза горят. Подумала: «Вот, Юрочка так же будет венчаться!» – и сглазила. Нельзя было так думать, надо было в тот час печалиться за детей, не гневать бога радостью власти, он защитил бы младенцев, остановил свирепую немецкую руку. А тут восторги, пиры, славословия, заворот ума, убежденность, что немцы начнут торговаться, что примеривают, сколько взять за Сигизмунда, сколько за мальчиков; а время бежит, они живы, уверенность крепнет, полное довольство – да, правильно решили; что ж немцы – звери? что ж они – глупцы? – не понимают выгод. И вдруг – гонец ползет на коленях, слезы по бороде, рвет кафтан: «Княгиня, ты – сирота, детей твоих в Кенигсберге крыжаки отравили».
Мгновение назад скакала с пылающим лицом, крепко сжимала повод, забылась счастьем, не чувствовала дороги, коня, седла, как тогда, в дни борьбы, в свои двадцать пять лет, а увиделись глаза деток – и словно валун могильный лег на плечи, смял, сдавил, сломил, выжал слезы, вырвал всхлипы – и горечь, мука, не хочется жить.
– Ты что? – удивился князь.
– Детки наши вспомнились, Витовт,
Он промолчал, но, будто ударившись, осел в седле, сгорбился, сник, стускнел, уткнулся взглядом в песок дороги, бессильный и беспомощный перед этой бедой. Год за годом пролетали с того дня, два десятка лет протекло, но не было облегчения. Княгиня поглядывала на мужа, жалела его, жалела себя. Господи, думала, печальные наши судьбы. Намучились, настрадались, сожглись силы, бог не дал новых и не дал еще деток, пресек род. Знала, что князь терзается этим страшно. Часто забывал, часто не давал памяти воли, глушил боль делами, разъездами, суетой встреч; убеждал ее и себя: надо жить, терпеть, и мы не вечны, и мы уйдем к ним, а здесь надо исполнить свое, ведь ими оплачено, и хватит слез, все, конец, ни слова о детях, иначе нам ад, жизнь хуже ада, и вдруг посреди почи пробуждался, мертво глядел в пустоту, видя их. Надолго цепенел душой, лежал разбитый, опустошенный, в глухом безразличии к любым заботам, тоскливо говорил: «Зачем, ради кого стараться, Анна? В могилу же власть не унесу. Кто-то сменит, придет на готовое, может, тот, кого ненавижу. Или дурак. Вообще чужой. Были бы они. Для чужих – охоты нет!» И месяцы – в кручине, скуке, тоске. Потом взрывался – отмщу, высеку, рассею. Но не мог отмстить, не было силы, и много было врагов. Притворялся, что верит неуклюжему объяснению – заболели и отошли по божьей воле; мол, дело случая, что смерть прншла в Кенигсберге. Такая жуткая ложь; ведь дошло, рассказали, как некий Зом-берг поднес мальчикам в кубках яд, когда бедные попросили водицы.
– Витовт! – позвала Анна.
Князь оборотился.
– Убей их!
Он кивнул, и грозный этот кивок утешил ее. Услыхала мощный топот коней, глянула назад – князья, паны, бояре шли на рысях в Брест, ее рыцари, се мстители в близкой войне.
Того самого дня под вечер великий князь собрал наместников и удельных князей в большом зале замка. Сам сидел на возвышении, они – вдоль стен, лишь прибывшие из Варшавы мазовецкие князья Януш и Земовит сидели в креслах отдельно. Все собрались, радовался Витовт, почти все; не было князя Семена Ольгердовича, князя Александра Стародубского и подольского князя Ивана Жедевида – эти уже с хоругвями придут.
Стояло торжественное молчание. Все были исполнены важности, ждали решительных слов великого князя. Он медлил, улыбка блуждала по его лицу, внимательно обводил взглядом обращенные на него лица, словно исчислял, кого поведет за собой на битву. Всех их любил в эту минуту, хотел, чтобы и они все любили один одного, оставили свои распри и зависти, чтобы католики не грызлись с православными, князья не косились на панов, чтобы от сей минуты и на весь час войны жили в дружном единении, в ясном сознании небывалости вершимого дела. Счастливая была минута, жданная много лет; часто о ней думалось, многожды она являлась в мечтах, и долголетними, тяжелыми трудами ее приближали. Но одно дело мечтать, думать, готовиться, и другое вот сейчас объявить – война! Не мелкие стычки на рубежах, не мелкое мщение, а жестокая война народов. Сохло от волнения горло. Переломная минута, перемена судеб! Здесь, в Бресте, зимой вместе с Ягайлой сбили план войны, а сейчас здесь же призывается под хоругви все боярство. Вот в этих стенах, на этом острове между Бугом и Муховцом открылся счет последних дней Ордена.
– Долго, князья, паны наместники, бояре,– срывающимся голосом сказал Витовт,– долго наши земли ждали дня прусского похода. Он настал! Все, кто должен и может,– в седло! Били нас, побьем мы!
– Побьем! – вскочил князь Александр Слуцкий и выхватил меч.
И все вырвали из ножен мечи и встали: брат Сигизмунд, князь пинский Юрий Нос, наместник трокский Явнис, наместник ковенский Сунигайла, князья Семен и Иван Друцкие, наместник полоцкий Иван Немир, наместник киевский князь Ивап Гольшанский, наместник ушпольский Остик, князья Иван и Григорий Несвижские, наместник кревский Ян Гаштольд, князь Андрей Лукомльский, наместник гродненский Михаил Монтыгирд, наместник вилькомирский Вежкгайла, воевода луцкий Федор Острожский, наместник виленский Вой-цех Монивид, князь Роман Кобринский, жмудские старосты Румбольд и Михаил Кезгайла, князь Юрий Заславский, князь Могилевский Андрей, князь Сангушка Ратненский, наместник витебский князь Василий, наместник смоленский Василий Борейкович, наместник ошмянский Минигайла, маршалов Чупурна, наместник дрогичинский Алексей Кмита. Встали мазовецкпе князья Януш и Земовит. И сам великий князь поднялся перед святостью общего порыва.
– Бог за нас! – ликующе вскричал Витовт.– Бог нам поможет!
Застучали, прячась в ножны, мечи; князья и бояре вернулись на лавки.
– А сейчас назначаю,– сказал Витовт.– Всем хоругвям собираться до третьего дня июня в Гродно. Судебные дела, все иски и тяжбы приостановить. Бомбарды все из крепостей снять и отправить с обозами вперед. Каждому, кто выступает, иметь с собой прокорму на пять недель, считая этот срок от Гродно. А бояре и города должны знать: за отказ или уклонение от похода или сокрытие обязанных к Погоне 88
Погоня – призыв на войну, строго обязательный для всего боярства тех земель, где он объявился; Погоней также назывался и герб Великого княжества Литовского.
[Закрыть] людей буду казнить горлом. Король Ягайла уже разослал вици 99
Вици – в данном случае шест с пучком веток – знак призыва на войну.
[Закрыть], уже чехов и моравов нанимают для войны, все мазовецкое рыцарство придет на битву.– Тут Земовит и Януш кивнули: да, все.– Наши татары и пять тысяч кипчаков сядут в седло, и я жду от вас, князья, паны наместники и бояре, полной щедрости. Ни один меч, ни один шлем, ни один топор не должны остаться в домах или лавках – в дело. Для охраны в дни похода городов и замков – Виленского, Трокского, Ковенского, Гродненского, Новогрудского, Киевского, Владимирского, Каменецкого, Полоцкого, Медницкого, Луцкого, Лидского – поставить мещан, а все рыцарство собрать в хоругви. Для охраны обоза и подмоги в бою иметь на каждой подводе кроме возницы пешего ратника, и брать одного ратника с десяти крестьянских дворов. Из семи жмудских поветов три пойдут с нами, а с другими, Кезгайла, ты ударишь на Клайпеду, Юрборг, Рагнету в купальскую ночь...
Говорил быстро, все было выношено, обдумано и обсоветовано десятки раз. Еще в осеннюю встречу с Семеном Мстиславским, прикидывая, каких сил потребует от княжества эта война, решили: чем больше пойдет, тем больше вернется; одних бояр с паробками не хватит, все должны ополчиться. Пять-семь тысяч смердов – это стена тяжелых топоров, это пять-семь тысяч свирепых ударов. И ночной отвлекающий удар жмудинов не однажды воображался во всей мощи мстительных костров. Постараться будет должен Кезгайла, чтобы четыре хоругви сошли за двенадцать, выжечь, нанести убытки, смутить дух. А если ливонский магистр Конрад фон Ветингоф дернется воевать, то Жмудь встретит ливонцев. Радостно об этом думалось, но особенно радовала промашка, которую уже совершили крыжаки. Сомнений уже нет, что на большое сражение ливонские хоругви не придут. Проморгали, проспали удобный срок. Пусть Ветингоф объявит войну хоть завтра, начнется же она через три месяца, только в августе. Сам согласился на условие такого разрыва между объявлением войны и военными действиями. Как в воду глядели в январе, когда обговаривали с Ветингофом свои отношения. Тогда ему эти три месяца отсрочки были выгодны – дозволяли бесстрашно ждать помощь от пруссов, сейчас нам выгодны, проигрышем обернулась крыжацкая хитрость. Вот так: в июне нельзя воевать, в августе – поздно. Хотя, подумал со снисхождением, ливонцам и выгодно остаться в стороне – сберегут свои земли, а ввяжутся – размолотим, и Псков, и Новгород охотно поддержат. В августе же Прусский орден ни единым рыцарем Ливонскому не поможет – сам будет просить о подмоге. Будет разбит и повержен. Припомнится кежмарский костер и все прочие. Пожалеют, горько пожалеют о своей жадности, подлости, кровожорстве. За каждую слезинку Анны слетит по голове, а она тысячи их пролила. И погибельный для крыжаков бой рисовался в зримых чертах – мечи, кони, стоны, смерти людей; и все они, сейчас спокойно сидевшие на лавках, виделись в этом бою – брат Сигизмунд впереди новогрудской хоругви, и князь Роман, и Юрий Нос, и Петр Гаштольд, и Немир, и отсутствующие Семен, Жедевид, Корибут, который, решил Витовт, поведет новгород-северскую хоругвь. Много людей поляжет, многие не вернутся, но за дело, за святое дело – оно любых стоит жертв.
– Назначаю,– говорил меж тем Витовт,– своих наместников в войске: князя Семена-Лингвена Мстиславского, его должны слушать, как меня, а еще Войцеха Монивида и Гаштольда. За всем войсковым обозом и за порядком в Гродно следить будет Стась Чупурна,– и, метнув взглядом в князей, жестко прибавил: – А кто их слушать не станет, ответит мне – головой.
Видел, что недовольны и не согласны. Мол, как это Монивидишку, а не меня, князя Слуцкого, чистого Гедиминовича, равного тебе, Витовт? Что яг это, спрашиваться у Чупурны, чей отец моему стремя придеряживал, где табором располагаться? Ну, ладно князь Семен, можно понять, брат королевский, Ольгердович, знает войну, но этих-то зачем? Затем, зло подумал Витовт, чтобы вы не брыкались один перед другим.
Не местом, мечом ищите славу и честь. А что злитесь, так польза, тем крепче будете рубиться, тем больше людей приведете, желая блеснуть.
И вообразились ему дружины, полки, хоругви на всех дорогах княжества, движение десятков тысяч людей из Витебска и Смоленска, Чернигова и Стародуба, Луцка и Киева, Трок, Вильни, Ошмян, Слуцка, Орши, Медников, Бреста, со всех концов, через все земли в Гродно – и повсеместно оставленные мужчинами беззащитные дворы.
– Вам законы Погони известны,– сказал Витовт. – В хоругвях вы, а в поветах и городах тиуны должны строго их исполнять. Моим повелением. Каждому и любому, невзирая на род и заслуги, если посмеет казаковать, нахальничать, ломиться в чужие дворы, касаться чужого добра, рубить чужие гаи, уводить чужие стада, насильничать или другим образом причинять вред, одно и немедленное наказание – петля! Все должны это знать, как имя Иисуса Христа. И должны знать, что отвага и храбрость будут достойно мною награждены!
Помолчал, улыбнулся и весело завершил:
– А сейчас, князья, паны и бояре, во славу божью за дело!
Наутро брестский замок опустел: разъехались наместники, расскакались срочные гонцы на Северскую Русь, в Великий Новгород, па Подолье, умчало по домам большинство бояр хоругви, ходившей с Витовтом в Кежмарк. Сам же великий князь задержался в Бресте со своими мазовецкими гостями.
ДВОР РОСЬ. ДЕНЬ ВОЗНЕСЕНИЯ
Андрей Ильинич спешил к Софье. Дорога была веселая, множество попутчиков шло на Волковыск – виленские, гродненские, полоцкие бояре, с которыми вместе служил. В Волковыске разделились – кто подался через Лиду на Ошмяны и Вильню, кто через Слоним на Новогрудок, Минск, Витебск, Смоленск. Андрей с людьми Михайлы Монтыгирда повернул на гродненский шлях. Пока кормились кони, встретился с тиуном Волчковичем и оставил при нем своего лучника Никиту с наказом лететь стрелой в Рось, как только услышится о подъезде к городу великого князя.
Возле Роси расстался Андрей с гродненцами и один, с запасным только конем, поскакал к знакомому двору. Мишка отстраивался: белел свежими столбами обновленный и расширенный частокол, вокруг трудились над бревнами десятка два тесельников. И двор обживался: уже стояли новый хлев, новая стайня, была срублена и покрыта соломой курная изба, и самого хозяйского дома стояло на камнях уже шесть венцов, а плотники поднимали седьмой. Возле стайни парился на костре котел, опекаемый двумя бабами. Софьи иге Андрей не увидал и огорчился – мечталось, что она будет встречать в воротах или еще прежде – на повороте. Но и там не было, и тут не видно. «Забыла!» – тускнея, подумал Андрей, но уже бежали к нему от плотников радостные Мишка и Гнатка. Чуть не вырвали нз седла – и в объятья: Гнатка – ласково, но все равно кости затрещали, Мишка крепко.
– Ну, ты здоров стал! – смеялся Апдрей.– Прямо медведь! – и спросил быстро: – Софья здесь?
– Где ж ей быть! – усмехнулся приятель.– Тут, котлом начальствует. Видишь, толока 1010
Толока – сбор людей к одному хозяину по его просьбе для работы, которую нельзя или трудно сделать семье, например, срочная косьба, жатва, строительство. Хозяин затем ставил толоке угощение.
[Закрыть] у нас, хочу построиться до похода. А скоро позовут?
– На первый день нюня,– ответил Андрей, стреляя глазами по углам.
– Ну, то успею,– сказал Мишка и вдруг закричал: – Ой, сестра!
Через мгновение дверь избенки отворилась и вышла Софья – босая, в летнике, с засученными рукавами. Вышла, увидала Андрея и так радостно просветилась, так счастливо всплеснула руками, таким ликованием засняли ее глаза, что Андрей забыл обо всех, кинулся к ней, подхватил на руки, прижал к груди, и – как было во снах, как в мечтах – стал целовать щеки, губы, глаза, охватившие его руки.
Подошел Мишка, потоптался, покашлял, сказал:
– Хорошо, Ильинич, что ты приехал, а то у нас некоторые плакали по ночам. Погостишь?
– Погощу,– кивнул Андрей, не спуская с рук Софью.
– Ну, пойду работать,– извинительно сообщил Мишка и, к радости Андрея, отошел.
Тут Андрей заметил устремленные на себя и Софью любопытные взгляды. Сощурился, глянул на плотников – те отвели глаза, взялись за свои топоры, глянул на баб – тех как ветром повернуло к котлу, чуть головами в него не влезли.
Тогда поставил Софью на землю, прижал к себе и, целуя волосы, зашептал: «Сердечко, солнышко, звездочка моя, вот и дождались, скоро навсегда будем вместе!» Чувствовал себя самым счастливым на свете. Все сделалось прекрасным, все радовало и веселило. Снял кафтан, отдал Софье – радость; снял меч, она приняла, удивилась – «ух, какой тяжелый!» – и оба в смех; стал умываться, она поливает из кувшина – обоим хохочется звонко и легко, как в детстве; стала кормить, сама села напротив – праздников таких святых не было, как сейчас. Оглянулся на дверь, достал из-за пояса платочек, развернул – в нем золотое колечко. «Примерь, завтра надену». Взяла колечко, надела на палец, поворачивает руку, глядит так серьезно, будто не верит глазам. Вдруг поспешила к сундуку, что-то в нем порылась, протягивает зажатый кулачок: «Для тебя». Андрей подставил ладонь – упал перстенек, и осеклось на миг сердце. «Вот и обручились! – сказал Андрей.– Теперь жених и невеста! – и озорно подмигнул: – А там муж и жена!» Порывисто встал, обнял Софью, сжал в объятьях и жадно повел губами по щеке. Слышал, как дрожит.
Вдруг дверь стала противно скрипеть – едва успел отшатнуться: в избу наполовину всунулась баба.
– Софьюшка, что засыпать: пшено или гречку? – спросила она умильным голосом, пожирая глазами застыдившуюся до краски Софью.
«Саму б тебя, гадюку, сварить!» – с ненавистью подумал Андрей и сказал грозно:
– Гречку сыпь, гречку!
Баба скрылась, Софья, убоявшись Андреевой смелости, торопливо села за стол.
– Вот же, принесла нелегкая! – вслух пожалел Андрей и засмеялся.
Вновь стало беззаботно, вновь радовались тайной примерке колечек, завтрашнему празднику и, разделенные столом, ласкались глазами.
– А я видел королеву венгерскую,– сказал Андрей.– Ну, Софья, подметок твоих не стоит. Ей-богу. Щеки бураком натерты, кожа цыпкой побита, а спереди и сзади словно мечом обсекли. Гляжу на нее, думаю, как там моя прекрасная королева? Помнит ли меня? Не забыла, как с глаз сошел?
– Никогда не забывала! – счастливо сознавалась Софья.– Каждый день, каждой ночью молилась за тебя...
– Ну, значит, ты меня и спасла! – радовался Андрей и рассказывал, как вырывались нз огня и отбивали венгров.
На общем ужине рассказал о том же толоке. Помимо смердов помогали Росевичам окрестные бояре. Слушали с интересом, расспрашивали о княжеских подарках королю, расспрашивали, кто собирался в Бресте, мрачно говорили: «И наши выставляют хоругвь. Уж кому-кому, а нам есть за что погладить крыжаков мечами. Одних ребятишек сотню погубили. Мужиков за три сотни полегло. А баб и того больше. На сороковины весь город выл – ни одной семьи не минуло. Оно, конечно, безоружных рубить нетрудно. Вот сойдемся в поле, там поглядим». Посидели до звезд, и парод разошелся спать. Стало тихо. Андрей и Софья, обнявшись, сидели на бревне. Вдоль огорожи бродил ночной сторож, шуршали по щепе его сапоги; слышное его присутствие мешало шептаться, казалось, что подслушивает и подглядывает. Софья накинула кожушок, пошли к реке.
Серп месяца плыл по небу, ярко сиял; звезды гляделись в воду; в кустах на другом берегу вдруг защелкали, засвистали соловьи; тихо воркотала, наплывая на коряги, вода. Особенная была ночь, и особенный был ушедший вечер – чувствовали, что запомнится навсегда. Стояли, дивились, шептались, что это только для' них заботится бог и нарочно бабу прислал в неловкое время, чтобы лучше запомнились часы счастья, и первому соловью дал голос именно сегодня, чтобы им пел, и для них высеял счастливыми знаками звезды, и золотой серп в вышине не угасает, а рождается, потому что и у них вся жизнь и все счастье впереди. Пылали, целовались, вздыхали, что от обручения до свадьбы все лето ждать, опять разлучаться, а каждый день – век, а душа горит, а сердцу тесно – вон как колотится, бешено стучится, еще не выдержит разлуки, лопнет, разорвется пополам; а, боже милый, как хорошо – слов нет, стоять бы и стоять бы так бесконечно, ловить губы, слушать шепот, счастливо млеть.
Месяц будто верхом несся по небу, потянуло утром; нехотя вернулись па двор. Андрей отыскал в стайне, где спал народ, свободное место, повалился на солому, накрылся Софьиным кожушком и блаженно уснул. Проснулся —кругом никого, топоры стучат, яркий день. Вскочил, плеснул водой в лицо – и к тесельникам. Полнился силой, не было б работы – так, казалось, бегом бы понесся или под облака взлетел. Махал секирой, надрубал, щепил бревно, улыбался, вспоминая ночь. В обед увидал Софью – и словно жарких угольев бросили на сердце. Руки дрожали, ложку мимо рта проносил. «Господи,– ужасался,– скоро ехать, а как уезжать, околею с тоски! Поход этот, будь он проклят, приспичило ж им сейчас». Есть расхотелось. По и никто не дообедал, потому что прискакал Никита и от имени тиуна сказал, что завтра велено собраться в город – великий князь приезжает, хочет смотреть хоругвь. Тут же бояре разобрали коней и разъехались. Софья села возле Андрея, приникла к плечу: «Ой, Андрюша, мне страшно. Могла бы – не отпустила!» – «Да уж обойдется,– успокаивал Андрей.– Не впервые. Меня колечко твое сбережет».
Рано утром Мишка и Гнатка с ратниками выправились в Волковыск. Андрей поехал с ними, надеялся, что маршалок Чупурна исполнит свое обещание и выступит сватом. Вот с маршалком и будет лестное, достойное, памятное сватовство, честь и ему и Росевичам. Еще на Вербницу могло совершиться, если бы боярин Иван не погиб. Тогда немецкий наезд, сейчас немецкий поход – все помехи, препоны. Но уж сегодня, твердо решил Андрей, как бы там пи было, как бы княжеский двор ни торопился, он уговорит Чупурну, упросит завернуть в Рось для такого важнейшего дела. Окольцуемся – можно с чистой душой и на войну.
По дороге к ним приставали бояре и земяне своими копьями, все в полном вооружении. Кто вел девять людей, кто двух, но и таких было много, кто ехал на сбор одиночно.
– Эх, нам бы в марте вот так идти молиться,– говорил Андрею Мишка,– при сулицах да под шлемами. Ног бы гости не унесли. У меня к этим выблюдкам такая ненависть стала – трясет меня всего, крючит. По ночам наши снятся, все кричат, кричат, укоряют. Тут, Андрей, старуха жила, шептала хорошо, вот такого была роста, мне жизнь вернула, да ты ее видел. Всех мне жалко: и баб, и Ваську Волчковича, и отца, но ни о ком так не жалею, как о Кульчихе. Все думаю, думаю, не понимаю: сидела тихо в лесу, никого не касалась; у нас говорят – колдунья, а то ложь – горемыка одинокая, отшельница святая, травками и словом никому не отказывала помочь, и вот – приходит гад, падаль и, не зная, не ведая, кто, за что, просто так, чтобы не было,– рубит мечом.
Апдрей слушал, молча кивал; другой жил заботой, не думал о крыжаках; знал: станут биться – и он будет биться, а сейчас горело свои уладить дела – Чупурну перехватить, с Софьей обручиться и успеть вовремя в Полоцк. Влюбиться ему надо, думал про товарища. Сразу бы тоска отвалилась. Что ж тут: горюй-разгорюй – не вернешь.
– Раньше и в голову не приходило, не болело,– говорил
Мишка,– а как наших посекли в городе, стыд меня стал мучить, Андрей. Вспомню Коложу, млосно делается. И мы ведь коложан мордовали. Тысяч десять в Гродно увели, сорвали с родины; животину лучше берегут, чем мы их в то переселение. А в самом городе аки звери бешеные носились, кровь как воду пускали. Я сам, вот этой рукой беззащитных людей с коня сек. Жутко мне. Чувствую, не прийти с этой войны.
– Ты что, ты что! – взволновался Гнатка.– Ты это словом не сыпь. Разве можно? Молод был, глуп. Вот покаялся – бог простит. Ты и думать забудь. На войну надо легко. Ты ж обо мне помни, ты мне что сын! Вот! – И старый богатырь хлопнул Мишку меж лопаток, пригнув к седлу.