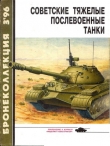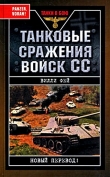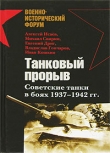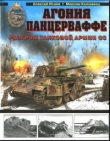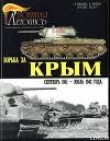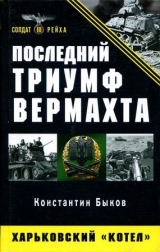
Текст книги "Последний триумф Вермахта. Харьковский «котел»"
Автор книги: Константин Быков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
26 мая объявили готовность номер один. Меня вызвали к полковнику, где я встретил капитана Бахова и командиров других рот. Инструктаж проводил полковник. По картам уточнили место высадки. Первой десантируется моя рота. После выполнения задания десантники группами или повзводно должны были уходить в сторону Полтавы на соединение с партизанским отрядом, который уже предупрежден о нашей миссии…
Уже рассветало. Истекали последние минуты тревожной ночи. На фоне бледнеющего неба все резче проявлялись кроны деревьев. Начиналось утро 27 мая 1942 года. Эту дату я буду помнить до последнего вздоха. Этот день глубокой пропастью разделил мою жизнь надвое, с него начался отсчет самых тяжелых физических и моральных испытаний в моей жизни. Наконец, подана команда:
– Командирам взводов проверить наличие людей и снаряжение!
Небольшая проверка, и капитан Бахов, совсем не по-военному, произнес:
– Пора, друзья. Поехали.
На аэродроме гудели моторы. При свете низких прожекторов самолеты, похожие на чудовища, один за другим выруливали на старт. Крайне неуклюже чувствовал я себя с парашютом, он давил на спину, плечи, шею. Запасного парашюта не было – при боевых прыжках не полагалось…
Летели около часа. Наконец моторы сбавили обороты, и машина бесшумно пошла на снижение. В салоне зажглась сигнальная лампочка. Из кабины пилота вышел штурман и дал команду: „Приготовиться!“ Затем снял дверь и прокричал:
– По одному! Пошел!
Первым исчез в дверном проеме лейтенант, командир взвода, за ним, один за другим, без суеты, самолет покидали бойцы. Задержки не было, ни один не подался назад, хотя каждый наверняка знал, что эта минута может быть последней в жизни. Я прыгал после всех, как и подобало командиру роты, пропустив вперед себя семнадцать десантников.
Было достаточно светло. Не колеблясь, шагнул я в бездну…
Десант, оказавшийся под прицельным огнем, был расстрелян еще в воздухе. Много погибло ребят, не успевших приземлиться. Но и на земле было не слаще: бушевала смерть, рвались снаряды, свистели пули, вонзаясь в разбуженный воздух и пыльную землю.
До сих пор не могу понять, почему на особо важное задание послали почти не подготовленных бойцов, неужели в армии не было кадровых десантников? Самолеты-то для этой цели нашлись! Почему из пяти рот десантировали только нашу? Впрочем, можно задавать десятки таких „почему?“. Теперь на них, конечно, никто не ответит. Возможно, торопило время, ведь опоздай на сутки, а может быть, на несколько часов, и штаб Шестой армии был бы взят немцами, возможно, были какие-то другие причины, которые спутали первоначальные планы. Все могло быть. Только жаль, что столько молодых жизней загублено напрасно.
Раненые кричали, звали на помощь, убитые комочками лежали рядом с трепетавшими на ветру парашютами. Погиб младший политрук Мелков – молодой, смелый, веселый парень. Он бежал, чтобы помочь раненому, вдруг споткнулся и повалился на землю, в сторону отлетела пилотка. Даже не вскрикнул… Залитая кровью голова уткнулась в землю. И почти в ту же секунду громыхнул взрыв, и острая боль прошила меня, осколок вонзился в руку повыше локтя. Кровь моментально окрасила левый рукав гимнастерки и быстро-быстро потекла на землю. Я чуть не потерял сознание. Подбежавший боец распорол рукав, зубами вырвал торчащий осколок и перетянул рану бинтом.
Летчики выполнили свою задачу на „отлично“. Они доставили и выбросили десант в точно указанном месте. Штаб, ради которого рисковали своей жизнью сто сорок бойцов моей роты, находился близ деревни Лозовенька в усадьбе давно сожженного маленького хутора [391]391
Последнее, известное нам, место штаба 6-й армии – село Ракитное, которое находится в 10 км к западу от Лозовеньки.
[Закрыть]. Кто из крупных военных начальников в то время оставался в штабе, я не знал.
Упоминались фамилии Тимошенко, Баграмяна, Городнянского, Бобкина, но ни одного из них я не видел. Да и не все ли равно! Мне было не до них, а им не до меня.
Воздушные потоки разбросали десантников по всему полю. Собрать их с помощью сигнальных свистков и флажков не представлялось возможным, а указать сбор сигнальными ракетами означало вызвать прицельный огонь на себя и на штаб. С большим трудом с помощью солдат, охранявших штаб, удалось все-таки собрать уцелевших десантников, вынести тяжелораненых и укрыть их в усадьбе. Убитых схоронить не успели – со стороны Лозовеньки показались фашистские грузовики, с которых спешивались, рассыпались по степи солдаты. Минометно-артиллерийский обстрел прекратился. Ясно было, что бой завяжет фашистская пехота, которая продолжала накапливаться для решительного наступления. Пока я с командиром комендантского взвода прикидывал план круговой обороны, старшина Ефимкин выстроил всех способных держать оружие, в том числе и легкораненых, разбил бойцов, по моему приказу, на два взвода, назначил от моего имени командиров взводов и отделений. Время поджимало. Вот-вот фашисты должны были перейти в наступление.
– Товарищ лейтенант, рота построена! – доложил старшина. – Всего восемьдесят четыре человека, из них двадцать легко раненных.
Страшные цифры! Из ста сорока человек двадцать убиты и тридцать шесть тяжелораненых. Не осталось ни одного среднего командира, погибли лейтенанты – командиры взводов, младший политрук Мелков, мой заместитель. Какие это были ребята! Сильно поредела рота, не вступив еще в бой. Настроение у бойцов было хуже некуда…
…Противник начал наступление. Прижимаясь к бронетранспортерам, почти бегом шли немецкие автоматчики. Их было много. Слышались резкие, отрывистые команды офицеров. Артобстрел сразу прекратился, и, стреляя на ходу от живота, автоматчики бросились в атаку. Оставалось до них триста… двести метров. Только тогда ударил слитный залп наших автоматов и пулеметов. Маневр повторился, как в шахматной игре. Огненные строчки переплелись и прижали немцев к земле. Тогда бронетранспортеры, оставив пехоту, развернулись на девяносто градусов и стали обходить нас справа и слева…
– Лейтенант, назад! – закричал мне старшина. Но было уже поздно! Шагах в пяти завертелась граната, взрыв, и меня словно ошпарило, будто бы плеснули кипятком. Я упал, чуть-чуть не добежав до пулемета, изо всех сил старался дотянуться до него и не смог. Рядом лежали убитые пулеметчики – таджик и русский…
…Прямо надо мной стоял немецкий солдат, целясь в меня из автомата. На фронте я пережил много страшных минут и дней, когда все живое боялось смерти, когда страх одолевал разум…
Резкий окрик „Хальт! Нихт шиссен!“ спас мне жизнь. Солдат опустил автомат.
Ко мне подбежал немецкий офицер и стал что-то спрашивать. Я не отвечал, так как не мог понять ни единого слова. Тогда он, тыча в мою грудь пистолетом, несколько раз спросил:
– Офицер?
Я опять промолчал. Нас в то время в Красной Армии не называли офицерами, мы были просто красные командиры. Рядом валялся мой пистолет, которым я не воспользовался, чтобы убить себя. Испугался? Нет. Просто ранение вышибло из головы самоубийство…
Офицер отбросил мой пистолет в сторону, затем потрогал лейтенантские кубики в петлицах, снял орден, значок ГТО, извлек из нагрудных карманов комсомольский билет, неотправленное письмо маме, фотографии, несколько запалов к гранатам и маленький крестик… Запалы офицер выбросил, а остальное – засунул обратно в мои карманы и даже застегнул пуговицы. Так я попал в плен…
Я не ожидал милосердия от врагов, однако немецкие санитары перевязали меня и отнесли на берег небольшого полузаросшего озерца, где уже находились наши раненые военнопленные…
…Прошло сколько-то времени, и к нам, пленным, подкатила легковушка с немецкими офицерами. Следом подъехали два бронетранспортера, которые, поводив дулами пулеметов из стороны в сторону, нацелили стволы на пленных. По бокам выстроились автоматчики. Кто-то из наших испуганно произнес:
– Видно, конец, братцы!
Один из пленных бросился бежать. Немцы загалдели, затормошились, а затем, когда беглец был метров за двести, срезали его из пулемета.
– Евреи есть? Выходи! – скомандовал немец по-русски.
Никто не вышел.
– Комиссары есть? Выходи!
Опять никто не вышел.
– Командиры есть? Выходи!
Вышел младший лейтенант, командир комендантского взвода. Я решил не выходить, будь что будет, в своих бойцах я был уверен – не выдадут.
Всем пленным приказали встать на колени и снять пилотки. Я полулежал, облокотившись на здоровую руку, болело все тело, саднило грудь, дрожали руки. Офицеры медленно обошли нас, внимательно разглядывая каждого, искали евреев и командный состав. Рядовые в нашей армии, как правило, стриглись наголо, командиры же носили прическу, поэтому найти офицера среди солдат Красной Армии было проще простого – по нестриженой голове. Я же в армии стригся наголо, мой белокурый чуб снесли еще перед уходом в военную школу. Так что немцы прошли мимо, не обратив на меня никакого внимания. К счастью, ни евреев, ни комиссаров, ни командиров среди нас не нашли. А бронетранспортеры все так же целили в нас дулами своих пулеметов.
Младшего лейтенанта и старшину Ефимкина, которого приняли за командира, увезли на бронетранспортере. Нас обыскали, раненых оставили на месте, а здоровых пленных погнали хоронить наших убитых.
Наконец, ближе к вечеру нас погрузили в машины и отвезли на окраину какого-то села, мимо которого бесконечным потоком двигались колонны военнопленных, солдат и командиров наших армий, разбитых на харьковском направлении…
И вот плененное, обессиленное, оскорбленное советское войско, шатаясь, как пьяное, медленно движется по избитому, изрытому войной большаку. Слезы застилали глаза, и жить не хотелось больше…
– Смотри! Смотри! Наши летят! – закричал кто-то во весь голос.
Я посмотрел в ту сторону, откуда нарастал гул моторов, и увидел самолеты, которые группами летели прямо на нас. Их было много. Рядом с большими самолетами юрко сновали истребители. Несколько краснозвездных „И-16“, „ишачков“, как мы их называли, пролетели так низко над нами, что можно было разглядеть лица летчиков. Колонна пленных остановилась.
– Иван, ложись! Ложись! – закричали немецкие конвоиры, бросаясь прочь от дороги.
Но никто из пленных не лег. Все, как один, сняли пилотки, застыли, глядя в небо, словно хотели сказать: „Братцы, братцы, где же вы были раньше?“
Самолеты сделали разворот и нанесли бомбовый удар по другой дороге, где двигались войска противника. Тучи дыма закрыли степь. А в стороне десятки советских и немецких истребителей крутились в смертельной схватке, догоняя и расстреливая друг друга; ревели моторы, резко стучали крупнокалиберные пулеметы, с воем и треском падали на землю сбитые самолеты. Взрывы следовали один за другим.
Когда все стихло, часть пленных погнали на расчистку разбитой дороги, заваленную, как потом рассказывали они, покореженной техникой и трупами вражеских солдат. И опять до самого вечера тянулась нескончаемая вереница советских военнопленных. Иногда колонна останавливалась, немного отдыхала и снова, под крики и выстрелы конвоиров, двигалась дальше. Из нашей группы пленных на месте оставались только раненые, остальных отправили с очередной колонной. О нас словно забыли, даже не охраняли, и лишь иногда из остановившихся автомашин спрыгивали поразмяться солдаты и офицеры противника, которые подходили к нам и с любопытством разглядывали.
– Пан! Дай закурить, – просили их пленные, подкрепляя слова жестами, – закурить… табак, табак, понимаешь?
Кто придумал обращаться к немцам „пан“, не знаю, может быть, пленные прошлой войны, но такое обращение бытовало в плену везде и всюду. Каждый немец для нас был не „господин“ и не „Герр“, а именно „пан“. Некоторые „сердобольные“ немцы, мадьяры или румыны протягивали сигареты, а кто и кусок хлеба, но были и такие, которые, прокричав непонятную ругань, хлопали себя по заду и показывали фигу – мол, шиш вам, а не закурить…
В пути нам встретилась еще одна небольшая колонна военнопленных. Вид у них был ужасный! Измученные жарой и дорогой, в грязных окровавленных бинтах, невольники медленно брели под ругань осатаневших конвоиров. Проходя мимо полузаросшего пруда, пленные потянулись к воде. Они хотели пить. Немцы пустили в ход штыки и приклады, отгоняя их от воды. Один пленный успел зачерпнуть в пилотку воды, но напиться не успел – раздался выстрел. Не вскрикнув, парень ткнулся в воду. Он так и остался лежать незахороненный, наполовину прикрытый тухлой водой. А колонну погнали дальше. Вслед за ней потянулись и наши повозки…
Сборный лагерь военнопленных, куда нас привезли, представлял собой громадную кочковатую низину, обнесенную колючей проволокой в несколько рядов. Под открытым небом находились десятки, а может быть, и сотни тысяч советских военнопленных…»
Итоги Харьковского сражения с точки зрения немцев.«С востока войска противника тоже пытались пробиться навстречу своим товарищам, – продолжаем читать историю 16-й танковой дивизии. – Тяжелое сражение в ходе этих попыток произошло в излучине Донца возле Чепеля, где находилась 384-я пехотная дивизия (384.I.D.). Однако все эти попытки не имели никакого решительного успеха: значительные части 20 стрелковых дивизий, 7 дивизий кавалерии и 14 танковых бригад были уничтожены. Тимошенко был разбит. В сообщении вермахта заявлялось о 240 000 пленных; в русской оперативной сводке командования сухопутных войск с удивительной открытостью говорилось о 70 000 пленных и 5000 убитых [392]392
Надо отдать должное немецким историкам, включая и ветеранов Восточного фронта, которые написали истории своих дивизий – рассказывая нам о конечных результатах крупных сражений, они обязательно делают оговорку: «В сообщении вермахта…» Подчеркивая источник данных, немцы не берут на себя ответственность за точность цифр, появившихся в эпоху Гитлера и Геббельса. Удивительно, но цифры, сообщенные вермахтом еще в годы войны, вошли в учебники по истории некоторых бывших республик СССР как бесспорный факт, без указания на дату и источник опубликования этих цифр.
[Закрыть]. 16-я танковая дивизия взяла в плен 31 500 человек [393]393
Не оспаривая этих данных, зададим вопрос самим себе: поскольку подразделения 16-й тд действовали на участках и вперемешку с другими соединениями, то куда они направляли пленных – на пункты сбора пленных соседних дивизий или на пункты своей дивизии? То есть не было ли у немцев двойного подсчета?
[Закрыть], захватила 224 орудия, подбила 69 танков. Ее собственные потери составили 700 человек…
2 июня 16-я танковая дивизия покинула поле боя у Лозовеньки и Крутоярки и передислоцировалась на 40 км севернее, в большой лес северо-западнее Скрипаев и к югу от Чугуева. Солдаты нашли здесь хорошие квартиры. Прекрасные дома с маленькими палисадниками были чисты и ухожены, их жители были любезны и услужливы. Река звала к купанию и рыбалке, сад и луга – к лентяйничанью на солнце; из дому приходила почта, хороший удар из гуляшной пушки (Gulaschkanone) наполнял кухонную посуду до краев. В сирени гудели пчелы» [394]394
Werthen Wolfgang.Geschichte der 16. Panzer-Division 1939–1945. – S. 91.
[Закрыть].
1-я горная дивизия

Эмблема 1-й горной дивизии.
Краткая история.1-я горная дивизия была создана в 1938 году на базе существующей с 1935 года горной бригады. В 1939 году дивизия участвовала в Польском походе и имела приказ захватить временно принадлежавший Польше украинский город Львов: 20 сентября 1939 года 1-я гд «натолкнулась около Лемберга на русские войска… Поэтому запланированного нападение на Лемберг не произошло, и дивизия снова маршировала на Запад». В 1940 году 1-я гд приняла участие в Западном походе, а в 1941-м, после Югославии, опять появилась у Львова. Дальнейший ее боевой путь пролегал по маршруту: Умань, Донецк, Миус, где егерями и был встречен новый, 1942 год.
В 1942-м 1-я горная дивизия участвовала в Харьковском сражении, в походе на Кавказ и Кубань, откуда, в 1943 году, ее отправили для обновления и боевых действий на Балканы. В 1944–1945 годах дивизия использовалась на Балканах и в Венгрии. В самом конце войны она была переименована в народную горную дивизию (1. Volks-Gebirgs-Division) и закончила свое существование сдачей в плен. В состав дивизии входили:
Gebirgsjäger-Regiment 98 (горно-егерский полк)
Gebirgsjäger-Regiment 99
Gebirgsjäger-Regiment 100 (убыл в 5-ю горную дивизию в 1940 году)
Gebirgsjäger-Bataillon 54 (горно-егерский батальон, создан в 1943 году)
Hochgebirge-Jäger-Bataillon 1 (высокогорный егерский батальон)
Hochgebirgs-Jäger-Bataillon 2
Gebirgs-Aufklärungs-Abteilung 54 (горный разведывательный батальон)
Kradschützen-Abteilung 54 (мотоциклетно-стрелковый батальон)
Radfahr-Abt. 54 (самокатный батальон)
Gebirgs-Artillerie-Regiment 79 (горно-артиллерийский полк)
Gebirgs-Panzerabwehr-Abteilung 44 (горно-противотанковый дивизион)
Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 54 (горный батальон связи)
Gebirgsjäger-Feldersatz-Bataillon 54 (горно-егерский запасной батальон)
Gebirgsjäger-Feldersatz-Bataillon 79
Div.Nachschubflihrer 54 (дивизионный отдел снабжения)
Gebirgs-Träger-Bataillon 54 (горно-вьючный батальон)
Kriegsgefangenen-Gebirgs-Träger-Bataillon 54 (горно-вьючный батальон из военнопленных [395]395
Возможно, перевод не верен.
[Закрыть])
С октября 1940-го по декабрь 1942-го дивизией командовал генерал Губерт Ланц (Hubert Lanz).
1-я горная дивизия накануне Харьковского сражения.С октября 1941 года 1-я горная дивизия, закончив бои в районе Донецка и Макеевки, была отправлена на Миус-фронт. К январю 1942-го в ротах дивизии насчитывалось в среднем по 44 человека. С 18 февраля егерей стали перебрасывать на участок группы Макензена, который находился в районе реки Самара – на южной границе Барвенковского выступа. Здесь, усиленная танками, 1-я горная дивизия приняла участие в ожесточенных боях, длившихся до середины марта.
Таким образом, к началу Харьковского майского сражения 1-я горная дивизия оказалась в 3-м армейском моторизованном корпусе Макензена. В состав этого корпуса, до начала сражения, входили и занимали позиции с востока на запад:
– 100-я легкая пехотная дивизия, усиленная Усиленным хорватским пехотным полком;
– 14-я танковая дивизия;
– 1-я горная дивизия, к которой «были подведены еще несколько итальянских боевых групп» [396]396
Э. фон МакензенОт Буга до Кавказа. – М.: ООО «Издательство ACT»: ООО «Транзиткнига», 2004. – С. 295.
[Закрыть](судя по фотографиям из истории 1-й гд, речь идет о группе Барбо).

1-я горная дивизия в Харьковском сражении.
1-я горная дивизия в Харьковском сражении.17 мая 3-й танковый корпус Макензена начал наступление на Барвенково. Боевые действия 1-й горной дивизии, которая обеспечивала левый, западный, фланг корпуса, состояли из следующих этапов:
17 мая. Прорыв фронта.1-й горная дивизия, наступая на Барвенково, находилась на левом фланге 3-го корпуса Макензена. Построение самой 1-й гд в этот день было следующим:
– на правом фланге дивизии находился ее 99-й полк, который наступал от Александровки на Самаре на Барвенково через Федоровку (противник – 341-я сд);
– в центре боевого порядка 1-й гд был ее 98-й полк, ось наступления которого проходила от Софиевки на Самаре до Гавриловки (западнее Барвенково) через Богдановку (противник – 351-я сд);
– левофланговой частью 1-й горной дивизии была итальянская боевая группа Барбо, которая, судя по карте Ланца из истории 1-й гд, была отброшена советской 341-й сд на свои исходные позиции на Самаре. Однако, по всей вероятности, Ланц перепутал местами советские дивизии. В районе действия группы Барбо и 98-го горно-егерского полка занимала оборону 351-я сд.
18–21 мая. Оборона фланга корпуса.1-я горная дивизия заняла оборону фронтом на северо-запад, от Софиевки на Самаре, до Барвенково. Противниками дивизии, с севера на юг, были части отступившей сюда 341-й сд, срочно переброшенные на этот участок части 70-й и 62-й кавалерийских дивизий 2-го кавкорпуса и 14-й гвардейской сд, а также удерживающаяся на своих позициях у Самары 351-я сд. Трагизм ситуации заключался в том, что 14-я танковая дивизия двинулась в это время далее на север, однако без танков, для которых еще не были построены переправы через Сухой Торец. Там, севернее Барвенково, кроме одного полка 333-й сд и остатков отступивших от Самары 106-й и 341-й сд, никаких советских частей не было. Пока советские резервы ломали оборону 1-й гд, немцы построили переправы, и 14-я танковая дивизия хлынула на ничем не прикрытые тылы наших войск. В последующие дни 1-я горная дивизия занимала свои прежние позиции, ее фронт, за счет небольшого продвижения правого фланга на запад от Барвенково, переориентировался строго на запад – в сторону 57-й армии.
22–24 мая. В резерве.Горло мешка, в котором оказалась 57-я армия, было сужено ударом 16-й танковой дивизии. К 22 мая этот мешок сжался настолько, что 1-я гд стала «лишней», и ее вывели в резерв корпуса в районе Грушевахи. В этот же день было замкнуто кольцо окружения вокруг 6-й армии и армейской группы Бобкина, в котором оказалась и выдавленная в него с юга 57-я армия. Находясь в резерве 3-го танкового корпуса [397]397
В приказе командира 3-го корпуса от 30 мая 1942 года этот корпус, бывший армейский моторизованный, назван уже танковым.
[Закрыть], 1-я горная дивизия сосредоточилась в районе Волвенково – Петровское – Протопоповка. Западнее горных егерей находились 23, 3, 16-я тд, 60-я мд и 389-я пд. Задачей всех этих соединений было не допустить прорыва из котла на восток. К востоку от 1-й горной дивизии занимали позиции 14-я тд и 384-я пд. Их задачей было – не допустить деблокирования котла с востока. Находящуюся между этими группами 1-ю гд можно было быстро развернуть в нужном направлении.

Итальянский бригадный генерал Барбо (слева).

1-я горная дивизия перед наступлением на Барвенково 17 мая 1942 г.
25 мая. Начало борьбы с прорывами.Однако для немцев было бы более выгодным иметь в качестве «пожарной команды» более подвижное соединение, чем горная дивизия. «Поэтому, – сообщает командир 3-го танкового корпуса, – после полудня 25 мая 1-й горной дивизии пришлось перейти в наступление через позиции 60-й моторизованной дивизии, чтобы таким образом высвободить ее из боев как первое (единственное) подвижное соединение. Но наступление горных егерей напоролось на попытку прорыва огромных масс противника, которые просто перекатились через тонкий заградительный фронт 60-й моторизованной дивизии, прикрывавшей одну из „дыр“, образовавшихся при наступлении, и покатились дальше на восток. Чертовски трудная ситуация!» [398]398
Э. фон МакензенОт Буга до Кавказа. – М.: ООО «Издательство ACT»: ООО «Транзиткнига», 2004. – С. 304.
[Закрыть]
Из этой ситуации удалось выйти, по сообщению того же Макензена, с помощью авиации – прорвавшиеся советские части удалось остановить раньше, чем они подошли к восточной полосе обороны корпуса.
Обидно… Ведь направление прорыва было выбрано очень удачно – все танковые соединения немцев (23, 3, 16 и 14-я тд) находились севернее. Перед прорвавшимися через 60-ю и 1-ю дивизии советскими войсками оставалась только 384-я пд, фронт которой был растянут вдоль Северского Донца на 15–20 км…
Однако пришло время передать слово непосредственному участнику боев с немецкой стороны.
«Наступление на Барвенково было назначено на 17 мая. Рано утром, в 03.50, егеря начали наступление, – рассказывает командир 1-й горной дивизии Губерт Ланц. – Севернее Александровки ударная группа Бухнера (99-й полк) прорвала хорошо оборудованные зимние позиции и нанесла удар с обеих сторон дороги на Барвенково.
Неприятель, 341-я и 351-я сд [399]399
В 341-й сд 9-й армии и 351-й сд 57-й армии (полковник Н.У. Гурский) было, как пишет Гланц, «много нерусских» (Glantz David M.Kharkov 1942. Anatomy of a Military Disaster. NY: Sarpedon, 1998. – P. 98, 100). В момент формирования, в конце 1941-го, 341-я сд (полковник А.И. Щагин) состояла из сталинградских рабочих и донских казаков, 351-я сд – из казаков, ранее служивших в Красной Армии (Рябышев Д.И.Первый год войны. – М.: Воениздат, 1990. – С. 126). Обе дивизии отличались дисциплинированностью. Очевидно, после зимних боев они были пополнены необстрелянными и ранее не служившими в армии новобранцами.
[Закрыть], отчаянно оборонялся в своих многочисленных, друг за другом расположенных окопах. В атаке на один такой окоп около Федоровки погиб наш кавалер Рыцарского креста фельдфебель Гефеле (Häfele). Но порыв нашего наступления не был остановлен.
После взятия Барвенково были зачищены от неприятеля населенные пункты в долине Сухого Торца. Весь район между Самарой и дорогой Барвенково – Лозовая был взят с боями.
В Троицыно воскресенье, 24 мая, мы направляемся на север, и следующей ночью нас вводят в бой между 16-й танковой и 60-й моторизованной дивизиями по обе стороны Лозовеньки. Ситуация сложилась так: когда на второй день наступления южного крыла 17-й армии, а именно 18 мая, был достигнут Изюм, Тимошенко, чтобы не стать отрезанным, предпринял свою собственную атаку. Но масса его войск южнее Харькова и западнее Изюма находилась в мешке и была со всех сторон уже окружена в долине Береки. При этом речь шла о главных силах красных 57-й и 6-й армий приблизительно 17-ю пехотными или танковыми дивизиями и 8-ю моторизованными бригадами. Эта спрессованная на узком пространстве чудовищная масса войск намеревалась вырваться, чтобы соединиться с находящимся приблизительно в 40 км русским фронтом по ту сторону Донца.
Предотвращение этого прорыва совместно с другими войсками стало новым заданием для дивизии. Это привело к драматическим событиям. Уже через несколько часов, после того как 1-я горная дивизия заняла свои позиции на довольно обширной дуге, в ночь с 25 мая на 26 мая началось первое извержение. С чудовищным воем, в освещаемой сигнальными ракетами ночи, под резкие команды своих офицеров и комиссаров хлынули тесно сжатые русские колонны на наши позиции.
Мы открыли бешеный оборонительный огонь.
Неприятельские колонны поворачивают на север, натыкаются там на такой же огонь, но, несмотря на это, прорывают нашу тонкую линию, убивают и колют все, что стоит поперек их дороги. Спотыкаясь о трупы, они пробегают еще пару сотен метров и падают, наконец, под нашим огнем. Все, что остается живым, откатывается назад в долину Береки. Через некоторое время – уже на рассвете – в долину были отправлены наши ударные группы (Stosstrupps). Однако продвинуться далеко вперед им не удалось, там все кишело русскими. Оказалось, что те, которые обработали нас ночью и покрывали теперь все поле сражения – неописуемая жуткая картина, – были лишь их частью. Котел еще не ликвидирован, и десятки тысяч не желающих сдаваться в плен находились внизу у Береки. Атака наших танков подтвердила это впечатление. Они были атакованы появившимися Т-34. Это не выглядело похожим на сдачу.
Когда в вечерних сумерках огромный русский самолет влетел в котел – вероятно, с решающим приказом, – мы приготовились к обороне от дальнейших атак. Ужасающий крик и рев возвестили о новом извержении. В мерцающем свете сигнальных ракет было видно, как они идут. Плотной массой, передние ряды тесно сомкнуты, в сопровождении танков.
На этот раз неприятель наступает несколькими клиньями по всему фронту – в последнем отчаянии, по большей части бессмысленно напившись. Как роботы, видимо, нечувствительные к нашему огню, вторгались они то тут, то там в нашу оборонительную линию. Страшными были здесь их следы. С раскроенными черепами, до неузнаваемости изуродованных гусеницами находили мы наших товарищей, которые защищались до самого последнего момента на этой дороге Смерти. Разумеется, недалеко протянулся путь этого извержения.
К следующему утру битва на окружение возле Береки была закончена. Свыше 27 000 пленных, почти 100 танков и почти столько же орудий попало в наши руки. Однако и наши потери были горькими. С 17 мая, начала наступления на Барвенково, дивизия потеряла 431 убитыми и свыше 1300 ранеными.
После этих смертоносных ночей, которых никто никогда не забудет, у нас был один спокойный день для того, чтобы расчистить поле битвы и похоронить наших павших. Затем мы двинулись на север. На фронте, развернутом у Донца, по обе стороны от Балаклеи и вниз до Чепеля, была развернута оборонительная позиция. Здесь мы оставались до солнцестояния.
Пока мы отдыхали, главным армейским командованием были отданы распоряжения о последних приготовлениях к упомянутому летнему наступлению на Южном фронте. Мы принадлежали теперь 11-му корпусу (Штреккер) 17-й армии (фон Штюльпнагель) группы армий „А“ (Лист).
Хорошо подготовленные, рано утром 22 июня – в годовщину Олешичей (Oleszyce) [400]400
Олешичи – населенный пункт (нынче в Польше), с которого 22 июня 1941 года 1-я горная дивизия начала войну.
[Закрыть]– мы начали атаку и вскоре достигли Донца между Залиманом и Савинцами. Когда голова 2-го батальона 98-го полка Баумгартнера устремилась через мост, он взлетел на воздух вместе с храбрыми егерями. Однако затем удалось перебить запальный провод и отбить попытку русского подрывного отряда взорвать остатки моста…» [401]401
Lariz Gubert.Gebirgsjäger. Die 1. Gebirgsdivision 1935–1945. Verlag Hans-Henning Podzun. Bad Nauheim, 1954. – S. 153–156.
[Закрыть]

Кладбище 98-гo полка в совхозе села Степок.

Горы советского оружия у Береки.

Переход 1-й горной дивизии через Северский Донец.