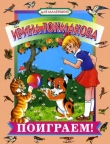Текст книги "Винки"
Автор книги: Клиффорд Чейз
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Винки увидел, как сумасшедший с бородой исчез в овраге, а на его плече визжала Малышка Винки. Медведь бросился за ними через кусты. Каждый крик его ребенка был словно трещина в реальности. Ну, почему он потерял ее из виду? Он мчался как обезумевший. Ежевика, грязь, мешковатый зад похитителя, мелькающий в листве.
Обвисший зад уносил с собой его жизнь. Он не должен потерять из виду тот движущийся клочок ткани цвета хаки. Винки кричал и ревел. Лязгающие лапы. Догонял ли он их? Он снова закричал. Стали ли крики его ребенка ближе? Мимо проносилась листва, верхушки ветвей. Там, впереди, клочок ткани цвета хаки, казалось, застрял.
– Черт возьми! – закричал похититель, пытаясь перевести дыхание.
Медведь пробрался сквозь заросли ежевики и прыгнул. Он вцепился в похитителя, который держал его малышку. Ее крики были для Винки, словно уколы булавкой в глаза. Винки рычал и клацал зубами. У него вдруг потемнело в глазах – что-то ударяло по нему. Неужели у этого больного были кулаки? Если Винки разорвет зубами извивающееся существо цвета хаки, ребенок будет освобожден. У Винки снова потемнело в глазах. Он кусал в особенно мягкое место. Он кусал со всей силы. Чудовище ревело и изгибалось.
Время замедлило ход. Винки почувствовал, как в его рот брызнула странная струя. Из чудовища вытекала какая-то внутренняя жидкость. Страшное существо вот-вот исчезнет, как двуногий водяной шар, он станет податливым и вежливым, и Малышка Винки нежно опустится на волну.
– Ииин! Ииин! Ииин! – продолжал кричать детеныш. Винки хотел сказать ей: «Не волнуйся», но он должен был кусать. Удары по его голове не прекращались. Он и не такое заслужил, оставив свое единственное дитя, позволив такому случиться. Пятна стали разноцветными. Затем он почувствовал, как его череп крепко сжали и с силой потянули. Винки вцепился еще сильнее, но мягкая плоть чудовища увернулась.
– Черт! – выругался мужчина, задыхаясь. – Ах ты маленькая дрянь!
В следующий момент Винки оказался над землей. Он выплюнул жидкость. Он успел заметить, что похититель держал Малышку Винки, крепко прижав ее голову к своей. Винки рычал, вопил и извивался.
Сумасшедший закричал:
– Пошел вон!
И Винки полетел по воздуху мимо кружащихся вокруг него деревьев. Позади него пронизывающие крики его единственного ребенка становились все ниже, следуя закону Доплера. Винки ударился о землю, издав писк. Он поднял голову, попытался застонать, но его глаза, щелкнув два раза, закрылись.
Профессор привязал Малышку Винки бечевкой к своему столу и предложил ей большой выбор еды, из которой она съела лишь сырные шарики и муравьев в шоколаде. Ему пришлось пройти немалый путь, чтобы раздобыть для нее такое, и каждое утро и каждый день он подавал ей все это на двух тарелках из тонкого листового золота. Однако хныканье Малышки Винки не прекращалось.
Она целыми днями сидела на столе, глядя в грязное окно лачуги и шепча: «Папа, мама, папа», как она звала Винки, когда еще была маленькой и беспомощной, когда он днем и ночью кормил ее грудью. Она продолжала ждать, что морда Винки – такая же, как и у нее, – вот-вот появится из кустов.
Вместо этого днем и ночью над ней маячили печальные глаза и аккуратная седая бородка профессора.
– Шшш, – шептал он. Время от времени она кусала его, хотя знала, что это не принесет никакой пользы. – Сейчас, сейчас, – бормотал он, резко хлопая ее по носу. – Нет!
Малышка Винки ненавидела эти попытки «выдрессировать» ее, особенно с тех пор, как противный удар стал просто утешением по сравнению с ее тяжелой утратой. Три раза в день она приседала на корточках у края стола и ходила в туалет, и три раза в день он шлепал ее за это, толкая ее к мусорному ящику, который купил, и вопя: «В ящик! Ходи в ящик!», как будто она до сих пор это не поняла. Наверное, после сотого раза она повернулась к профессору и довольно отчетливо заявила:
– Запретный круг: не приближайся, не прикасайся, не поглощай, не наслаждайся, не разговаривай, нигде не появляйся, в конечном счете, не существуй, живи лишь в темноте и тайне.
Ее похититель не знал, что, когда малышка не горевала по своему потерянному родителю, она читала. Она уяснила: отчаяние ускоряет обучение. Она читала и ночью, когда профессор спал. В течение нескольких недель она ознакомилась со всеми его тетрадями, надеясь найти какие-нибудь новости о Винки, и затем принималась усваивать все те знания, что обитали на битком набитых книжных полках профессора.
Дело было не в том, что она надеялась побеседовать с профессором. Она понимала, что это было бесполезно. Просто ее отчаянию, возраставшему с каждым днем, нужен был выход Он не заслуживал ее собственных слов, и поэтому она говорила чужими. Даже страдая, ребенок играет, и Малышка Винки произнесла первое, что пришло ей на ум.
– Фуко, – добавила она, печально пародируя настоящее цитирование.
Этот последний контакт с ней поразил похитителя, но лишь на мгновение, а затем ее неожиданная попытка к речи поглотилась его многочисленными теориями о ней. Они продолжали лихорадочно будоражить его, возможно, теперь, когда он обладал ею, еще больше, чем когда-либо. Профессор достал новую тетрадь и присел, чтобы понаблюдать за своим прирученным животным, как делал это каждое утро. Он написал: «Ткань и опилки – овощ Металл и стекло – минералы. Укусы и испражнение – животное. Речь и пение – человек. Существование – невозможно!»
Увидев то, что он написал, и его очевидное удовлетворение от написанного, Малышка Винки закатила глаза.
– Неужели вы думаете, что то, что не есть красиво, обязательно уродливо? И все, что не есть мудрость, – невежество? Разве вы не знаете, что у разума есть промежуточное состояние между мудростью и невежеством? Сократ, по словам Платона. Почему у нас больше желаний, чем в той горе? Почему? Штейн.
Профессор оказался в замешательстве, услышав последнюю фразу. Он заметил, что глаза у нее печальные и старые. «Старая и при этом молодая, – сделал он запись. – Подчиненная и при этом внушающая ужас. Красивая и при этом нелепая».
– Ваш рассказ, сэр, излечит глухоту, – холодно сказала его одержимость. – Что еще видишь ты в темном прошлом и пучине времени? Шекспир, «Буря».
Теперь отшельник нахмурился. Он написал: «Возмутительно. Кажется, М.В. намеренно передразнивает меня – будто она говорит то, о чем думает, а то, о чем думает, остается для меня тайной. Будто она шутит со мной за мой же счет».
Малышка Винки подошла к тарелке и с презрением проглотила муравья.
– Он собрал коллекцию бабочек и попросил мать дать ему мышьяк, чтобы убить их, – сказала она. – Однажды по комнате довольно долго летал мотылек с воткнутой в него булавкой. – Она угрюмо присела. – Фрейд. Сон представляют смешным, потому что прямой и самый короткий доступ к его мыслям запрещен. Там же. Песня кровоточащего горла! Уитмен.
Профессор ожидал, что это маленькое существо станет в его жизни чистым голосом невинности, однако она разговаривала на его языке, языке книг, который отдавался в нем эхом печали. Он тревожно продолжил: «Ее выбор пищи, например: подлинное предпочтение или презрение – или и то, и другое?»
На мгновение Малышка Винки попыталась проникнуться переживанием к полному отсутствию такового у отшельника. Заглядывая к нему в душу, она увидела стену, за которой кипели страсти. От этого ей стало больно. «Поскольку свободное общение – самый настоящий труд, – прошептала она, – такой, что некоторые даже говорят, что этому ему надо обучаться. Лакан».
Решив, что раскрыл потенциал пленницы, отшельник принялся давать ей уроки гуманитарных и естественных наук, объясняя, что это будет напоминать концовку «Грозового перевала», если благородную девицу заметят за обучением чтению необразованного мальчика – профессор забыл имена героев, это было и неважно – в отношениях ученик – учитель мальчик и девочка начинают подходить друг другу, поскольку процесс обучения сглаживает разницу в уровне образованности и сближает их, ведь, как описывается, они склоняют головы над одной и той же книгой. Малышка Винки с горечью подумала, что засмеялась бы, если бы ее давила не выразимая словами боль утраты. Она вспомнила, как когда-то называла своего родителя по имени и он отвечал, но этого не вернешь. К чему пришел мир? Глядя на седые волоски, торчащие из носа отшельника, она сказала:
– Человек Гоббса скитается по улицам, забавно, и его волосы блестят…
Профессор щелкнул ее по носу и начал урок.
Шла примерно тринадцатая неделя заключения, когда Малышка Винки решила исчезнуть. Эта идея осенила ее как-то ночью, подарив неожиданную и почти успокоившую ее уверенность, как и осознание того, что она всегда обладала даром исчезновения. Он всегда был в ее распоряжении.
Похоже, обычное выражение ее лица основательно изменилось, поскольку на следующее утро безумец внезапно прервал урок и выпалил:
– Ты забыла про того большого медведя. Ты больше не думаешь о нем, так ведь? – Он понимал, что говорит со слишком большим чувством, но не мог сдержать себя. – Да! Об этом говорят твои глаза.
Он имел в виду, что теперь ей хотелось быть его любимицей, но это было совсем не так. Начиная хныкать, чего не делала уже несколько недель, Малышка Винки сказала, больше для себя, чем для него:
– Я хотел попробовать плоды со всех деревьев сада по имени «Мир». Уайльд. – Она вздохнула, отворачиваясь к тусклому окну. Уже так долго она созерцает этот опустевший лесной пейзаж, где нет Винки, пейзаж, похожий на пожелтевшую, покрытую толстым слоем лака, картину. Она закрыла лицо. – И все же какие потрясающие моменты можно выхватить у этого серого, медленно движущегося существа по имени «время».
Это было ее последней жалобой. Она вычислила, что ее исчезновение займет не больше нескольких дней. Оно позволит ей пройти через необходимые уровни смирения, назад пути не будет. Она стала понемногу расти. Сладкие муравьи и кислый сыр накапливались в ее тарелках. Она смотрела в окно так же печально, как и раньше, однако теперь она надеялась увидеть своего родителя не в лесу, а в ином мире, каким бы он ни был, прошлым или будущим, и во что бы они в нем ни превратились.
Порой она уже находилась там, то ли вспоминая, то ли еще предвкушая, она не знала точно. Не здесь и не сейчас представлялась ей в виде тысяч сложных событий и эпох история за историей, и все они не просто были возможны, а уже существовали во всей своей красе.
Прошло немного времени, когда отшельник заметил, что она светится, потому что вначале этот свет не затмевал то небольшое сияние, что всегда окружало его любимицу с тех пор, как он впервые ее увидел. Он продолжал обучение и полагал, что ее более редкие ответы являлись признаком примирения с новыми условиями жизни, которые он ей предоставил. Он даже с нетерпением ждал дня, когда сможет развязать ее.
Но однажды вечером, когда он выставил тарелку свежих муравьев, выкинув из нее тех, что она не съела до этого, его поразил золотистый отблеск на крошечных тускло-коричневых шоколадных фигурках. Он взглянул на источник света и увидел своего любимого медвежонка. Хотя ее стеклянные глаза оставались печальными и опущенными вниз, не выдавая, таким образом, ее плана, он догадался – с ужасом и, словно пророк, понимая, что его желания безнадежны – она уходит, она уже почти ушла от него.
Во всем мире она была единственной, кто был таким же уникальным и странным существом, как он сам. Он надеялся, что их аномальная сущность сделает их союзниками, но понимал, что этого не случится. Она не могла жить в заключении. Она увядала, как дикий цветок, и ее увядание было светом. Так и не сумев подчинить себе это милое существо из ткани, ему оставалось лишь контролировать увядающий цветок.
А может, это он увядал? Его сердце выскакивало из груди. На самом деле сердцу уже давно нужен был отдых; этого он тоже не замечал.
– Умоляю… – произнес он.
Чудо-ребенок сказал:
– Проанализировав этот случай, ты ясно увидишь, что проявление любви – это плод милосердия, а не природы.
Отшельник упал замертво.
То ли она сама, то ли ее свет начал издавать шум, который разнесся по всему лесу; казалось, он исходил из каждой веточки. Вскоре пронизывающая музыка дошла до спящего Винки.
Его глаза резко открылись. Прошли месяцы, а он так и лежал в том же месте, его уже оплела лоза. Он снова стал почти игрушкой.
Но даже в этом неподвижном мраке, пока Винки лежал, окруженный густым лесом, не в состоянии ни что-либо знать, ни делать, он слышал крики своего драгоценного ребенка. Теперь они, похоже, стали громче и поэтому разбудили его, но, когда он проснулся, от них остался лишь непрекращающийся звон, похожий на эхо орга́на в соборе.
Он тяжело встал и нетвердой походкой стал продираться сквозь листья, сломанные ветви, папоротник, старые шины, грязь, пластиковые упаковки, дикие цветы, кучи навоза, пепел от костров, ежевику. Не обращая внимания на порезы и ссадины, он шел на крик умирающего ребенка. Свист-звон-жужжание – все росло, и он вышел на опушку.
Там, в грязном окне хижины, он увидел Малышку Винки, чей мех горел золотом пламени, разгораясь все сильнее, – бесподобное видение, полностью состоящее из света.
Его единственное дитя обернулось, и, увидев, что ее родитель наконец пришел за ней, малышка поняла, что ее исчезновение представляет собой не просто какое-то отдельное действие, а дикий спектакль для того, кто произвел ее на свет. Оно было похоже на самый нелепый танец, который только можно было себе представить. Светясь, она слегка пожала плечами, будто желая сказать:
– Посмотри. Еще одно чудо.
Понял ли ее Винки? Глядя на своего пылающего ребенка, он знал, что все это лишь вопрос, касающийся того, что можно отнять и чего нельзя. Как выяснилось, он произвел на свет ангела. Ее маленькие муки не могли искупить ничьих грехов, хотя и были символичны, как и все страдания, как любая пытка и, следовательно, как любая нелепость. Со слезами на глазах он вопрошающе поднял голову. И пока он смотрел на нее, она, словно светлячок, внезапно погасла, загорелась снова и исчезла.
* * *
Перед своим исчезновением Малышка Винки начала писать мемуары, при свете луны, на огромном блокноте, который она обнаружила в ящике стола, к которому была привязана. Винки наткнулся на него спустя некоторое время – блокнот был спрятан позади стола. Несмотря на то что ее короткая жизнь была так жестоко оборвана, ребенку, видимо, было что вспомнить. Листы были с обеих сторон покрыты сотнями заметок и отрывков – люди, места, события. И хотя Винки ничего не знал об этих людях, местах и событиях, он каким-то образом прекрасно понимал написанное. Вот чем заканчивались записи:
Когда мы в тот день приехали, нам сообщили о смерти Оскара Уайльда. Моя подруга Габриэль была еще более потрясена, чем я. Мы бродили по портовому городу, словно в бреду. И когда мы направились к центру вдаль узких извилистых улочек, мы заметили, как все вокруг изменилось: новые ресторанчики и кафе, которых раньше не было, странного вида курортные закусочные, даже миниатюрный белый замок с четырьмя фальшивыми башенками – все это, казалось, было знамением нового духовного начала, которое должно было появиться. Ярко светило солнце. Мы зашли в одно из этих заведений и присели перед небольшим внутренним двориком.
Зная, что это был день, когда жизнь надо было есть большой ложкой, Габриэль без колебания дала официанту согласие на участие в представлении с бабочками. Я с гордостью наблюдал, как моя возлюбленная, с которой мы не расставались вот уже пятнадцать лет, в своем черном бархатном платье выскользнула из стеклянной двери и царственно остановилась у складного столика во дворике. Я смотрел на нее со слезами на глазах. Улыбаясь толпе, Габриэль засунула руку в одну из трех оранжевых банок, и оттуда, сверкая на фоне ее черного рукава, испачканного в меде, когда она вытащила руку из глиняной посуды, показалась неописуемой красоты бабочка.
Она проделывала это снова и снова, и каждый раз на ее рукаве появлялась новая переливающаяся бабочка, летящая на мед и бархат. Ее крылья нежно хлопали – радужно-голубой на фоне огненно-оранжевого, или золотой в окружении ровного белого, или бледно-зеленый с алым на черном. И тогда я не выдержал, даже в такой день, когда преследование и заключение, казалось, одержали победу раз и навсегда, я знал, что наступил переломный момент и нас ждет только хорошее, которое довольно скоро сменится плохим, возможно, невообразимо плохим, а позже – снова хорошим, может, даже невообразимо хорошим – и так снова и снова. Габриэль, моя подруга, стояла освещенная солнцем нового века.
Ницца, 1900
Винки оплакивает потерю
Равномерно затянутое серыми облаками небо приглушало все цвета. Опало много листьев, и деревья казались оголенными, и в то же время на расстоянии мелкие ветки делали их пушистыми, словно деревья были из плюша. В опавших, но при этом невероятно желтых листьях виднелись отблески света. Меж голых деревьев тихим костром желто-зеленого, оранжево-розового или коричнево-красного пылали те, на которых еще оставалась листва.
Прошло несколько недель с тех пор, как Малышка Винки исчезла. Вспоминая, как светилось в окне его утраченное дитя, Винки теперь повсюду видел свет – мириады огоньков.
Округлое дерево с переплетенными ветвями и крошечными дикими яблоками, казалось, распылило повсюду ярко-оранжевые точки, которые дереву было легче рассеять в спокойный серый свет полуденного леса. Каждый куст и каждая ветка старались избавиться от чего-нибудь, а именно – от света каждого невероятно яркого листочка или ягоды, которые улавливал глаз, словно счетчик Гейгера. Перед тем как листьям приходило время упасть, они должны были попрощаться с лучами, пронизывающими их; от света, а не от листьев должны были избавиться деревья.
С взъерошенных облаков падал серый свет, и его снова поглощала их мягкость, будто это был хлопок или тело Винки. Медведь должен был впитывать и еще раз впитывать суровые, унылые факты, в том числе и собственное отчаяние. Он поднял голову и взглянул на решетку из темно-золотых и зеленоватых листьев клена, чьи огромные ветви переплелись, словно змеи на голове у Медузы, но безобидной формы. Казалось, дерево слишком активно и при этом тщетно пытается отбиться от медведя.
Картина напоминала ему жест полусумасшедшего, безумно встревоженного, однако без видимой причины, нелепо предостерегающего его, что вот-вот случится нечто ужасное. Но было уже поздно.
Если бы только он не оставил ее одну в тот день. Ей хотелось пойти вверх по ручью, он отпустил ее, а потом…
Винки шел под осенними деревьями. Тусклые коричневые листья падали вокруг него на тропинку. Раньше под этими деревьями шли двое, теперь – лишь один. Винки шел под осенними деревьями один.
Он вернулся в хижину отшельника, где жил вот уже месяц, ожидая получить какой-нибудь знак того, что ребенок все же вернется.
Отшельник был мертв, и Винки убрал его тело. Медведь выбрал место, которое было большим из двух зол: лес без Малышки Винки или хижина без Малышки Винки, это страшное место, в котором она исчезла. Его инстинкт остаться здесь был таким же сильным, как стремление вырыть яму и похоронить тело.
В первые секунды после того, как его ребенок покинул эту Землю, Винки охватило любопытство, и он рискнул осмотреть безжизненное тело мучителя. Оно лежало на полу хижины, внутренняя часть которой больше не озарялась светом, а представляла собой лишь самые обыкновенные предметы из дерева, пыль и давнишние запахи готовившейся когда-то еды.
Отшельник больше не был чудовищем. В состоянии вечного покоя он казался даже милым – тихий бородатый старичок, который подкармливает зверюшек и разрешает им сидеть у себя на плече. Дело было не в том, что это понравилось бы Винки. Просто медведь понимал, почему старик мог бы нравиться таким животным, как, скажем, бурундуки или дрозды.
Такое ни в коей мере не пришлось бы по душе Малышке Винки, даже если бы отшельник на самом деле был хорошим человеком, и от этой мысли медведь вздрогнул. Он сделал вид, что ни о чем подобном не подумал, потому что знал, что это была горестная мысль. Винки еще не был готов признать, что ему надо было оплакивать дитя. Он пнул тело профессора, чтобы убедиться, что тот мертв. Последовавший глухой стук мог издавать только мертвец.
В самой глубине своего сердца медведь знал, что Малышка Винки ушла навсегда, но он убеждал себя, что она все еще может вернуться, и если существовала хоть какая-то вероятность того, что так и будет, он должен был убрать отшельника-злодея с глаз долой, чтобы тот больше не отпугивал и без того напуганного ребенка. От постоянной боли и безысходности в нем что-то взорвалось.
Винки схватил мертвеца зубами за грязный фланелевый воротник и начал рывками тянуть его к открытой двери. Это оказалось так тяжело, трудно и невыносимо медленно, что вся тщетность усилий стала тут же очевидна. Винки заплакал. Он понимал, что не откажется от своей затеи, и от этого плакал еще сильнее.
С каждым рывком на несколько сантиметров вперед одежда профессора издавала особенные короткие скрипяще-свистящие звуки, тершись о пол хижины. В такой момент без этого звука обойтись было нельзя. Винки знал, что мог подобрать для такого момента и другой звук, возможно, разрывая плоть отшельника зубами и выплевывая его куски, а затем разгрызая хижину на мелкие кусочки и тоже их выплевывая.
Но он выбрал это занятие – тянуть его, – и следовательно, это было его судьбой, а шум при движении стал его пожертвованием в ужасную тишину лесных сумерек, в которой теперь нигде не отыщешь Малышки Винки. Где-то каркнула ворона. Запели сверчки. Тянуть и еще раз тянуть. Винки почти ничего не видел – его глаза затмевали слезы, – но было важно закончить начатое. Затем можно будет услышать другие звуки, когда он станет копать яму, зарывать тело и топать по земле, что означает то же, что и топать по самому мучителю.
Ничего из вышеперечисленного не облегчит боль, поэтому Винки было и неважно, чем именно он занимался; и все же сейчас перед медведем стояла важнейшая задача – избавить мир от этого большого мертвого ничтожества, которое теперь катилось по трем бетонным ступенькам хижины.
Ранняя осень незаметно сменилась поздней. Каждое утро Винки выглядывал из грязного окна и видел милых животных, занимающихся своими милыми делами: кролики прыгали и щипали траву, белки быстро и ловко находили орехи, у них светились глаза, – и его охватывала невыносимая печаль.
То, каким образом Малышка Винки умерла, казалось ему и возможным и невозможным. Малышка Винки была для него самой жизнью – самой любовью, – так как же могла она умереть?
Он искал и не мог найти ответы, как он тысячу раз в день искал и не мог найти Малышку Винки. Любишь, но не можешь найти, постоянно смотришь, но не видишь. Все это только усугубляло и без того тяжкое состояние от неопределенности самого бытия Винки, подвешивало его между осознанием себя как медведя и как игрушки, между духом и материей, человеческим и естественным миром. Он больше не знал, чего хотеть и куда идти.
Однажды, гуляя по лесу, медвежонок стал думать о том, как войти в другое измерение, и действительно в печальных золотых сумерках, склоняющихся над тропинкой, он вскоре замерцал, становясь зазубренным и принимая форму трапеции под голыми деревьями. Но то измерение причиняло такую же боль, как и это, или даже большую, и ни в одном из них Малышки Винки было не найти. Приняв свою прежнюю форму, Винки поплелся назад в хижину.
* * *
Ему следовало бы запастись на зиму желудями, как он это делал год назад с Малышкой Винки, когда та была еще младенцем, крепко державшимся за его спину. Но скрипучие полки в хижине отшельника были до самых стропил заставлены дешевыми консервами, которых медведю хватило бы еще надолго. Год назад Винки счел бы ниже своего достоинства воспользоваться открывалкой для консервов, но зачем было церемониться теперь? Он позволил себе вернуться к нормальному человеческому быту, с которым однажды так решительно распрощался – стол и стул, мягкая кровать, одеяла, тепло и спагетти.
Когда-то он был неживой игрушкой, часто рассерженной и печальной, теперь же он жил даже не как медведь, а скорее как маленький человек. Маленький грязнуля, потому что скидывал в кучу в углу хижины пустые консервные банки. Он никогда не мыл ложки и не застилал кровать. Все книги, одежда, оружие и бумаги профессора лежали грудой на полках, полу, столе, в них целыми днями рылись крысы и птицы, повсюду оставляя помет. Винки начал допоздна засиживаться у телевизора, настроенного на канал, по которому в основном показывали рекламу тренажеров, поэтому просыпался поздно. Лежа на грязном, сбитом в куму одеяле, он каждое утро, осматривая растущий беспорядок в хижине, говорил себе:
– Хорошо.
Неторопливо тянулись недели. Вдали – та же птица исполняет свое поминальную песню. Каждый день Винки подходил к окну и наблюдал, как с дерева падают последние листья. Затем все листья внезапно опали и пение прекратилось.
Винки механически, не думая, взялся за уборку. Он знал, что без грязи и невообразимого беспорядка хижина будет жуткой и пустой, но не мог остановиться. У него болела спина, когда он тер, тащил, доставал, наклонялся. В куче книг и бумаг он наткнулся на видеокассеты с надписью «Малышка Винки в заточении».
Он и раньше их замечал. И хотя Винки понимал, что что-то ищет, это было не тем, что он хотел бы найти. У него не было желания смотреть на своего ребенка в плену. Он подумал о том, чтобы сжечь пленки, но решил, что и это тоже не подойдет, а потому забрался на стул и швырнул их на самую высокую полку, пробормотав:
– Убери. Убери.
И в этот момент, посмотрев вниз, чтобы успокоиться, он заметил мемуары Малышки Винки – толстый желтый блокнот, засунутый между столом и окном. Он спустился, прилег на край стола и схватил блокнот своей матерчатой лапой. Страницы были прохладными и топорщились от чернил. У него немного закружилась голова, как бывает, когда карусель замедляет ход и ты хватаешься за медное кольцо.
Винки вытащил блокнот из укромного места и аккуратно пригладил его, положив на стол. Он сел, скрестил лапы и начал читать.
Множество рассказов с разными героями, но в каждом из них был один и тот же рассказчик. Его охватывал клубок необъяснимых ощущений – он гордился тем, что ему довелось прочитать подобное, ему казалось, он сделал открытие, столкнулся с судьбой. Ему хотелось, чтобы дневники не заканчивались. И поэтому, когда он перевернул последнюю исписанную страницу, одна за другой из банки стали появляться бабочки, он понял еще раз, что его жизнь с Малышкой Винки не вернешь. Он не смог спасти ее. Его слезы упали на желтую исписанную страницу.
Пустота. Винки посмотрел в окно. Уже стемнело, и даже не было дождя. За окном ничего не происходило.
Но именно в ту самую ночь ему и приснился сон: в воздухе перед ним парит Малышка Винки; трепещущая бесконечность ее взгляда; «Думай о прошлом»; и она исчезла навсегда.
Тогда Винки проснулся, и его охватили грусть, недоумение и гордость за свое дитя, те же, когда она исчезла в первый раз. Он понял, что это и были его чувства к Малышке Винки, окончательные. Телевизор продолжал работать, по-особенному мигая то темным, то светлым, вызывая таким образом интерес у покупательской аудитории. Он выключил его. Винки словно качался на качелях, переживая еще более глубокое отчаяние. Попытавшись понять смысл того, что сказал ребенок, он снова заснул, и ему опять приснился сон.
Это была вторая часть того же сна. Перед ним предстали образы из его долгой игрушечной жизни: дети, которых он любил, их семьи, и каждый из них махал ему на прощание рукой с таким особенным выражением глаз, что грусть и чувство потери пронзали его, как самый острый нож. Он давно не вспоминал эти образы: Рут еще маленькая девочка, ее сестра, брат, родители и затем своя семья у Рут, один за другим ее дети: Кэрол, Хелен, Пол, Кен и, наконец, Клифф; и каждый из них брал медведя на руки со взглядом, полным любви и решительности, каждый из них вырос и бросил медведя. Но во сне Винки оставил их – он уезжал от них на огромном белом плавучем театре, и звуки его ансамбля банджо разносились по зыби широкой коричнево-зеленой реки. На нем были надеты короткие гетры и цилиндр, он танцевал, но на палубе не было зрителей, лишь взрослые и дети, стоявшие на грязном берегу, махали ему на прощанье рукой.
Он уже несколько лет не думал о них. Возможно, самым страшным было забыть то, что потеряно.
Объятия, тайны, истории, игры, карандаши, мишура, подарки, слезы, трепка, предательства, собачки, прозвища, руки, прижимания, два плюс два, поцелуи, фейерверк, детские коляски, прогулки – все это кружилось в водовороте, появившемся на ровной поверхности реки вслед за гребным колесом судна, что весело гудело «ту-ту» и издавало грохот, который не успокаивал Винки, не предвещал никакого несчастья – он был просто неизбежен под танцующими ногами Винки.

Любишь, но не можешь найти
Вздрогнув в своей постели, он проснулся.
Было раннее утро. Он вышел на улицу, чтобы облегчиться. Сидя на корточках, он с горечью вспоминал, как когда-то это простое занятие доставляло ему столько удовольствия. Он обвел глазами лес, который все так же любил: высокие деревья, чириканье воробьев, желтые лучи солнца меж сотен голых веток. Он позволил своему разуму замереть, и на какое-то мгновение мир и его радость снова влились в него потоком.
Теперь, увидев вторую часть своего сна, он понимал, что когда, привидевшись ему, Малышка Винки сказала: «Думай о прошлом», она имела в виду не последние события, а то, что происходило давно.
Это прощание с лодки было лишь началом воспоминаний о других детях, которых он знал. В своей новой жизни, где была Малышка Винки, ему ни разу не захотелось оглянуться назад, в прошлое – не было нужды думать о тех годах, что он прожил в качестве игрушки, но теперь он понимал, что долгое прошлое тоже было наполнено любовью и болью и что, следовательно, те годы также были частью его. Даже несмотря на, то что они безвозвратно и давно ушли.
Продолжая вспоминать о времени, когда еще не было Малышки Винки, старый медведь внезапно осознал, насколько маленьким он был под этим огромным сводом деревьев. Он посмотрел на свою округлую тень на ушедших в спячку ветках, и ему снова захотелось плакать. Не нашлось утешения в том, чтобы вспоминать забытые ступени, что привели его к этому одинокому месту. Но было очевидно, что воскрешать воспоминания – его долг, и он продолжил. Он отложил это занятие до заката и потом ночью предался воспоминаниям – лихорадочно, сначала вспоминая лишь обрывками, а затем остановившись на том грустном, счастливом, полном недовольства времени, когда его называли Мари.