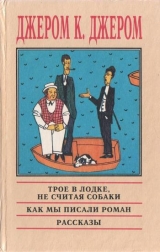
Текст книги "Веселые картинки"
Автор книги: Клапка Джером Джером
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Однажды ночью он видел во сне очень ясно, что Миванвей пришла к нему и протянула ему руку. Он взял ее, и они примирились. Он стоял на скале, где в первый раз встретил ее, и один из них отправлялся в далекий путь, хотя он и не знал, кто именно. В городах люди смеются над снами, но вдали от цивилизации мы более охотно прислушиваемся к странным сказкам, которые нашептывает природа.
Чарльс Сибон вспомнил об этом сне, когда проснулся утром и подумал: она умирает и пришла проститься со мною. Он решил тотчас же возвратиться в Англию, думая, что, может быть, если он поторопится, то приедет вовремя, чтобы поцеловать ее. В этот день, однако, он не мог поехать, потому что у него на руках была работа, а Чарльс Сибон, хотя и влюбленный, сделался человеком, который знал, что работой нельзя пренебрегать ради влечения сердца.
Он пробыл на месте еще день или два, а в третью ночь ему опять снилась Миванвей, лежащая внутри небольшой капеллы в Бристоле, где по воскресеньям он часто сиживал с ней. Он слышал, как ее отец читал заупокойную службу, а ее сестра сидела рядом с ним и тихо плакала. Тогда Чарльс понял, что нет никакой надобности торопиться. Он остался, чтобы закончить свою работу, а после этого думал возвратиться в Англию. Ему хотелось еще раз постоять на скале, над небольшим селением в Карновалисе, где они в первый раз встретились.
Итак, спустя несколько месяцев, Чарльс Сибон, или как он теперь называл себя, Чарльс Деннинг, постаревший и загоревший, сильно изменившийся, вошел в Кромлеч-Армс, точно так же, как и шесть лет тому назад он вошел туда с дорожным мешком на спине, и потребовал комнату, говоря, что пробудет в деревне несколько дней.
Вечером он вышел на прогулку и отправился к скалам. В полумраке он достиг того места, которое поэтичные корнвалийцы называли «Треножником ведьм». С этого места он в первый раз увидел, как Миванвей поднималась к нему с берега моря. Он вынул изо рта трубку и, облокотившись на скалу, смотрел вниз на дорожку, становившуюся все более неясной в полусвете вечера.
В то время как он смотрел, фигура Миванвей медленно поднялась с моря и остановилась перед ним. Он не чувствовал никакого страха, так как ожидал этого. Ее появление было только концом его сна. Она выглядела постаревшею и более серьезной, чем в былое время, но лицо ее было еще более приятным. Она удалялась. Заговорит ли она с ним? Но она только печально смотрела на него. Он стоял неподвижно в тени скал, а она прошла мимо и скрылась в полумраке.
Если бы по возвращении он поговорил со своим хозяином или даже послушал, что болтливый старик хотел ему рассказать, то узнал бы, что молодая вдова, по имени мистрисс Чарльс Сибон, в сопровождении своей незамужней сестры, недавно приехала и остановилась в их местности, заняв по смерти прежнего жильца небольшой домик на расстоянии около мили, за деревней, и что ее любимой вечерней прогулкой была прогулка к морю и назад по отвесной дорожке около «Треножника ведьм».
Если бы он пошел за фигурой Миванвей, то увидел бы, что, пройдя «Треножник ведьм», она пустилась бежать, пока не добежала до своей двери и, затем задыхаясь, упала на руки другой фигуры, которая поспешила встретить ее,
– Дорогая моя, – сказала старшая женщина, – вы дрожите как лист. Что случилось?
– Я видела его, – ответила Миванвей.
– Видела, кого?
– Чарльса.
– Чарльса? – повторила другая, смотря на Миванвей и думая, по-видимому, что она сошла с ума.
– Его дух, конечно, – объяснила Миванвей торжественным голосом. Он стоял в тени скал, в том самом месте, где мы впервые встретились. Он выглядел старше и несколько утомленным и, о, Маргарита! Таким печальным и упрекающим.
– Дорогая моя, – сказала ей сестра, вводя ее в дом, – вы переутомлены. Лучше было никогда не приезжать нам в этот дом.
– О, я совсем не испугалась, – ответила Миванвей, – я ожидала его каждый вечер. Я так рада, что он пришел. Может быть, он придет опять. Я попрошу его простить меня.
На следующую ночь Миванвей, не обращая внимания на мольбы и советы ее сестры, отправилась на обычную прогулку, а Чарльс в то же время отправился туда же из своего трактира. Миванвей вновь увидала его, стоящим около скалы, а Чарльс решился, если увидит ее опять, – заговорить. Но когда он увидал молчаливую фигуру Миванвей, остановившуюся и смотревшую на него, его решимость исчезла. Он ни капли не сомневался, что перед ним стоит дух Миванвей.
Некоторые смеются над видениями других людей, но считают свои собственные действительностью, а Чарльс последние пять лет жил в среде людей, верующих, что мертвые живут около них. Наконец собрав силы, он решился заговорить, но как только он произнес первое слово, фигура Миванвей побежала прочь от него, и он успел только вздохнуть. Миванвей ушла в долину, а Чарльс смотрел вслед за ней.
На третью ночь оба явились к страшному месту, решившись заговорить во что бы то ни стало. Чарльс заговорил первым, когда фигура Миванвей, с печально направленными на него глазами, появилась перед ним. Он выдвинулся из тени скал и остановился перед ней.
– Миванвей! – сказал он.
– Чарльс! – ответила фигура Миванвей.
Оба говорили торжественным шепотом, прилично обстоятельствам, и оба с глубокой грустью смотрели друг на друга.
– Счастливы ли вы? – спросила Миванвей.
Этот вопрос может показаться несколько смешным, но не нужно забывать, что Миванвей была дочерью евангелиста старой школы и была воспитана в прежних понятиях.
– Так счастлив, как я этого заслужил, – было печальным ответом.
Этот ответ, намекавший не очень благосклонно на земные заслуги Чарльса, заставил Миванвей похолодеть.
– Как я могу быть счастлив, потеряв вас, – продолжал голос Чарльса.
Эта речь очень понравилась Миванвей. Во-первых, это избавляло ее от отчаяния относительно будущего Чарльса. Конечно, его теперешние страдания были очень велики, но была надежда на лучшее впереди, во-вторых, это было безусловно милая речь для духа, а я совсем не уверен в том, что Миванвей отказалась бы от небольшого флирта с духом Чарльса.
– Может быть вы простите меня? – спросила Миванвей.
– Может быть вы простите меня? – спросил Чарльс в благоговейном удивлении. – Можете ли вы меня простить? Я был животным, дураком, я не достоин был любить вас.
Замечательно благовоспитанный дух, как кажется. Миванвей перестала бояться его.
– Мы оба были виноваты, – ответила Миванвей.
На этот раз в ее голосе было уже менее покорности.
– Но больше всего была виновата я. Я была капризным ребенком и не знала, как глубоко я вас любила.
– Вы меня любили? – повторил голос Чарльса, немного приостанавливаясь над словами, как будто чувствуя всю их сладость.
– Уж, конечно, вы в этом не сомневались, – отвечал голос Миванвей. – Я никогда не переставала любить вас. Я буду любить вас всегда и во веки веков.
Фигура Чарльса прыгнула вперед, как будто бы он хотел заключить в свои объятия дух Миванвей, но вдруг остановился на расстоянии одного или двух шагов.
– Благословите меня прежде, чем вы уйдете, – сказал он.
И с открытой головой фигура Чарльса преклонилась перед фигурой Миванвей.
Право, духи подчас могут быть замечательно любезны, если они этого хотят.
Миванвей милостиво склонилась над своей дорогой тенью, но в этот момент ее глаза заметили что-то на траве, и это что-то было хорошо раскрашенной пенковой трубкой. Нельзя было принять это ни за что другое даже при этом неровном свете. Трубку эту Чарльс выронил из кармана жилета, опускаясь на колени.
Следя за глазами Миванвей, Чарльс тоже увидал ее, вдруг вспомнив о запрещении курить, не останавливаясь, чтобы обдумать ненужность этого движения, инстинктивно схватил трубку и спрятал ее назад в карман. А затем целая волна понимания и удивления, страха и радости пронеслась в мозгу Миванвей, она почувствовала, что она должна рассмеяться или закричать, и поэтому расхохоталась. Порыв за порывом ее хохот перелетал между скалами и Чарльс, вспрыгнув на ноги, едва успел подхватить ее на руки, как она упала без чувств.
Спустя десять минут, старшая мисс Эванс услышала тяжелые шаги и подошла к двери. Она увидала то, что ей показалось духом Чарльса Сибона, сгибавшимся под тяжестью безжизненного тела Миванвей, и, вполне естественно, это видение испугало ее; но просьба Чарльса достать немножко водки звучала по человечески, а необходимость помочь Миванвей удерживала ее от вопросов, которые могли довести человека до безумия.
Чарльс отнес Миванвей в ее комнату и положил ее на кровать.
– Я ее оставлю с вами, – прошептал он старшей мисс Эванс. – Ей лучше будет не видеть меня до тех пор, пока она вполне оправится.
Чарльс ждал в полутемной комнате, как ему казалось, долго, но, в конце концов, старшая мисс Эванс возвратилась.
– Ну, теперь все в порядке, – услышал он ее слова.
– Я пойду посмотреть ее, – сказал он.
– Но она в кровати! – воскликнула сконфуженная мисс Эванс.
Чарльс рассмеялся.
– О, да, да, конечно, конечно! – вспомнив кто он, в смущении пробормотала мисс Эванс.
И затем старшая мисс Эванс осталась одна, села, и старалась побороть в себе убеждение, что она видела сон.
Опаснее врага
Знающие люди говорили мне (и я этому верю), что девятнадцати месяцев от роду он плакал от того, что бабушка не позволяла ему кормить ее с ложки, а в три с половиною года его, совершенно измученного, вытащили из чана с водою, куда он забрался, чтобы поучить лягушку плавать. Два года спустя он навсегда испортил левый глаз, показывая кошке как носить котят, не принося им никакого вреда, и почти в то же время его опасно ужалила пчела, которую он тащил с цветка, где она, по его мнению, тратила напрасно время, к другому, более богатому медом.
Его постоянным желанием было помогать другим. Он готов был целое утро объяснять старым курам, как нести яйца, или целый день просидеть дома и щелкать орехи для своих белок. На седьмом году он вступил в спор с матерью о воспитании детей и упрекал отца за то, что тот дурно его воспитывает. Ребенком он не мог иметь большей радости как в то время, когда уговаривал других детей хорошо вести себя. Без всякой надежды на награду или благодарность он принимал на себя совершенно добровольно эти тяжелые обязанности и для него было совершенно все равно, были ли другие дети старше или моложе, слабее или сильнее его. Где бы они ни встретились ему, он принимался делать им выговоры. Однажды, во время школьной рекреации, из леса послышались жалобные крики; когда его отыскали, то увидели, что он лежит на земле, а на нем сидит и преисправно его колотит его двоюродный брат, вдвое выше его. Учитель, освободив его, спросил:
– Почему вы не играете с маленькими мальчиками? Что вы делали здесь с ним?
– Ах, сударь, – был ответ, – я ему делал выговор.
Нет сомнения, что он сделал бы выговор Ною, если бы ему удалось поймать его.
Он был очень добрый мальчик и даже в школе уговаривал всех списывать с его доски. Им руководило доброе желание, но так как все его ответы постоянно отличались особого рода неподражаемой неправильностью, свойственной ему одному, то результаты для его последователей были в высшей степени нежелательными и потому они ожидали его у выхода и безжалостно колотили, благодаря своей необдуманности, судя только по результатам.
Вся его энергия уходила на обучение других, так что ничего не оставалось для него самого. Он приводил здоровых молодцов в свою комнату и учил их боксировать.
– Ну-ка, попробуй, ударь меня по носу, – говорил он, становясь перед таким молодцом в позе для защиты. – Не бойся, бей как можно сильнее.
Так и делали.
И как только он немного оправлялся от своего удивления и унимал кровь, сейчас же объяснял им, что они поступили дурно и что он легко мог отразить удар, если бы они ударили правильно.
Однажды, во время бурного перехода через канал, он, в странном возбуждении, кинулся на мост и закричал капитану, что видел свет на расстоянии около двух миль налево. А если он был наверху конки, то всегда садился рядом с кучером и указывал ему препятствия, которые могли задержать их движение.
На конке я с ним и познакомился. Я сидел позади двух дам. Когда кондуктор подошел к ним, чтобы получить плату, одна из них подала ему шесть пенсов, говоря, что она едет к Кругу Пикадилли, а это стоит два пенса.
– Не так, – сказала своей подруге другая леди, подавая кондуктору шиллинг, – я вам должна шесть пенсов. Дайте мне четыре пенса, и я заплачу за обеих.
Кондуктор взял шиллинг, проколол два билета по два пенса и затем стал вычислять, сколько дать сдачи.
– Так и есть, – сказала дама, говорившая последней, – дайте моей подруге четыре пенса.
Кондуктор так и сделал.
– А теперь дайте эти четыре пенса мне.
Леди передала их ей.
– А вы, – обратилась она к кондуктору, – дайте мне восемь пенсов, вот мы и в расчете.
Кондуктор дал ей восемь пенсов. Шесть пенсов, которые он взял от первой леди, пенни и две полупенни из своего кармана, и удалился, ворча о том, что в его обязанность не входит быть счетной машиной.
– Теперь, – сказала старшая дама младшей, – я вам должна шиллинг.
Я думал, что дело закончено, как вдруг блестящий господин на противоположной скамейке закричал громким голосом:
– Эй, кондуктор, вы обманули этих дам на четыре пенса.
– Кто кого обманул на четыре пенса? – закричал негодующий кондуктор с верху лестницы.
– Нужно было заплатить по два пенса, два раза по два пенса! – воскликнул блестящий господин. – Сколько вы ему дали, моя дорогая? – спросил он, обращаясь к первой, более молодой даме.
– Я дала ему шесть пенсов, – ответила дама, смотря в кошелек, а затем я дала вам четыре пенса, – прибавила она, обращаясь к своей попутчице.
– Ну, вот это невозможно, моя дорогая, – ответила дама, – потому что с самого начала я должна была вам шесть пенсов.
– Но я дала… – продолжала первая дама.
– Вы дали мне шиллинг, – сказал кондуктор, обращаясь к старшей из дам.
Та кивнула головой.
– Ведь вам я дал шесть пенсов и два пенса.
Дама подтвердила.
– А вам я дал, – обратился он к младшей даме, – четыре пенса. Да?
– А я отдала их вам, моя дорогая, – заметила младшая дама.
– Черт побери, да ведь это меня надули на четыре пенса! – закричал кондуктор.
– Но, – сказал блестящий господин, – другая дама дала вам шесть пенсов!
– А я их отдал ей, – ответил кондуктор, указывая на старшую даму. – Можете обыскать мой карман, если хотите; у меня нет ни одной монеты в шесть пенсов.
К этому времени уже все забыли, что они сделали, и противоречили друг другу и самим себе. Блестящий господин взялся привести все в порядок, и сделал это с таким искусством, что прежде, чем мы доехали до Круга Пиккадилли, три пассажира угрожали пожаловаться на кондуктора за неприличные выражения. Кондуктор позвал полицейского и записал имя и адрес двух дам, желая взыскать с них четыре пенса, которые они рады были заплатить, но им не позволил блестящий господин.
Молодая дама была убеждена, что старшая хотела обмануть ее, а старшая была в слезах.
Я и блестящий господин продолжали путь к Чаринг Кроссу. Оказалось, что мы едем в одно и тоже предместье, и мы отправились в одном и том же вагоне.
Всю дорогу мы говорили об этих четырех пенсах. Около ворот мы пожали друг другу руки, и он выразил свое удовольствие, узнав, что мы жили близко друг к другу. Я не мог понять, что его ко мне привлекло, а мне он порядком надоел. Я смеялся над ним, сколько мог. Впоследствии я узнал, что одной из его особенностей было – быть очарованным всяким, кто открыто не смеялся над ним.
Три дня спустя он без доклада ворвался в мой кабинет. Казалось, что он считал уже меня своим закадычным другом, и просил извинить его за то, что не пришел раньше.
– Я встретил почтальона, когда он подходил, – сказал он, подавая мне синий конверт, – и он дал мне это для передачи вам.
Я увидал, что это было требование водопроводного налога.
– Мы должны избавиться от этого, – продолжал он. – Это требование за воду до 29 сентября. Нет никакого основания платить за это в июне.
Я ответил, что водопроводный налог нужно платить, и мне кажется неважно, плачу ли я его в июле или сентябре.
– Это не так, – ответил он, – тут дело в принципе. К чему вам платить за воду, которой вы не получили? Какое право они имеют требовать того, чего вы не должны?
Он был большой говорун, а я достаточно глуп для того, чтобы выслушать его. Через полчаса он убедил меня, что этот вопрос связан с вопросом о неотъемлемых правах человека, и если я заплачу эти 14 шиллингов и 10 пенсов в июне, а не в сентябре то буду недостоин тех привилегий, за которые боролись и умирали мои предки. Он сказал мне, что компания не имеет никакой опоры, и по его совету я сел и написал председателю водопроводной компании оскорбительное письмо. Секретарь ответил мне, что, принимая во внимание положение, которое я занимаю, они принуждены будут заняться этим вопросом раз навсегда, и высказал предположение, что мой адвокат окажет мне требуемые услуги.
Когда я показал ему это письмо, он был очарован.
– Предоставьте-ка это мне, – сказал он, пряча в карман письмо, – мы утрем им нос.
Я отдал ему письмо.
Моим извинением может быть то, что в этот момент весь мой маленький ум был занят окончанием комедии. Решение судьи несколько охладило мой пыл, но распалило его усердие. Судьи, по его мнению, были только старыми дураками. Это должен решить коронный суд. Судья был старым добряком и сказал, что принимая во внимание неполноту выражения пункта, он не считал возможным присудить в пользу компании судебные издержки, так что, в конце концов, я отделался чем-то около пятидесяти фунтов стерлингов, включая в это и первые 14 шиллингов и десять пенсов.
Вслед за этим наша дружба охладела, но живя в таком глухом предместье, я поневоле часто видел его и еще чаще слышал о нем. На разных балах он особенно бросался в глаза. В таких случаях он был в самом лучшем расположении духа и потому особенно опасен. Ни один человек не заботился так много о развлечении других, или более не мешал всем.
Однажды в Рождество, сделав визит приятелю, я нашел, что четырнадцать или пятнадцать старых дам и мужчин торжественно ходят вокруг ряда стульев, в центре гостиной, тогда как Попльтон играет на рояле. От времени до времени публика перестала ходить и в утомлении бросалась в ближайшие кресла, кроме одного, который спокойно убирался прочь, а за ним следовали завистливые взгляды тех, которые оставались позади.
Я стоял у дверей, наблюдая эту странную сцену. Вдруг один из удравших игроков подошел ко мне; я спросил его, что значит эта церемония.
– Не спрашивайте меня, – мрачно ответил он, – какие-то проклятые глупости Попльтона.
Слуга все еще ожидал возможности объявить о моем приходе. Я дал ему шиллинг, чтобы он не делал этого, и затем убрался прочь незаметно.
После хорошего обеда, он тотчас же предлагал импровизировать танцы, и заставлять вас сдвигать кресла или помочь ему отодвинуть фортепиано на другой конец комнаты. Он знал достаточное количество игр, чтобы устроить своего рода маленький ад; как раз в то время, когда вы увлекаетесь интересным разговором или очаровательным tete a tete с красивой женщиной, он налетал на вас и кричал: «Пойдемте! Мы будем играть в литераторов», тащил вас к столу и, положив перед вами кусок бумаги и карандаш, приказывал сделать описание вашей героини в романах. Он никогда не жалел самого себя, всегда вызывался проводить на станцию старых дам и никогда не успокаивался до тех пор, пока не усаживал их не на тот поезд.
Он всегда готов был играть в диких зверей с детьми и так пугал их, что они не могли спать всю ночь. Насколько дело касалось добрых намерений, он был самый добрый человек на свете. Он никогда не посещал больных, не захватив с собою в кармане какой-нибудь хорошей штучки, которая еще больше ухудшала их положение.
Он устраивал экскурсии на яхтах для тех, которые не выносили моря, и ему казалось, что их морская болезнь просто неблагодарность. Он любил устраивать свадьбы. Раз он устроил дело так, что невеста приехала в церковь на 3/4 часа раньше жениха. Это совершенно испортило день, назначенный для радостей.
В другой раз он забыл пригласить священника. Но он всегда готов был допустить, что ошибся.
Но и в минуты горя он был всегда на первом месте, доказывая пораженным горем родственникам, как хорошо, что этот человек умер, выражая благочестивую надежду, что и они скоро присоединятся к нему.
Одним из величайших наслаждений его было вмешиваться в домашние споры других людей. Ни одна домашняя ссора на целую милю в окрестности не кончилась без его помощи. Он всегда принимал участие в качестве посредника и заканчивал свою роль как свидетель на суде. В качестве журналиста или политика он, с его удивительной способностью понимать чужие дела, несомненно заслужил бы уважение, но его ошибка состояла в том, что он пускал свою способность в ход на практике.








