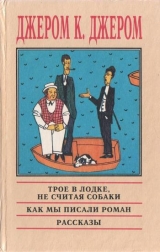
Текст книги "Веселые картинки"
Автор книги: Клапка Джером Джером
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
– Но как же она устроила с платьем для путешествия? – продолжал я. – Не могла же она пойти назад к тете Иоанне и переменить костюм.
У доктора не было соображения для деталей.
– Не могу вам сказать относительно этого, – возразил он. – Мэри была умной девушкой и могла подумать о деле. Все это графиня сообразила.
– Я люблю чистенькие истории, где все поставлено на свое место. Ваши современные романисты оставляют половину лиц, валяющимися бог знает где.
– Я этого не могу вам сказать, – возразил доктор, – но я думаю, что у ней хватило настолько рассудка. Ведь лорд К. был совершеннолетним, а с Мэри под рукой он знал, что делать. Кажется, они путешествовали два или три года. Когда я в первый раз увидел графиню, урожденную Мэри Сюелль, то подумал, что она настоящая графиня (впрочем, тогда я еще не слыхал этой истории), а графиню-мать принял за экономку.
Blase
Это было в конце августа. Он и я казались единственными людьми в клубе. Он сидел у открытого окна, а газета лежала около него на полу. Я подвинул кресло несколько ближе к нему и сказал:
– Доброе утро!
Он зевнул.
– Доброе утро! – ответил он, слегка картавя (тогда это как раз начинало входить в моду, а он был всегда очень корректным).
– Я боюсь, что будет жаркий день, – продолжал я.
– Пожалуй, – был ответ.
После этого он повернул голову и закрыл глаза. Я подумал, он не хочет разговаривать. Но это только вызвало во мне желание поговорить с ним, и именно с ним, а не с кем-нибудь другим. Мне захотелось раздразнить его, разбить его несокрушимое спокойствие. Я собрался с силами и принялся за работу.
– Интересная газета, этот «Тайме», – заметил я.
– Очень, – ответил он, подымая газету с пола и протягивая ее мне, – не хотите ли почитать ее?
Я постарался придать моему голосу веселость, которая, как думал, раздразнит его. Но в его манерах виден был человек, которому просто скучно. Я говорил ему о газете, а он все-таки продолжал сидеть с тем же утомленным видом. Я пространно поблагодарил его, думая, что он терпеть не может длинных речей.
– Говорят, что прочесть передовую статью в «Тайме», – настаивал я, – отличный урок в английском языке. Так и мне говорили, – спокойно ответил он, – но я их никогда не читаю. – «Тайме», как я убедился, не может мне в этом помочь.
Я закурил папиросу и спросил его почему он не охотится?
Он призналсяв этом. При теперешних обстоятельствах, ему трудно было бы отрицать это. Но необходимость сознаться в этом раздразнила его.
– Что касается меня, – сказал он, – то проходит несколько миль по грязи в обществе четырех мрачных людей в черном платье, парой утомленных собак, с тяжелым ружьем только для того, чтобы убить несколько птиц на 12 1/2 шиллингов, – право, это кажется мне чем-то несуразным.
Я громко захохотал, крича:
– Хорошо, хорошо, очень хорошо!
Он принадлежал к тому типу людей, которые внутренне вздрагивают при звуке хохота.
Мне хотелось похлопать его по спине. Но я подумал, что это, пожалуй, совсем спугнет его, и спросил, охотится ли он верхом. Но он ответил, что четырнадцать часов разговора о лошадях и только о лошадях – утомляют его, и поэтому он должен был оставить верховую охоту.
– Удите ли вы рыбу? – спросил я.
– У меня нет для этого достаточно воображения, – ответил он.
– Вы путешествуете?
Он как будто решился поддаться судьбе и повернулся ко мне с покорным видом. Одна из моих прежних нянечек говорила, что я самый надоедливый ребенок из всех детей, которых она знала, но я предпочитаю называть себя настойчивым.
– Я ездил бы больше, – сказал он, – если бы я мог видеть разницу между одним местом и другим.
– Пробовали вы побывать в центральной Африке? – спросил я.
– Раз или два, – ответил он. – Это напоминает мне всегда Кьюский сад.
– А Китай? – спросил я.
– Нечто среднее между тарелкой и Нью-Йоркским предместьем.
– А Северный Полюс? – попробовал я, думая, что в третий раз я успею.
– Ни разу не добрался до него, но раз доехал, все-таки, до мыса Гаклит.
– Как это подействовало на вас? – спросил я.
– Это на меня совсем не подействовало, – ответил он.
Разговор перешел на женщин, веселые компании, собак, литературу и тому подобные вещи. Я нашел, что он знает обо всем и утомлен всем.
– Они меня веселили, – говорил он о женщинах, – до тех пор, пока не сделались слишком серьезными. А теперь они просто поглупели.
В эту весну я вошел с Биллем в более тесные отношения, потому что случайно, спустя месяц после нашего разговора, мы оба очутились в гостях у одной очаровательной женщины, и я более полюбил его. Он был очень полезным человеком. В вопросах вкуса можно было всегда следовать его примеру. Все знали, что его галстуки, его воротники, чулки и все всегда было правильно, если не самой последней моды.
На социальных тропах он был незаменим в качестве руководителя, философа и друга. Он знал все и обо всем, был знаком с прошлым каждой женщины и метко высказывался о будущности мужчин. Он мог показать угольный сарай, где в дни невинности играла графиня Гленлеман. Мог вас повести на завтрак в кондитерскую около Майененрода, где ее «основал в 1820 году» Самуил Смит, родной брат всемирно известного романиста Смита Страстфорта, проводивший на прибыль от своих котлет и хлеба с колбасой свое некритикованное и не фотографированное существование. Он мог сразу сказать, какая торговая фирма с кем была связана и сколько заплачено за каждый титул баронета в последние двадцать пять лет. Он мог бы вместе с королем Карлом сказать, что никогда не сделал ни одной умной вещи. Он презирал или только говорил, что презирает большинство людей, а те люди, мнение которых чего-нибудь стоило, открыто презирали его.
Так я думал о нем до тех пор, пока в один прекрасный день он не влюбился, или, говоря словами Тедди Тидмарша, который доставил нам эту новость, «он втюрился в Герти Ловелль, знаете, эту красноволосую», объяснил Тедди, желая отличить ее от ее сестры, которая недавно приобрела более модный золотой оттенок волос.
– Герти Ловелль! – воскликнул капитан, – да ведь я всегда слышал, что девушка Ловелль, не имеет ни копейки за душой?
– Должно быть какой-нибудь дяденька, торговец свининой или бриллиантами, появился в Австралии, в Америке или другом каком-нибудь месте, и Билли вовремя узнал об этом. Билли знает, что делает.
Мы согласились, что такое объяснение весьма возможно, хотя во всех других отношениях Герти Ловелль была как раз такой девушкой, которую разум мог бы выбрать для Билли. Солнечный свет был для нее не слишком благосклонен, но на вечерних партиях, когда свет не очень силен, она выглядела, вполне девочкой. Вообще, она не была красавицей, но зато – в ней во всякое время видно было что-то такое элегантное, что нельзя было пройти мимо, не заметив ее. Да и одевалась она безукоризненно. По характеру она была типическим образцом светской женщины, всегда привлекательной, вообще tout comme il faut. Она ходила в Кенсингтон за верой и в Мейферт за моралью. Она могла одинаково легко за каждым чайным столом болтать о философии, филантропии и политике. Ее идеи были всегда самыми новыми, а ее мнение было мнение того, с кем она говорила. Когда один знаменитый романист спросил госпожу Банд, жену художника, о ее мнении о Герти Ловелль, она с минуту молчала, а затем сказала:
– Она – женщина, для которой жизнь не может сделать лучшего подарка, как приглашение на обед к герцогине, а ее натура не может выдержать более серьезного страдания, чем огорчение, причиненное неудавшимся костюмом.
В то время я сказал бы, что эта эпиграмма была настолько же справедлива, насколько и зла. Но, по-видимому, мы плохо знали друг друга; я встретил Билли на следующее же утро на ступенях Савойского ресторана и мне показалось, если только дрожание электричества не обмануло меня, что он слегка покраснел.
– Чудесная девушка, – сказал я, – счастливый вы человек, Билли!
Это было фразой, которую требовал в таких случаях обычай, и она сама соскочила с моего языка, но он схватился за нее как будто она была перлом дружеской откровенности.
– Вы полюбите ее еще больше, когда лучше узнаете. Она совершенно отличается от обыкновенных женщин. Приходите повидаться с нею завтра после обеда, она будет очень рада. Приходите часам к четырем, я ей скажу, она вас подождет.
Я позвонил в десять минут шестого. Билли был уже там. Она поздоровалась со мною с некоторым стеснением, которое страшно шло к ней и производило приятное впечатление.
Она сказала, что с моей стороны очень мило прийти так рано. Я посидел с полчаса, но разговор не завязывался, и мои самые ловкие заметки не привлекали никакого внимания.
Когда я поднялся, чтобы уйти, Билли сказал, что и ему нужно идти и что он пойдет со мною. Если бы они были обыкновенными людьми, влюбленными друг в друга, я постарался бы дать им возможность попрощаться наедине, но в данном случае такая тактика была совершенно излишней, так что я предпочел подождать, пока они пожали друг другу руки, и вместе с ним отправился вниз. Но в передней Билли внезапно воскликнул:
– Ну, вот, полминуты! – и побежал назад вверх по лестнице, перескакивая по три ступеньки сразу.
По-видимому, он нашел то, что искал, на площадке, потому что я не слыхал, как он открывал дверь гостиной!
Затем, уважаемый Билли возвратился со спокойным, трезвым видом.
– Забыл перчатки, – объяснил он, взяв меня за руку, – постоянно забываю повсюду свои перчатки.
– Я не сказал ему, что видел, как он вынул их из шляпы и положил в карман сюртука.
В клубе Билли появлялся очень редко в продолжении целых трех месяцев. Но капитан, гордившийся тем, что он играл роль клубного циника, думал, что наша потеря будет вознаграждена после свадьбы.
Однажды в полутьме я увидал фигуру, напоминавшую Билли, в сопровождении другой фигуры, которая могла принадлежать старшей мисс Ловелль, но так как это было в Баттерси Парке, совершенно не модном месте для вечерних прогулок, и так как обе фигуры держали друг друга под руку, то я и решил, что ошибся. Я увидал их однажды в театре «Адельфи», в ложе, где они увлекались мелодрамой. Я подошел к ним в антракте и посмеялся над игрой, как всегда делают в «Адельфи», но мисс Ловелль совершенно серьезно попросила меня не портить ее впечатления, а Билли захотел было поступить посерьезнее и начал спор о том, имел ли право человек обходиться так с женщиной, как только что тут обходился со своей возлюбленной Вилли Террисс.
Я оставил их и возвратился к своему обществу и думаю, что и те и другие были этим довольны.
В свое время они повенчались. Ошиблись они только в одном: она не принесла Билли никакого приданого, но казалось, что они могут вполне удовольствоваться его не слишком большим состоянием. Они заняли хорошенький домик недалеко от станции «Виктория» и в продолжении сезона нанимали карету. Они не давали многих праздников, но ухитрялись показываться везде, где мода требовала, чтобы их видели. Уважаемая мистрисс Дрейтон была далеко более молодой и изящной особой, чем была старшая мисс Ловелль, а так как она продолжала великолепно одеваться, то ее общественное значение быстро поднималось. Билли ходил за нею повсюду и, очевидно, гордился ее успехом. Говорили даже, что он рисовал для нее ее платья. Я сам видел, как он внимательно изучал платья в окнах Рессель и Аллен.
Предсказание капитана не сбылось. Билли, если это имя еще можно было применить к нему, после венчания, почти совсем не посещал клуба, но я начал очень любить его, и, как он предсказал, – и его жену. Я находил в их спокойной индиферентности к горячим вопросам дня положительное облегчение от напряженной атмосферы литературных и артистических кружков. В гостиной их маленького домика в Итон-Ро сравнительные достоинства Меридита и Симса не считались достойными обсуждения, а на обоих смотрели как на людей, доставляющих некоторое количество забавы в обмен на некоторое количество денег, и в любой вечер, по средам, Генрих Ибсен и Артур Роберте были бы одинаково хорошими гостями, если бы они прибавили немножко более пикантности небольшому собранию. Если бы мне пришлось провести всю мою жизнь в таком доме, такое филистерское настроение могло бы показаться мне тяжелым. Но при данных обстоятельствах оно освежало меня, и я с удовольствием посещал своих знакомых.
С того времени, как казалось они все более и более увлекались друг другом, хотя, как мне пришлось слышать, в фешенебельном обществе так бывает не всегда.
В один прекрасный вечер я прибыл немножко раньше назначенного времени и лакей повел меня в гостиную. Они, обнявшись, сидели в полутьме. Уйти не было никакой возможности, и я начал уже смеяться. Пара влюбленных, лет в 50 каждый, не была бы более смущена или удивлена моим появлением. Этот случай, однако, установил между нами более близкие отношения и на меня начали смотреть, как на друга, перед которым не было особенной надобности скрываться. Изучая их, я пришел к тому заключению, что способы любви во всем мире совершенно одни и те же, как если бы глупый мальчик Амур, совершенно не понимая человеческого прогресса, имел одну и ту же систему для небольшого поэта и приказчика из мелочной лавки, для аристократки-девушки и мастерицы-шляпочницы и задавал один и тот же урок человеку XIX века и бородатому Пикту или Гуку четыре тысячи лет тому назад.
Таким образом, лето и зима превосходно прошли для почтенного Билли, а затем как будто бы этого захотела сама судьба, он заболел как раз в середине лондонского сезона, когда со всех сторон неслись приглашения на балы и обеды, завтраки и приемы, когда игры в мяч и модный крокет были в полном ходу. Несчастной случайностью было и то, что моды этого сезона шли к достопочтенной мистрисс Билли, как ни одни моды не шли к ней целые годы. Ранней весной она и Билли усердно работали, сочиняя костюмы, которые должны были наделать шуму во всем аристократическом Лондоне. Костюмы и шляпки, каждая вещь, – произведение искусства, стояли на своих местах, ожидая своей работы. Но почтенная мистрисс Билли в первый раз в жизни перестала интересоваться такими вещами. Их друзья были искренно удивлены, потому что общество было родной стихией мистрисс Билли и в нем она была интересна и забавна, но, как сказала лэди Гавер «не было ни малейшей нужды, чтобы его жена сделалась отшельницей. Ее удаление от света не принесет ему никакой пользы и покажется довольно странным». Согласно с этим мистрисс Дрейтон, для которой «странное поведение» казалось преступлением, а голос леди Гавер – голосом долга, принесла в жертву свои наклонности в алтарь общественной службы, туго затянула свое новое платье над своим болящим сердцем, и пустилась в общество.
Но в этот сезон госпожа Дрейтон не достигла тех успехов, каких она достигала раньше. Ее пустой разговор сделался настолько пустым, что даже модная публика нашла его неудовлетворительным. Ее знаменитый смех звучал как-то механически, она улыбалась над мудростью герцогов и мрачно смотрела, выслушивая остроумные истории миллионеров. Общество назвало ее хорошей женою, но объявило, что она не умеет держать себя в обществе и ограничивалось оставлением у них своих визитных карточек. За это мистрисс Дрейтон была очень благодарна, потому что Билли становился все слабее и слабее. В мире теней, в котором она двигалась, он для нее был единственной настоящей вещью. Она приносила очень мало практической пользы, но ее утешала мысль, что она помогает, поддерживает его. Что касается самого Билли, то это его беспокоило.
– Я хотел бы, чтобы вы побольше выходили, – говорил он. – Я начинаю чувствовать, что я ужасное эгоистичное животное, так как держу вас чуть не на привязи в этом печальном домике. Кроме того, – прибавлял он, – общество почувствует ваше сочувствие, и на меня будут сердиться за то, что вас в нем нет.
В тех случаях, где дело касалось его жены, знание света очень мало помогало Билли. Ему казалось, что общество страшно нуждается в мистрисс Дрейтон и будет неутешно там, где ее нет.
– Я предпочла бы побыть с вами, мой дорогой, отвечала она. – Я не хочу выходить одна, вы должны поправиться и брать меня с собой.
Так продолжалось до тех пор, пока однажды вечером, когда она сидела одна, женщина, ухаживавшая за больным, тихо вошла к ней, заперла за собою дверь и подошла к ней.
– Я бы хотела, чтобы вы сегодня вечером куда-нибудь пошли, мадам, на час или на два. Я думаю, что это доставило бы удовольствие барину. Его очень мучит, что вы не выходите. Как раз теперь (женщина с минуту помолчала), – как раз теперь я хотела бы, чтобы он был совершенно спокоен.
– Разве ему хуже?
– Но, мадам, ему не лучше. Я думаю, я думаю… что мы должны повеселить его.
Почтенная мистрисс Дрейтон встала и, пройдя к окну, постояла с минуту, смотря на улицу.
– Но куда же я пойду! – сказала она наконец с улыбкой к женщине, – я никуда не приглашена!
– Не можете ли вы сказать, что вы приглашены? – сказала женщина. – Ведь теперь только семь часов. Скажите, что вы отправляетесь на званый обед; в таком случае вы можете возвратиться рано. Подите, оденьтесь и придите проститься с ним. А затем, войдите в комнату часов в 11, как будто бы вы только что возвратились.
– Вы думаете, что мне следует так сделать?
– Кажется, так будет лучше, мадам. Я бы хотела, чтобы вы это попробовали.
Мистрисс Дрейтон подошла к двери и сказала:
– У него такой острый слух, он будет прислушиваться к тому, как откроют дверь и как подъедет карета.
– Уж об этом я позабочусь, – сказала женщина. Я прикажу подать карету без десяти минут восемь, тогда вы можете доехать до угла улицы, выйти и пройти назад пешком. Я вас сама впущу.
– А как же возвратиться? – сказала она.
– Вы должны выйти из дому за несколько минут до одиннадцати, и карета вновь подождет вас около угла. Предоставьте все это мне.
Спустя полчаса, госпожа Дрейтон вошла в комнату больного в блестящем вечернем платье и бриллиантах. К счастью было не очень светло, так как в противном случае Билли мог возыметь сомнения относительно эффекта, который его жена должна была произвести, так как ее лицо было не совсем годно для званого обеда.
– Моя сиделка сказала, что вы идете сегодня вечером к Гривилям. Я очень рад. Я ужасно беспокоился относительно вас. Нужно же мне было улечься здесь как раз во время сезона.
Он взял ее за руки и посмотрел на нее.
– Как вы красивы, моя дорогая! – сказал он. – Уж ругают же они меня за то, что я вас держу здесь в заключении, как принцессу в замке колдуна. Я никогда не решусь опять встретиться с ними!
Он засмеялся, и в его словах чувствовалось удовольствие.
– Я возвращусь рано, – сказала она, – мне так необходимо прийти назад и посмотреть, что тут делается. Если вы будете дурно вести себя, я более никогда не уйду.
Они поцеловались и разошлись. А в одиннадцать часов она возвратилась в его комнату и сказала ему:
– Что за великолепный вечер я провела! – и похвасталась немножко своим успехом.
Впоследствии, женщина, ухаживавшая за больным, сказала ей, что в этот вечер он был веселее, чем во всякий другой день, поэтому такая комедия разыгрывалась ежедневно. То она отправлялась на завтрак к Редферну, то на бал, на концерт, на прием, на обед. Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на исхудавшую, с покрасневшими глазами женщину, одетую как на бал и выходящую как вор из своей собственной двери. Я услышал, как однажды говорили о ней в одном доме, куда я зашел.
– Я всегда думала, что у нее нет сердца, но по крайней мере я считала ее умницей, – говорила одна женщина. – Нечего было ожидать, что эта женщина будет любить своего мужа, но, по крайней мере, незачем выставлять на вид, что она и знать не хочет, что он присмерти.
Сославшись на свое отсутствие из города, я спросил в чем дело, и все рассказывали мне одно и то же. Один заметил, два или три раза, ее карету у дверей ее дома, другой видел, как она возвращалась домой, третий заметил, как она выходила, но я не мог согласовать эти факты с тем, что знал о ней, и потому отправился к ней на следующий день вечером. Она сама открыла мне дверь.
– Я видела вас из окна, – сказала она, – войдите, но не говорите ничего.
Я пошел за ней. Она заперла за собою дверь. Она была одета в великолепный костюм с бриллиантами в волосах, а я смотрел на нее как на воплощенный вопрос. Она горько рассмеялась.
– Предполагается, что сегодня ночью я в опере, – объяснила она мне. – Садитесь, если у вас есть минуты две свободные.
Я сказал, что пришел поговорить с ней. И в этой темной комнате, освещенной снаружи уличной лампой, она мне все объяснила. В конце своего рассказа она опустила голову на свои обнаженные руки, а я повернулся и некоторое время смотрел в окно.
– Я чувствую себя такой смешной, – сказала она, подходя ко мне, – я весь вечер сижу здесь, вот в таком наряде. Боюсь только, что я разыгрываю свою роль не совсем хорошо. Но, к счастью, этого достаточно для Билли. Я говорю ему самую отчаянную ложь о том, что мне сказали, что я сказала и как восхищались моим платьем. Что вы думаете об этом?
Я ответил, как друг.
– Я рада, что вы обо мне хорошего мнения, – сказала она. – Билли имеет такое же высокое мнение о вас. Вы услышите несколько странных историй, и рада, что вы знаете, в чем дело.
После этого я должен был оставить Лондон и прежде, чем я возвратился, Билли умер. Говорили, что ее пришлось пригласить с бала, и она попала как раз вовремя, чтобы прикоснуться к нему губами прежде, чем он похолодел.
Ее друзья оправдывали ее, говоря, что конец наступил слишком неожиданно.
Я посетил ее несколько позже и прежде, чем расстался с ней, намекнул на то, о чем говорили, и спросил ее, не лучше ли будет рассказать правду.
– Лучше было бы, если бы вы не Говорили, – ответила она.
– Но, – настаивал я, – они подумают…
Она меня прервала:
– Ну, стоит ли обращать внимание на то, что они подумают.
Это поразило меня, как удивительное чувство со стороны почтенной мистрисс Дрейтон, урожденной старшей мисс Ловелль.








